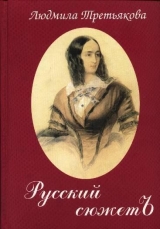
Текст книги "Русский Сюжетъ"
Автор книги: Людмила Третьякова
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 18 страниц)
* * *
Мы даже не представляем, от какой мелкой, ничего не значащей случайности зависит наша судьба. Если бы человек нашел время и желание вникнуть в этот несомненный факт, он был бы глубоко потрясен: неужто его драгоценная, единственная жизнь, на обустройство которой он затрачивает столько сил, в сущности, игрушка, порой совершенно не замечаемых нами на удивление мелких обстоятельств?
Разве мог знать генерал Ланской, что, убегая за пределы Отечества, от вконец измучивших его отношений с любовницей, отправляется навстречу своему счастью, ожидавшему его именно в России? Как быстро все то, что годами, даже десятилетиями ему казалось самым важным и неизменным, сойдет на нет, как будто его никогда и не было – стоило оказать пустяковую любезность давнему знакомому?
А Наталья Николаевна? Молодая женщина, но уже во вдовстве успевшая прожить больше, чем в непростом супружестве с Пушкиным, думала ли она, что жизнь еще не кончена и надо немного потерпеть? Хотя правду сказать, у нее голова от всех забот и неприятностей – «ей-Богу, но так иногда жутко приходится» – шла кругом.

Летний сад – излюбленное место прогулок петербуржцев – не раз видел под своей сенью Наталью Николаевну. Прохожие оглядывались вслед высокой красивой женщине с четырьмя детьми.
...Все лето 1843 года Наталья Николаевна проболела. Осенью же пришло известие о смерти во Франции старшей сестры Екатерины – той самой, что вышла замуж за Дантеса. Хоть отношения между ними были разорваны, несомненно, это печалью отозвалось в ее сердце.
Неведомый вдове генерал Ланской тоже переживал не лучшие времена. Отношения с госпожой Полетикой зашли в тупик. Нравственно и физически сильный, сдержанный человек чувствовал себя так дурно, что, выпросив отпуск, скрылся из Петербурга.
Ему казалось, что в отдалении от женщины, принесшей ему столько страданий, он развеется, поуспокоится и, возможно, даже воспрянет духом.
Однако человек всегда носит свое несчастье при себе. В Баден-Бадене Ланского продолжали одолевать горькие мысли. Единственной отдушиной для него было общение с давним знакомцем Иваном Николаевичем Гончаровым, который тоже оказался на этом курорте, надеясь подлечить здесь болезненную жену.
Ланской и Гончаровы за это время сердечно сошлись. Но у генерала отпуск кончался. Супруги с сожалением прощались с ним. Узнав, что генерал возвращается прямо в Петербург, Иван Гончаров попросил его завезти письмо и посылку жившей там сестре Наталье Николаевне. Генерал, конечно, взялся выполнить поручение.
В столице он без труда нашел квартиру Пушкиной, которая стараниями тетки-фрейлины перебралась с Аптекарского острова ближе к центру города и занимала квартиру возле Конюшенного моста, недалеко от того дома, где жила с Александром Сергеевичем.

Как только Пушкина не стало, число поклонников у прекрасной Натали сильно поубавилось. Причина была очевидна – четверо детей. Давний приятель поэта П.А.Вяземский, человек женатый, настойчиво добивался взаимности вдовы. Ей потребовалось немало усилий, чтобы остудить его чувство.
Ланской не оставил ни записей, ни воспоминаний. Мы можем только догадываться о впечатлениях его первого визита к Наталье Николаевне. Наверняка за общим разговором, рассказом о баденских знакомствах, тамошнем житье-бытье и родилось то неясное, необъяснимое, чего не высказать словами и что привело его в дом вдовы еще и еще раз – благо, он в знак благодарности получил приглашение бывать у нее.
Уже наступила зима, выпал снег, запорошив чугунную решетку вдоль Мойки, мост через нее, крыши окрестных домов, а Ланской проторенной дорогой все спешил в семейство Натальи Николаевны.
Петр Петрович не без удивления открыл для себя, что чары его старинной пассии и все, что недавно имело над ним сильную власть, рассеиваются, как холодный туман в лучах разгоравшегося погожего утра. Ему стало ясно, что он может любоваться и восторгаться другой женщиной, вблизи которой он наконец-то почувствовал себя тем, кем был на самом деле: волевым человеком, способным изменить к лучшему не только свою судьбу, но жизнь этой грустной красавицы.
Новая любовь взрастала на пепелище, но от этого Ланской, быть может, еще с большим вниманием лелеял эти хрупкие ростки. Когда-то пропущенное из-за очевидной несуразности мимо ушей высказывание ветреной Идалии, теперь казалось ему единственно верным и дельным из всего того, что он слышал от этой лживой женщины: «...во всем мире существует только одна женщина, способная составить ваше счастье, – это Наталья Пушкина, и на ней-то вам следовало бы жениться!»
Спасибо, Идалия! Он уже и сам приходил к мысли, что ему пора покончить со своей холостяцкой жизнью. Дети Натальи Николаевны не пугали его. Сам выросший в большой семье среди братьев и сестер, где все были дружны между собой, он, пожалуй, видел даже Божье провидение, что ему, нынче одинокому, посылается разом все, без чего жизнь человека грустна и ущербна: жена, ребятишки, словом, полное семейство.
И все-таки Ланской постарался все хорошенько обдумать и взвесить, зная, что шаг его будет решительным и бесповоротным. Определенную тревогу внушало то, что не только миллионов, но и просто вполне надежного материального запаса у него не имелось. Собственное состояние, которое лежало в основе благоденствия дворянина, у Петра Петровича было незначительно. Он считался помещиком средней руки, имея две небольшие усадьбы в Новгородской и Псковской губерниях и около пятисот душ крепостных.
Но Ланской был свободен от страсти к мотовству, кутежам, картам, которые могли превратить в пыль наследства нескольких поколений. Одному ему, человеку скромных потребностей, имеющегося хватало с избытком. Конечно, у Ланского было еще генеральское жалованье, однако из одного жалованья двух не сделаешь.
Беспокоило Петра Петровича и то, что, по некоторым предположениям, его должны были перевести служить далеко от Петербурга, в настоящее захолустье. Как там учить детей? Он уже знал, что на первом плане у Натальи Николаевны стоят интересы ее потомства, поэтому смену местожительства относил к разряду совершенно неподходящих для нее обстоятельств. Раздумья и раздумья, сомнения и сомнения. Только он прогонял одно, как подступало другое.
Сколько раз благословлял потом Петр Петрович свое сердце, которое настойчиво шептало ему, заглушая голос разума: «Ты обрел свое счастье, не упусти его!..»
К тому же наступала весна, вечная сообщница влюбленных. В тот год неожиданно дружная, теплая, она уже в мае заставила петербургскую сирень выбросить сизые листочки, просушила и дорожки в Летнем саду.
Отправившись туда гулять с Натальей Николаевной и ее семейством, Ланской все думал, как бы это просто, без излишнего пафоса посвятить свою спутницу в планы, которые вызрели в нем.
Мальчики бегали по боковым аллеям, дочки Маша и Таша шли с гувернанткой за ними вслед. Неожиданно Наталья Николаевна сказала, что собирается в Ревель: врачи советуют отвезти детей на морские купания, и как только тепло утвердится, они отправятся в путь.
– Тут я денег не жалею, лишь бы они здоровы были, – добавила она. – Вяземские и Карамзины тоже едут. Хорошо, я буду не одна...
– Да, конечно, – пробормотал Ланской в некоторой растерянности от предстоявшей разлуки с нею. Сколько это продлится? Три, четыре месяца... Ну что ж! Может, оно и неплохо – есть время еще раз все взвесить, продумать.
Но достойный похвалы замысел Натальи Николаевны относительно морских купаний не соответствовал тому, что уже было решено на Небесах. И все последовавшие события явились тому подтверждением.

От каких только случайностей зависит благополучие человеческое! Любимый брат Пушкиной, Иван Николаевич Гончаров, попросил приятеля передать сестре письмо и посылку. А оказалось, что вместе с бравым кавалергардом Ланским в одинокий дом пришло счастье.
Во-первых, совершенно неожиданно для него, Ланской, собравшийся было прощаться с Петербургом, был назначен командиром одного из самых привилегированных полков – Конногвардейским, шефом которого состоял сам император. Новая должность приобщала Петра Петровича к столичной военной знати, вводила в круг людей, близких к императору. Меняла она и материальное положение генерала: теперь ему полагалось жалованье больше, чем прежде и просторная квартира, оплачиваемая за казенный счет. В это самое время произошли изменения и в планах Натальи Николаевны: поездка на морские купания не состоялась, она повредила ногу. Вот лишний повод подумать о том, что скверное событие может обернуться прологом счастливого: Ланской, ввиду разъехавшихся друзей вдовы, по-рыцарски опекал ее, был окончательно и безвозвратно очарован ею и в конце концов предложил руку и сердце.
Выйти замуж?.. Как всякая бы на ее месте женщина она не однажды задумывалась, что влечет к ней Ланского. К людям просто общительным этого генерала, который за чаем все больше молчит и слушает ее женскую болтовню, не отнесешь. Да и какое это общество, развлечение – ее вдовий дом с детьми, сестрой, старой девой, нехитрым угощением?!
Но таких вечеров, проведенных генералом в ее семействе, набралось слишком много, чтобы не придать этому значения. Когда Ланской уходил, Александрита все настойчивее толковала сестре, что его визиты неспроста и Петр Петрович вот-вот сделает ей предложение. Остаток вечера, продолжая рукодельничать, – обычно они перешивали старые платья, чинили детскую одежду – сестры проводили в рассуждениях о возможной перемене участи.
Наталье Николаевне нравился этот серьезный, основательный, как видно, человек. Ее располагало отсутствие всякой позы, краснобайства, желания интересничать, казаться затейливым, что она часто замечала в мужчинах, желавших привлечь ее внимание. Так же естественно относился Ланской к ее детям. Как он обращался с ними, чем они платят ему – за этим Наталья Николаевна следила пристально. И понимала – от этого зависит ее решение.
Как-то среди ее поклонников появился один очень богатый, преклонных лет человек, видимо, имевший серьезные намерения. Может быть, это кончилось бы замужеством, но однажды на прогулке она заметила, как сыновья, немного поотстав от них и прячась за кустами, швыряются снежками, стараясь попасть в спину ее кавалеру. Так случалось ни один раз, и она поняла – этот человек не нравится детям. Да и сам он понял это, деликатно и навсегда удалившись.
В отношении Ланского ничто не вызывало тревоги Натальи Николаевны. Все чаще и чаще она думала о нем с тихим радостным чувством. И чем больше думала, придирчиво перебирая мельчайшие эпизоды их знакомства, тем чаще задавалась вопросом: а что, если это судьба? И давняя картина, стертая происшедшими вслед трагическими событиями, теперь опять вставала перед ней. О том, что произошло, мы знаем в передаче одной из дочерей Натальи Николаевны, которая ручалась за достоверность происшествия, потому что слышала о нем «от самой матери».
Случилось это за несколько месяцев до роковой дуэли Пушкина. «Мать сидела за работою, – читаем в воспоминаниях, – он (Пушкин. – Л.Т.) весь день провел в непривычном ему вялом настроении. Смутная тоска обуяла его; перо не слушалось, в гости не тянуло, и, изредка перекидываясь с нею словом, он бродил по комнате из угла в угол. Вдруг шаги умолкли, и, машинально приподняв голову, она увидела его стоявшим перед большим зеркалом и с напряженным вниманием что-то разглядывающим в нем.
Наташа! – позвал он страшным, сдавленным голосом. – Что это значит? Я ясно вижу тебя и рядом – так близко! – стоит мужчина, военный... Но не он, не он!.. (Пушкин, вероятно, имел в виду Дантеса. – Л.Т.). Этого я не знаю, никогда не встречал. Средних лет, генерал, темноволосый, черты неправильные, но недурен, стройный, в свитской форме. С какой любовью он на тебя глядит! Да кто же это может быть? Наташа, погляди!
Она, поспешно вскочив, подбежала к зеркалу, на гладкой поверхности которого увидела лишь слабое отражением горевших ламп, а Пушкин еще долго стоял неподвижно, проводя рукою по побледневшему лбу».
Наталье Николаевне предстояло принять важное решение. Она сама усталая, напуганная, если не сказать, сломленная резко незадавшейся жизнью; четверо детей, которых подымать и подымать – вот и все ее приданое. И Ланской – не боится?! Выходит – нет. Мысль об этом отозвалась в ней радостным эхом. И воспоминания о том видении в зеркале, как знак Пушкину, что она не будет брошена на произвол судьбы, оставшись без него, укрепило эту радость. И само собой выходило, что Петру Петровичу она должна ответить только одно – «да».

Как обманчива бывает внешность! В свете побаивались злого язычка Идалии Григорьевны Полетики. Тому, кого она записала в число своих недругов, ни пощады, ни прощения ждать не приходилось.
* * *
По-разному отнеслись к этому решению современники вдовы великого поэта, и уж совсем отрицательно – последующие поколения почитателей Александра Сергеевича. А их было и есть неисчислимо – вся Россия.
Пушкин остается нашей первой любовью. Сколько раз в этой стране менялось все: черное становилось белым, белое – черным, а потом наоборот. Любовь же к поэту – гениальному, убиенному – быть может, единственная постоянная величина, некая общенациональная религия, на которую не смеет посягнуть никто.
Понятно, почему и в тот, пушкинский век, и бездну лет спустя у большинства людей не укладывалось в голове: да разве это возможно – сменить святое для всех имя поэта на какое-либо еще? С жестокостью, свойственной беззаветной любви, историческая память народа не принимала Наталью Николаевну в расчет как живого человека, со своим таким же, как и у всех, быстротечным веком.
Жить лишь памятью о муже-гении и умереть на его могиле – именно к этому уделу приговорило вдову романтическое русское воображение. Любое иное развитие событий считалось отступничеством, предательством, забвением своего долга.
А ведь сам Александр Сергеевич, умиравший с мыслью о своей Натали и тревожась за ее, будущее, никак не одобрил бы такого отношения к ней. Молодая одинокая женщина с четырьмя детьми на руках – он хорошо знал, как ей придется тяжело. И сам назначил срок вдовства своей «мадонне», намного ею превышенный, и наказал выбрать доброго отца своим детям.
Она сделала все, как велел Пушкин...
* * *
Вот что писала о предстоящей свадьбе сестра Натальи Николаевны. Слова, безотлучно жившей в семействе вдовы Александры Николаевны, заслуживают доверия: она была свидетельницей этого неприметного, без всякой внешней эффектности, романа и, уж конечно, самым придирчивым образом следила за каждым шагом, каждым словом неожиданного поклонника сестры.
«Я начну свое письмо, дорогой Дмитрий, с того, чтобы сообщить тебе большую и радостную новость: Таша выходит замуж за генерала Ланского, командира Конногвардейского полка, – адресовалась Александрина к одному из братьев Гончаровых. – Он уже не очень молод, но и не стар... у него благородное сердце и самые прекрасные достоинства. Его обожание Таши и интерес, который он выказывает к ее детям, являются большой гарантией их общего счастья. Но я никогда не кончу, если позволю себе хвалить его так, как он того заслуживает...».
Примечательно, что такую высокую оценку Ланскому дает женщина, питавшая к первому мужу сестры глубокое почтение, преданность, если не сказать о чувствах более нежных. В таких случаях не последнюю роль играет сравнение, даже ревность, но, видимо, действительно – достоинства Ланского были слишком очевидны.
Прислали свое благословение и давно жившие врозь родители Натальи Николаевны: отец Николай Афанасьевич и мать Наталья Ивановна. Что касается ее, то она, не доверяя мнению родных, навела справки о будущем зяте у хорошо знавших генерала лиц. И убедилась, что соискатель руки ее дочери-вдовы «со всеми его моральными качествами... может принести только счастье».
Так откуда родом был этот генерал Ланской, на которого всей родней и друзьями Натальи Николаевны возлагалось столько надежд?
Род Ланских – польский и появился в России в XVI веке. Надо было пройти еще двум столетиям, чтобы имя молодого красавца Александра Ланского запечатлелось в одну из страниц российской истории. Увы, это вовсе не та страница, которой потомком стоит гордиться: Александр Ланской стал фаворитом стареющей Екатерины II. К чести его надо сказать, что он был единственным из вереницы любимцев императрицы, кто не пытался лезть в государственные дела и, похоже, страдал от своей «должности», а умирая совсем молодым, отказался от тех денег, подарков, коими она его осыпала.
Однако хоть и короткий, но столь блистательный фавор Александра Ланского самым благоприятным образом отразился на его родне. Двоюродные братья, среди которых оказался и отец Петра Петровича, получили должности, дома в столице. С другой стороны, известно, что «нашего» генерала нельзя было отнести к богатым людям. Возможно, причиной являлось то, что отцовское наследство было поделено между многими детьми.

«Очаровательные франты минувших лет...» Почти вся жизнь Ланского оказалась связана с Кавалергардским полком. В нем служили молодые люди из лучших семей России. Даже ничего не зная о Ланском, можно безошибочно сказать, что этот человек происходил из ничем не запятнавшего себя рода.
Вот что писала о семье отца старшая дочь Петра Петровича и Натальи Николаевны Александра Ланская, по мужу Арапова. Наверняка ее рассказ был основан на сведениях, услышанных от отца, его братьев, сестер, часто бывавших в их деревне.
«Вся семья Ланских была воспитана в традициях строгой нравственности. Мужчины всегда ставили честь выше всего. Женщины не составляли себе культа из добродетели – это было просто свойство и потребность их природы. Может быть, случалось, что любовь и искушение вкрадывались в душу, но победоносная борьба составляла тайну их перед Богом».
Буквально по следам идут строки, которые невозможно не процитировать особо. Глубоко переживая оскорбительные предположения и намеки, которые преследовали ее мать всю жизнь, Александра Петровна в качестве подтверждения к их преступной абсурдности приводит следующее:
«Он (отец П.П.Ланской. – Л.Т.) никогда не решился бы дать свое безупречное имя женщине, в чистоту которой он не верил бы так же безусловно, как в святость Бога».
Та же Александра Петровна свидетельствовала, что «фаворита Ланского» ее близкие со стороны отца «считали отщепенцем и презрительно говорили о его возвышении, как позорящим весь род».
Петр Петрович имел трех братьев: Александра, Павла и Сергея. Кстати, их мать была урожденная Лепарская – родная сестра начальника Читинского острога С.Р.Лепарского, заслужившего добрую память своим благородным отношением к сосланным декабристам.
Все четверо братьев Ланских были кавалергардами. А что такое кавалергард?
Императорские гвардейцы – «отряд телохранителей, опора двора, цвет, пример и зависть армии, лучшее войско императорской России – оно было великолепно до неправдоподобия, как резьба по золоту, как пышная опора с шестьюдесятью тысячами хорошо обученных статистов». Такую впечатляющую характеристику гвардейцам императора дал советский писатель Леонид Соболев. Но и до него такого мнения была вся Россия.
В гвардейские полки абы кто не попадал. Люди как бы просеивались сквозь мелкое сито. Офицер должен происходить из знатной семьи, нужна была родовитость, обладать высоким ростом, атлетическим сложением. Немалых денег стоило обмундирование. Надо думать, что небогатым родителям Ланским пришлось весьма поиздержаться, определяя сыновей в гвардию.
Но траты были не напрасны. Все Ланские-сыновья дослужились до генеральских эполет, будучи зачисленными в Кавалергардский полк в самом малом звании – юнкерами.
Самое главное, что остается от человека, – это память о благородных поступках. И действительно, мужчины в семье Ланских, умея заслужить звание и награды, все-таки твердо следовали родовому девизу: «Честь превыше всего». И, заметим, превыше самой карьеры, которую они, как все представители «золотой молодежи», конечно же, стремились сделать.
Однажды старший из братьев, Александр, который всегда находился на самом добром счету у начальства, оказался вовлеченным в рискованное дело. А состояло оно в том, что его товарищ граф Ферзен, красавец собою, пленил молоденькую Ольгу Строганову, наследницу могущественного, близкого к престолу семейства. Мать же ее категорически была против такого жениха, как Ферзен: и чужеземного происхождения, и небогат.
И тогда влюбленные решились бежать и тайно обвенчаться. Конечно, похищение из родного дома молодой девушки да еще с такой громкой фамилией являлось шагом отчаянным. Но не менее рисковал и тот, кто согласился быть свидетелем при тайном венчании. Оскорбленная графиня Строганова-мать могла пожаловаться императору Николаю I, а тот в таких случаях на расправу был скор.
И все-таки трое друзей влюбленного графа доказали, что такое истинно мужская дружба. Никто не отказался от участия в замысле. Среди этих троих был и Александр Ланской.
В назначенный час, переодетые кучерами, молодые офицеры подъехали на тройке ко дворцу Строгановых. Выскользнувшую тенью невесту они тут же умчали в заранее приготовленную церковь, где «послужили шаферами и подписались свидетелями».
Хорошенькое дельце! Девушку, разумеется, хватились, но умная мать, не желая скандала, послала дочери письмо с благословением. История все-таки выплыла наружу, и острастки ради император, возмущенный дерзостью своих «телохранителей», повелел графа-молодожена перевести служить в дальний северный гарнизон, а пособников хотел разжаловать в солдаты. Но горячий и очень хвалебный отзыв одного из уважаемых императором генералов о «братьях Ланских смягчил гнев Государя, и Александр Петрович был только переведен 11 августа 1829 г. тем же чином в Мариупольский гусарский полк». Именно такие сведения имеются в знаменитом «Сборнике биографий кавалергардов» под редакцией С.А.Панчулидзева.

Так выглядела Наталья Николаевна, когда судьба послала ей Ланского. Вот что она писала Петру Петровичу: «Я слишком много страдала и вполне искупила ошибки, которые могла совершить в молодости: счастье из сострадания ко мне снова вернулось вместе с тобой».
Ясно, что речь идет не об одном, а о братьях Ланских, принимавших участие в похищении невесты. Из того же «Сборника» известно, что Александр служил в Кавалергардском полку «одновременно со своим младшим братом Петром». Само собой приходит мысль, что еще один из неназванных пособников тайного венчания, как раз «наш» Петр Петрович.
...Мариупольский полк, конечно, не Кавалергардский. Но и там Александр Ланской не затерялся. Кое-кто на него посматривал как на «столичного» искоса, и он решил положить этому конец. Случай представился. Надо было доставить турецкому паше важную бумагу от русского командования с очень неприятным для него содержанием.
«В то время международное право плохо уважалось», – писали об этой истории. Гонец, привезший плохую весть, мог поплатиться головой. А потому вызвали добровольцев. Читатель уже догадался, что первым оказался Александр Ланской. У их семьи было имение под Феодосией, где от местного населения молодые Ланские научились татарскому языку. Довод был убедительный, и опальный кавалергард, захотев заставить товарищей по новому полку уважать себя, ринулся в опасный путь.
Все, что произошло дальше, свидетельствовало о мужестве и высоких нравственных качествах кавалергарда Ланского.

Фамилия Ланских оказалась на слуху в момент нечаянного возвышения молодого кавалергарда Александра Дмитриевича, ставшего фаворитом Екатерины II. Как это водится, императрица облагодетельствовала всю его родню. Несмотря на добрую память, оставленную о себе рано умершим фаворитом, Ланские избегали вспоминать об этой истории.
...Александр благополучно передал паше послание. Тот спросил у гонца, знает ли он содержание бумаги. «Лишь отчасти», – ответил Ланской. Но во время обсуждения турками полученного известия кто-то заметил, как менялось выразительное лицо гонца. И тогда паша спросил, понимает ли русский курьер по-турецки: ведь то, о чем они говорили, было отнюдь не для вражеских ушей. И тогда...
«Сердце Ланского дрогнуло, но и в эту минуту, когда жизнь его висела на волоске, он не способен был солгать. Прямо взглянув на пашу, он чистосердечно сознался, что говорит немного по-татарски и что сходство наречий дало ему смутное понятие о происходивших переговорах. Наступило зловещее молчание. Ланской мысленно уже готовился к смерти...
Но это прямодушие русского офицера, тот характер, который не позволяет солгать даже во свое спасение, видимо, так поразили пашу, что он отпустил гонца восвояси.
Этим скромным подвигом Ланской оказал большую услугу командованию и был возвращен в Кавалергардский полк».
Александру Ланскому не была суждена долгая жизнь. Он умер, оставив дочь Софью и двоих сыновей, названных именами братьев: Петром и Павлом.
А когда дети по смерти матери и вовсе остались сиротами, Софью, Сонечку, выйдя замуж за Ланского, взяла к себе Наталья Николаевна.
Павел Ланской, второй брат Петра Петровича, участвовал в знаменитом Бородинском сражении. Его память «до глубокой старости хранила воспоминания всего пережитого в эти года народной скорби и отечественной славы».
Обстоятельства жизни Павла Петровича сложились так, что долгое время он находил душевную поддержку, теплоту и понимание в семье Петра Петровича и его прекрасной супруги.
Живой, экспансивный, запальчивый Павел Петрович был полной противоположностью своему молчаливому брату, что не мешало им от души нуждаться в обществе друг друга.
И в этом Ланском мы находим те же примеры благородства, чем были отмечены все братья. Широко была известна история, когда корнет Ланской, пересекавший на лошади опустевшее поле сражения, услышал отчаянный крик. В нескольких шагах лежал рядом с убитой лошадью раненый молоденький, лет шестнадцати, французский офицер, а рядом русский солдат уже заносил саблю, чтобы прикончить врага.
«Стой! – крикнул Павел. – Лежачего не бьют. Покупаю у тебя пленного. Золотой за мной».
Было ясно, что без помощи пленник погибнет. Надо было что-то предпринять. Посадив француза к себе на лошадь, Павел довез его до ближайшей деревни. «Ланской не был богат, – пишет Панчулидзев, – но у него нашлась пара золотых, которые он сунул недоумевавшему перед этой картиной местному крестьянину, поручая ему уход за французским драгуном».
Спасенный юноша напрасно просил великодушного русского офицера назвать свое имя. «Зачем вам? Впрочем: я – кавалергард и зовут меня Поль. Счастливо оставаться, приятель!»
И, пришпорив коня, поскакал догонять свой полк.
«В течение своей долгой жизни, хотя полк и фамилия француза были ему известны, – пишет составитель биографий кавалергардов о Павле Ланском, – он не сделал никакой попытки осведомиться о его дальнейшей участи, чтобы не вызвать проявления, как ему казалось, незаслуженной благодарности».
Когда читаешь воспоминания сослуживцев о Павле Ланском, становится ясно, что, кроме братской привязанности, объединяло братьев. Это безграничная любовь к службе, которая многим кавалергардам казалась однообразной и докучливой.
Павел Петрович считался одним из лучших кавалеристов и знатоков конного дела во всей русской армии, и недаром его назначили командиром Образцового полка, цель которого состояла в том, чтобы готовить инструкторов для всей русской кавалерии.
Иногда нетерпеливость Павла Петровича, неумение владеть собой на манеже приводили к страшной суете, недоразумениям, обидам. «Его вспыльчивый характер и горячий нрав служили богатой темой разным анекдотам. Так, например, про него рассказывали, что однажды, недовольный ходом учения, им производимого, он среди манежа бросился ,на песок, задрыгал ногами и приказал себя накрыть шинелью, чтобы не глядеть, как безобразно смена проходит мимо него».
Бесконечные выволочки командира никого против него не настраивали. За крикливостью было добродушие и благорасположенность к подчиненным. Ланского любили.

Старший брат Петра Ланского, Александр Петрович, изображен в штатском, хотя был «военной косточкой». Безусловно, Наталья Николаевна глубоко ценила этого благородного человека, о котором можно было говорить только в превосходной степени. Не случайно она очень хотела, чтобы ее сын женился на его дочери – Сонечке.
«Зла он не помнил, – писали о нем сослуживцы,_и гнев его никогда не был продолжительным. Доступный для всех, он всей душой был рад помочь всякому... Теперь еще в разных углах обширной России благодаря его многочисленным ученикам живет теплая память о Павле Петровиче, олицетворявшем русский тип отца-командира, отзывчивого на всякую нужду и горой стоявшего за своих».
А вот в личной жизни что Петру, что Павлу Ланскому не повезло. Последний тоже был влюблен в жену своего товарища по полку. Их брак признали недействительным, и Павел Петрович решил жениться на своей избраннице.
Но мать братьев, «воспитавшая всю семью свою в самых строгих правилах», наотрез отказала сыну в благословении, так как его избранница показалась ей легкомысленной и поведения неблагопристойного.
А что же Павел Петрович? Ведь он не раз клялся возлюбленной в нежной страсти и теперь считал себя связанным с нею долгом чести. Он женился. С матерью произошел полный разрыв.
И вот в конце 1842 года Петербург был переполошен семейным скандалом в доме генерала Ланского. От него сбежала жена, оставив мужу двоих сыновей, – Николая и Павла. Сбежала с любовником – секретарем неаполитанского посольства графом Гриффео.
Этот граф, однако, приударял и за красавицей вдовой Пушкиной. Едва ли он сумел завладеть ее вниманием – Наталья Николаевна уже хорошо знала, как ненадежны ее поклонники. Отвергнутый ею Вяземский, однако, не преминул, узнав о скандале, уколоть ее известием о том, что граф предпочел ее более покладистой даме.

Все братья Ланские были кавалергардами и никогда не тяготились военной службой, которой посвятили себя. А вот личная жизнь у них складывалась непросто. Особенно не повезло Павлу Петровичу Ланскому, сын которого, по существу, вырос в семье Натальи Николаевны.
И неведомо было самой Пушкиной, что через год будет носить другую фамилию, а брошенному мальчику Павлуше Ланскому она заменит мать. Встреча с Петром Петровичем была не за горами...
...В длинном, почти в шесть десятков лет, послужном списке Петра Петровича Ланского не найти героических или особенно ярких страниц. Его жизнь профессионального военного сложилась так, что снискать боевую славу ему не довелось. В эпоху наполеоновских войн он был еще подростком. В подавлении взбунтовавшейся Польши не участвовал. А когда началась Крымская война, император отправил его формировать ополчение в одной из северных губерний России.








