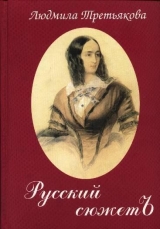
Текст книги "Русский Сюжетъ"
Автор книги: Людмила Третьякова
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 18 страниц)
Разумеется, на все свои обращения к царю Демидова получила «нет». Ей казалось, что государь отказал потому, что не поверил бескорыстию ее любви.
.. .Александра не могла претендовать на внимание потомков. За ней не числились ни особых талантов, ни тех дел, которые обычно прославляют человека. От ее жизни осталось всего ничего: две любительские фотографии и три недлинных письма на французском языке, два из которых, посланные государю, были сочтены бессовестной ложью. Может быть, те, кто прочтут их сейчас, будут иного мнения и слух подскажет им, что этим словам можно было верить.
«Ваше Величество,
простите Вашу униженно преклоненную подданную за то, что позволяю докучать Вашему Императорскому Величеству, но я не могу больше терпеть. К Вам, Ваше Величество, обращается мое разбитое сердце. Неужели Вы его не пожалеете? Только что полученный мною отказ и невозможность повидать Великого князя Николая, ввергли меня в такое отчаяние и так удручили, что я способна даже положить конец моему существованию.
Моя любовь и привязанность не были просто интрижкой или игрой. Мне еще только 22 года, и мое сердце еще не научилось лгать. Великий князь так несчастен, он так нуждается в любви, преданности и поддержке. Я чувствую, что смогу успокоить его моими заботами и советами.
Ваше Величество, сделайте милость, позвольте его увидеть, сделайте милость, подарите мне еще несколько лет жизни – по приговору врачей, жить мне осталось недолго. Позвольте мне провести этот короткий остаток времени как сестре милосердия в заботе и поддержке Вашего нездорового Августейшего Племянника.
Отказ Вашего Императорского Величества явится для меня смертью, и что же я такого сделала, что Ваше Величество меня приговаривает? То, о чем я Вам пишу, не пустые слова. Ваше Величество должны понять: то, что я позволяю себе вторично докучать Моему Государю, говорит о том, что речь идет о моей жизни.
Сжальтесь надо мной, Ваше Величество, умоляю Вас на коленях. Это последний крик моего сердца.
Остаюсь смиренной и преданной подданной Вашего Императорского Величества
Александра Демидова.
Москва, 7 июля 1875 года».
Александра, в сущности, просила очень немного: быть рядом с любимым человеком. Ведь объявляя великому князю приговор и перечисляя все, чего он теперь будет лишен: привилегии, наследства и прочего, отнюдь не было сказано, что ему запрещается любить и быть любимым. Однако этот несомненный факт ничего не изменил в жизни князя и Александры.
Последнее письмо было послано из Москвы, и понятно почему: Первопрестольная куда ближе к селу Смоленскому, нежели Ялта. Нам неизвестно, добралась ли туда Александра, но если это случилось, то ее, находившуюся уже на сносях, ожидало разочарование. Предвидя появление там Демидовой, в том же июле 1875 года Николу отправили в Умань, городок в двухсотпятидесяти верстах от Киева. Каким-то образом разузнав о новом месте ссылки, Александра приехала туда в декабре, сняла квартиру неподалеку от дома князя и через несколько дней родила сына, названного Николаем.
Она не успела еще встать с постели, как Николу отправили снова в Ореанду. В том, что рано или поздно Демидова последует за ним, Александр II не сомневался. Действительно, скоро было получено донесение от тайной полиции, что Александра направляется в южные губернии России. И тогда государь повелел «воспретить поездку в Крым находящейся в Одессе жене бывшего камер-юнкера Демидовой».
«Воспретить» Демидовой было трудно. Власти, поняв это, стали попросту прятать от нее князя. В июле 1876 года его перевезли с юга на запад в довольно глухое местечко Тиврово близ Винницы.
Отпросившийся с хлопотной должности князь Ухтомский, проглядевший крымский роман своего подопечного, на прощанье на чем свет клял «известную особу», то есть Демидову. Зная, что она скоро должна разродиться незаконным, но все-таки царских кровей ребенком, он не останавливался перед оскорбительными выпадами в ее адрес: коли, мол, «станет что-нибудь домогаться от Царского дома, то права ее не отличаются, по-моему, нисколько от тех, которые имеют желтые билеты».
Как известно, желтые билеты имели проститутки. Такое же мнение о Демидовой, пусть и не в такой грубой форме, высказывала и родня Николы. Особенно негодовала императрица Мария Александровна, по существу, уже брошенная августейшим супругом. Увядшая, больная, раньше времени постаревшая, она ненавидела этих хищниц, ворующих чужое лишь по праву своей молодости и красоты. Ее мужа-императора украла дрянная девчонка Долгорукая. Великого князя сначала подцепила американская авантюристка, а теперь за него принялась русская мошенница. И каждая, наверное, мечтает стать великой княгиней. Нет и нет – пока она жива, этому не бывать... Превозмогая слабость, императрица постоянно интересовалась тем, что ее не должно было бы волновать вовсе. Как Никола, крепко ли сторожат его? А та особа – где она, оберегают ли Николу от ее влияния?
Из чувства деликатности заходя по утрам к Марии Александровне, император вяло отвечал на ее вопросы. Ему давно осточертела эта история с Николой, но науськивание жены все-таки делало свое дело. Император старался быть в курсе событий. И, получив донесение, что Демидова скрылась из Крыма, а куда – неизвестно, он написал на телеграмме изящным, бисерным почерком: «Очень может быть, в местопребывание Николая Константиновича».
Ах, как сильна женская неприязнь! Императрица сумела заразить всех родственников не утихающей враждебностью к даме, которая преследовала их «безумного, несчастного Николя». И это принесло свои плоды: когда дочери Демидовой выросли, ни одна из них так и не была приближена ко двору и не пожалована во фрейлины...
* * *
Дом, где содержался Никола в Тиврове, был обнесен забором, однако полицейские чины посчитали, что он ненадежен и по периметру всей усадьбы выставили охрану, которая дежурила днем и ночью. Это однообразное занятие делало стражей безучастными ко всему, что происходило за пределами дома. А зря. Они не заметили, как возле здания, находившегося как раз напротив охраняемого объекта, остановилась коляска и из нее вышла дама, за которой несли нетяжелую поклажу.
А спустя некоторое время генералу Витковскому, ответственному за сиятельного узника, стали поступать докладные, заставившие его насторожиться. В рапортах отмечали, что его высочество, который раньше пользовался всеми помещениями своей квартиры, почти что не выходит из спальни. Это отнесли к дождливой погоде. Но все ж внутреннему наблюдению было приказано проявить особую расторопность и под каким-либо предлогом проникнуть в спальню и посмотреть, что же там происходит...

Человеком, предложившим руку и сердце женщине, которая недавно родила двух внебрачных детей, был представитель одной из прославленных фамилий граф Павел Феликсович Сумароков-Эльстон.
Камердинеру князя, неразлучному с ним Василию Лутину, предложили внушительную сумму. Однако он не только отказался хотя бы отворить дверь в интересовавшую агентов комнату, но даже сообщить хоть какую-нибудь информацию. А вопросы появлялись один за другим. Почему его высочество, заядлый полуночник, ложится теперь в одиннадцать часов и поднимается непривычно поздно? Что заставляет его по нескольку раз в день под предлогом головной боли удаляться в спальню? И не странно ли то, что его высочество, обычно бродивший до полудня в халате, теперь выходит к завтраку одетым и выбритым? Было замечено, что великий князь берет с полок библиотеки романы Дюма, хотя ранее никогда ими не интересовался. В довершение всего во время уборки посуды обнаруживался лишний прибор. Все говорило о том, что узник кого-то скрывает.
Разумеется, так не могло продолжаться вечно. И в конце концов охрана обнаружила, что «возле спальни в гардеробной помещается Демидова, секретно пробравшаяся из Одессы». «Мы, – писал начальник охраны, – не ожидали подобного безрассудства и беспредельно дерзкого поступка Демидовой, нарушившей не только все правила приличия и общественного порядка, но и закона...» В Тиврове и Петербурге разразился очередной скандал, но уже и по поводу «отягчающих обстоятельств» – рождения ребенка.
Каким образом в тщательно охраняемое помещение могла проникнуть «известная особа» и свыше десяти дней жить там вне досягаемости целого отряда жандармов и агентов? В тщетных попытках оправдаться перед Петербургом старый больной начальник охраны генерал Витковский наделял какими-то сверхъестественными силами госпожу Демидову, «которая своими интригами, как приведение, ни ночью, ни днем не давала покоя ни нам, окружающим, ни его высочеству... Какие способы мы могли иметь для предупреждения всех выдумок, всех замыслов и затей этой своевольной и причудливой женщины?» Вконец замороченный служака обратился с просьбой об отставке со своего поста и предоставлении ему долговременного отпуска «для поправки здоровья».
Петербургское начальство согласилось на его просьбу, обязав сначала срочно, немедленно, в экстренном порядке увезти узника из Тиврова. На этот раз путь Николы лежал в по-настоящему ссыльный край – Оренбург...
В результате поездки в Тиврово у Александры Демидовой родилась дочь Ольга. Она штурмовала Зимний дворец просьбами помочь ей деньгами – очевидно, скандальные вояжи вслед за его высочеством лишили ее демидовских материальных благ.
Добросердечный император, хоть и боялся раздражения окружающих, все-таки распорядился выдавать ей на детей из капиталов своего племянника. По существу, это являлось признанием за Николаем и Ольгой их особого происхождения. Но, увы, на все просьбы Демидовой дать им «дворянское достоинство и какой-либо фамилии» высочайшего соизволения не последовало.
Как, чем, где жила Александра с тремя детьми от первого брака и двумя незаконнорожденными, мы не знаем. Возможно, она дала себе передышку, чтобы в недалеком будущем отправиться в Оренбург. Но какая-то спасительная сила увлекла Александру с опасной тропы, сведя ее с графом Павлом Феликсовичем Сумароковым-Эльстоном. Читателям, конечно, хорошо знакома эта фамилия. Родным братом Павла был Феликс Сумароков-Эльстон-Юсупов – глава знаменитого семейства, женатого на красавице и богачке Зинаиде Николаевне и впоследствии имевшего сына-тезку, будущего убийцу Распутина.
Возможно, Павел Сумароков-Эльстон и Александра познакомились еще в Крыму, где у них были имения. Ясно одно: ни пятеро детей, ни на редкость скандальная репутация Демидовой не помешали графу предложить ей руку и сердце.
Один из современников Николая Константиновича говорил о великом князе, что «личные качества привлекают к нему женщин неотразимо». Но и женщины эти, каждая по-своему, обладали яркой индивидуальностью. Автор книги о Романовых Стаффан Скотт, называвший нашего героя не иначе как «паршивой овцой», об Александре Демидовой, однако, писал с восхищением. В те времена женщины были настоящими женщинами, перед которыми не могли устоять ни графы, ни великие князья! Осталась фотография, запечатлевшая неистовую Александру уже графиней. Павел Феликсович, отвернувшись от фотографа, зачарованно смотрит на супругу, а она смело, с вызовом глядит в глазок камеры, словно желая сказать: «Никогда не следует думать, будто ваша жизнь уже позади!»
В лице графа Павла Сумарокова Александра, помимо всего прочего, нашла исключительно преданного друга. В этом сомнений нет, судя по тому, как он жил после ее смерти. Надо сказать, что, хотя в письме императору Демидова несколько преувеличила свою болезнь, умерла она все-таки достаточно молодой – ей не исполнилось и сорока. За свое недолгое супружество она успела родить графу еще пятерых детей.
Дети же великого князя – Николай и Ольга – были нелегким наследством. Тем не менее граф Павел воспитал их вместе с родными детьми и сделал для них очень многое. В память безмерно любимой жены он добился пожалования ее детям от Николы дворянского достоинства и фамилии Волынских. Николай и Ольга имели отчество своего опекуна – Павловичи.
Опека графа Сумарокова помогла сыну великого князя Николаю Павловичу Волынскому начать полноценную жизнь, которая для него, незаконнорожденного, была бы невозможна. Он поступил в Николаевское военное училище и блестяще окончил его. Затем был элитный Кирасирский гвардейский полк, где служили отпрыски лучших фамилий, в конце концов получил чин капитана, воевал на русско-японском фронте. За некоторое время до того, в декабре 1902 года, в Ливадии император Николай II лично пожаловал Николаю Волынскому наследное дворянское звание Российской империи. Он оставался неженатым и умер, лечась за границей от чахотки, так же, как и его мать, не достигнув сорокалетнего возраста.
Настоящей трагедией для графа Сумарокова, который растил Ольгу как свою дочь, стали признаки душевной болезни, проявившиеся в ее отрочестве. Лечение не принесло никаких результатов. Состояние Ольги Павловны ухудшалось, и отчим поместил ее в одну из клиник в Германии, где она скончалась в 1910 году.
Сам граф Павел Феликсович на 54 года пережил Александру и умер глубоким стариком на юге Франции.
...Расставаясь в нашем повествовании с женщиной «своевольной и причудливой», скажем, что графиня Александра Александровна Абаза-Демидова-Сумарокова-Эльстон похоронена на кладбище маленького крымского городка Кореиз. Отсюда рукой подать до Ореанды, где начался роман с августейшим пленником – одно из испытаний, которые в изобилии выпали на ее долю. Совершенно ясно, что она могла прожить свою жизнь куда спокойнее, без душевных потрясений. Но хрупкая, далеко не крепкого здоровья, женщина воспользовалась правом, которое есть у каждого человека, – сделать свой выбор. Возможно, Александра действительно страстно полюбила Николу, а наказание, которое он отбывал, сделало его еще более привлекательным в ее глазах. Нельзя исключить и того, что помимо влечения к этому человеку были и тщеславие, и желание соединить свою жизнь с представителем царствующей семьи. Как там было на самом деле – не нам судить...
Надежда
Оренбург – край дальний и уже потому в глазах правительства пригодный для неблагонадежных людей. Ссыльных тут всегда хватало, но молва о том, что в город привезут человека совершенно особого, переполошила всех обывателей. В начале лета 1877 года опальный великий князь поселился в Оренбурге. Известно, что чем дальше от столицы, тем люди добрее, и Никола не чувствовал здесь того стеснительного пригляда, что отравлял, ему жизнь в прежних местах ссылки. Несмотря на указание держать его под домашним арестом, начальство не прибегало к подобным строгостям. Местная знать часто приглашала великого князя на праздники, танцевальные вечера. Вокруг него всегда собиралась толпа гостей. Женщины не сводили с него глаз. Еще бы, титулованный красавец, загадочный, печальный...
А что сам Никола? Он не без удовольствия отмечал, что красавицы родятся не только в столицах, и вовсю пользовался вниманием дам и девиц. Любовные интриги завязывались одна за другой. Обманутые мужья и оскорбленные женихи втайне проклинали обидчика, которого мигом бы призвали к ответу, если бы не его высокий титул.
Обстановка накалялась. В переписке оренбургских властей с Петербургом о «Высоком Большом», как иногда называли Николу, все чаще проскальзывало раздражение. Слежка усиливалась. Никола понимал, что его интимная жизнь стала предметом официальной переписки. Это вызывало у него приступы бешеной ярости, желание сделать наперекор. В конце концов погоня Николы за плотскими удовольствиями заставили соглядатаев написать в Петербург, что для него «нравственное исправление... недостижимо никакими путями». Снова встал вопрос: кто он – отпетый негодяй или безумец?
Пока начальство раздумывало над этим вопросом и дальнейшими санкциями, Никола пытался обустроить свою жизнь. Он уже понимал, без чего она невозможна и теряет всякую привлекательность – без любви. Вот то, ради чего стоит и жить, и умереть. Любовь к Фанни уберегла его от решения покончить жизнь самоубийством, чтобы избежать позора. Привязанность Александры вызволила его бездны тоски, безнадежности, которые убивают вернее пули.
...Однажды на каком-то вечере он заприметил дочку полицмейстера Дрейера. Девушку звали Надежда, ей шел восемнадцатый год. Она была высока, стройна и отлично скакала на лошади. Его высочество оценил ее выучку и проникся восхищением к амазонке, за которой увивалась местная молодежь. На танцевальных вечерах Надежда оказывала ему предпочтение. Начались тайные встречи. На лошадях молодые люди уезжали далеко за город, в степь, где Никола рассказывал ей о своем прошлом, а потом они страстно целовались.
И вот зимой 1878 года, прыгнув в сани, влюбленная парочка выскользнула из города, а метель надежно замела их следы. В церкви села Берды Никола и Надежда обвенчались. Некоторое время им удавалось сохранять свой брак втайне. Но тут Никола организовал экспедицию в степь, и Надежда как верная подруга отправилась вместе с ним.
О венчании дочки полицмейстера и его высочества дознались, и стороживший Николу граф Н.Я.Ростовцев, ожидая нагоняя, доложил в Петербург о случившемся. Ответ был сокрушительным для Николы: его брак признан недействительным. Семейству Дрейеров предписывалось покинуть Оренбург. Надежда Александровна отказалась это сделать, не желая разлучаться с тем, кого перед Богом назвала своим мужем. Тщетно Никола посылал письма дяде-императору, в которых говорил, что, разлучая его с женой, с ним поступают против всех гражданских и божеских законов. Разве он, неся крест наказания, не вправе выбрать себе подругу по сердцу, обзавестись семьей?

Трагическая гибель Александра II была ужасным ударом для Николы. Он никогда не считал покойного инициатором наказания, тяготевшего над ним всю жизнь. Никола умолял разрешить ему проститься с дядей-императором, но получил отказ.
И тут впервые за него заступился один из родственников. Младший брат арестанта, великий князь Константин, не одобрял жестокости императорского дома: «Скоро ли кончится мучительное положение, из которого бедному Николе не дают никакого выхода? Самого кроткого человека можно бы таким образом из терпения вывести, у Николы есть еще довольно силы выносить свое заключение и нравственную тюрьму».
Опальному великому князю куда бы легче жилось, если бы семья вовсе забыла о нем. Однако санкции против морганатического брака показали: о нем помнят, очень хорошо помнят и надеются полностью подчинить себе. Он паяц, игрушка, которого дергают за ниточку, наперед зная, каким будет следующее движение.
В Петербурге считали: брак признан недействительным и теперь надо разлучить Николу с его дамой. Великий князь получил разрешение на очередную экспедицию, но отправился туда уже без жены. По сути, его просто-напросто выманили из Оренбурга. Вернулся он уже на новое место – в Самару. А затем его перевели в местечко Пустына под Петербургом – подальше от Надежды.
Шел шестой год изгнания. За это время Никола переменил с десяток мест, ему нигде не давали укорениться, наладить хоть какой-то угол, обзавестись связями, необходимыми каждому человеку.
* * *
1 марта 1881 года стало для России роковым – «одно из величайших царствований в русской истории завершилось неслыханною в наших летописях кровавою драмою». Император Александр II был смертельно ранен Николаем Рысаковым и вскоре скончался. Так расплатились народовольцы с человеком, на счету которого были военные победы, отмена в России телесных наказаний, освобождение сотен тысяч крепостных.
Перед постелью растерзанного бомбой, только что скончавшегося отца его наследник, будущий Александр III, горько сказал: «Вот до чего мы дожили...» Он считал, что отец поплатился из-за своего мягкого сердца, в котором всегда тлела искра жалости к тем, кто ее не заслуживал.

Когда наследник Александра II взошел на престол, репрессии против «ташкентского князя» ужесточились. Александр III обещал своему двоюродному брату, что тот не вернется в Петербург, пока он царствует. Вот что значат обиды молодости, которые не забываются.
Потрясенный гибелью дяди-императора Никола послал письмо вступившему на трон двоюродному брату с просьбой разрешить ему проститься с человеком, к которому был привязан с детства. Все строгости, применяемые к нему, он никогда не связывал с личной волей императора.
«Ваше Императорское Величество, разрешите мне, закованному в кандалы, коленопреклоненно помолиться праху обожаемого мною монарха и просить у него прощения за мое преступление. Затем я немедленно безропотно вернусь на место моего заточения. Умоляю Ваше Величество не отказывать в этой милости несчастному Николаю».
Вот что ответил один двоюродный брат – коронованный, другому – узнику: «Ты не достоин поклониться праху моего отца, которого ты так глубоко огорчил. Не забывай того, что ты покрыл нас всех позором. Сколько я живу, ты не увидишь Петербурга».
Этот ответ буквально потряс Николу. По воспоминаниям очевидцев, приступы буйства перемежались у него с горькими рыданиями. Его отец, великий князь Константин Николаевич, 10 марта 1881 года под впечатлением рассказов о состоянии сына записал в дневнике: «Положительно у него теперь фазис усиления душевной болезни».
Молва о безумствах Романова-узника в ответ на жестокую отповедь брата-императора стала предметом пересудов придворных. Появлялись все более шокирующие подробности поведения Николы: «Когда ему не было дозволено приехать на погребение, он сказал, что если его считают сумасшедшим, то не будет и присягать, так как сумасшедших к присяге не приводят; затем он угрожал, что наденет андреевскую ленту и пойдет в народ».
Никола оказался едва ли не первым, на кого обрушился гнев нового монарха. И дело не только в том, что Александр III считал своего ссыльного кузена нигилистом, поправшим святые устои самодержавия. В ненависти власть предержащих, как правило, присутствует личный мотив. И в отношениях двух двоюродных братьев – императора и узника – он очевиден. Один – не слишком привлекательной внешности, с грубым простоватым лицом. Другой – красавец. Наследник – тугодум, далеко не интеллектуал, его кузен – прекрасно образован, начитан, эрудирован. На этой почве у братьев однажды произошла стычка. Когда Александр поддразнил Николу старанием походить на великих полководцев, тот отрезал: «Это лучше, чем быть случайным дураком на троне».
Существовал между ними и глубоко интимный, а потому особенно болезненный момент соперничества. В донесениях агентов, отмечавших всех навещавших только что появившуюся в Петербурге куртизанку мисс Лир, значился и наследник Александр. Как известно, Фанни предпочла Николу. Такое не забывается. И вот теперь, оказавшись в полной власти осмеянного когда-то брата, Никола получил свое. Среди придворных пронеслась весть, что новый монарх решил за дерзкие речи изменить меру наказания ссыльному князю и заключить его в тюрьму до конца дней.
Никто из обширного августейшего семейства не заступился за Николу и на этот раз. Не слышно было голосов ни отца, ни матери, ни братьев. От пожизненного заключения Николу спасла личная инициатива, в сущности, постороннего человека, очень умно и доказательно составившего записку, которую добрые люди положили на стол Александра III. Тот давний друг великокняжеского семейства упирал на то, что не следует нарушать волю только что умершего императора. А тот, как все знают, подписал указ о лечении, надзоре над душевнобольным, но никоим образом не о содержании в тюрьме. Кроме того, великий князь, поменявший уже столько мест содержания, стал известен многим людям и сумел завоевать их интерес, внимание и даже сердца. «Вчерашний государственный изменник завтра в устах молвы обратится в несчастного угнетаемого».
Это был очень верный ход: Александр III знал, как опасно в России содержать в темнице августейшую особу. Слухи сейчас же сделают его народным заступником. И царь отказался от намерения засадить брата в тюрьму. Однако режим, в котором отныне предписывалось содержать Николу, был ужесточен. Например, он мог общаться лишь с теми, кто значился в особом списке, прогулки разрешались только пешком, что для него, профессионального военного, мастера верховой езды, являлось унижением. К тому же высшим чинам давалось право арестовывать его за неповиновение и вообще не считать Николу членом императорского дома, а просто частным лицом. Все было продумано для унижения великого князя.
Однако в предписаниях все же имелся пункт, менявший существование Николы к лучшему. Образцовый семьянин Александр III, ратовавший за неукоснительное соблюдение святости брака, восстановил супружество Николы и Надежды. В очередную ссылку летом 1881 года они приехали вместе. Это был Ташкент, город, где великий князь Николай Константинович проведет без малого сорок лет.

Дворец великого князя был сооружением, не виданным в Ташкенте. Если смотреть сверху, было заметно, что архитектура здания повторяла контуры двуглавого орла. Уникальной являлась ограда чудесного сада, окружавшего дворец, которая держалась лишь благодаря собственному весу.
* * *
Ташкент, завоеванный русскими в 1865 году, к моменту появления здесь Николы уже жил разрегулированной жизнью: часть – русская, часть – мусульманская. Русский Ташкент – место скучное: гарнизон в пятнадцать тысяч солдат и офицеров, православный храм, особняк генерал-губернатора. На главной улице стояли лавки, маленькие магазинчики, здание офицерского собрания, кабаки и скромно притулившийся публичный дом. Солдаты безропотно тянули лямку службы, офицеры же с тоски пили, картежничали, интриговали, стрелялись и мечтали поскорее вернуться в Россию.
Мусульманский Ташкент был куда наряднее из-за мелькавших пестрых халатов, изразцами покрытых мечетей и ярких базаров. Но в целом город с низенькими жилищами за глинобитными стенами выглядел бедно.
Великий князь, точно предчувствуя, что приехал сюда надолго, устраивался по здешним меркам роскошно и широко. Нарядный дом его стали называть дворцом, и под таким названием он дожил до наших дней.
Жилище Николы стояло на возвышении. Приземистое, широко раскинувшееся здание с удачными пропорциями украшали огромные зеркальные окна. К подъезду с двух сторон вели мощенные плиткой дорожки. Перед домом стояла фигура обнаженного атланта, поддерживавшего громадный шар. Вокруг дворца посадили парк, который благодаря хорошему уходу быстро разросся. Он состоял в основном из дубов, кленов, берез –деревьев, что росли на родине великого князя. А сквозь решетку парка, увитую плетущимися розами, публика разглядывала гулявших пятнистых оленей. В огромных клетках, стоявших на открытом воздухе, летали диковинные птицы. На заднем дворе была устроена конюшня. Особенно поражало в этом райском уголке обилие собак самых разных пород – от элитных русских гончих до дворняжек. Белыми шариками носились по аккуратно подстриженной траве два шпица – любимцы хозяйки.

Таким увидел Ташкент сосланный сюда Романов. Как ни велика была разница с блистательным Петербургом и другими столицами мира, где побывал Никола, он нашел здесь применение своим силам и способностям. И это спасло его.
Внутри дворец был украшен вещами, что когда-то собирал великий князь. Далеко не все ему удалось привезти на новое местожительство, но для небольшого дворца хватило. А неизбалованная ташкентская публика: чиновный люд, учителя, торговцы, офицеры, которых великий князь приглашал «без чинов», восхищались и ахали.
По вечерам ярко горел в залах электрический свет, новинка даже для Петербурга, звучал рояль и веселый смех женщин.
...Пожалуй, совершенно неожиданно для себя великий князь обрел счастье с Надеждой Александровной. Он, совершенно не сомневаясь в своих полномочиях, «пожаловал» супруге титул графини Искандер. В Ташкенте родились у них два сына – Александр и Артемий. Время шло, и Николай Константинович проводил его отнюдь не в праздности.
Понятно, что комфортное устройство семьи влетало в копеечку. Большое количество прислуги: поваров, конюхов, делопроизводителей, охраны и прочих надо было чем-то оплачивать. Между тем лишенный наследственных прав великий князь должен был жить на содержание, присылаемое из Петербурга. Этих средств не хватило бы ни для жизни семьи, ни для того огромного размаха работ, которые его высочество задумал, – не для себя, а для той земли, куда привел его горький жребий. Недаром говорили, что «ташкентский князь» сделал для пустынного края больше, чем вся царская администрация. Даже короткий перечень его трудов наводит на мысль, что он строил на окоеме Российской империи нечто вроде своего государства. И показал себя хозяином умным, глядящим далеко вперед и знающим насущную потребу сегодняшнего дня.
...«Ташкентский князь» отметил свое поселение здесь многосторонней деятельностью по орошению Голодной степи. .Сегодня трудно себе представить, как в условиях раздражавшей опеки властей, которая ставила палки в колеса, можно было за короткий срок прорыть стокилометровый магистральный канал, названный великим князем в честь деда «Император Николай I». Вместе с проведенными «ташкентским князем» еще двумя каналами они оживили 40 тысяч десятин плодородной земли. В это строительство Никола вложил личные деньги, что присылались в качестве «великокняжеского содержания» из Петербурга. Вероятно, о том, что основы ирригационной системы в Голодной степи заложил ссыльный Романов, мало кто сейчас знает и у него на родине, и в нынешнем Узбекистане.
«Его императорское высочество», как, несмотря на неудовольствие начальства, называли Николая Константиновича, проводил здесь целенаправленную прорусскую политику. Им приглашались казаки-переселенцы, которым выдавали ссуду. На орошенных землях поднялись двенадцать больших русских поселков. Николай Константинович писал: «...Мое желание – оживить пустыни Средней Азии и облегчить правительству возможность их заселения русскими людьми всех сословий».
Переселение казаков, крестьян в пустыню князь считал государственной необходимостью – Россия должна здесь иметь опору в лице своих граждан. К 1913 году выросло 119 русских селений.
Князь, которому запрещалось носить военную форму, продолжал считать себя офицером и с особым теплом относился к служивому люду. Не случайно он в первую очередь обеспечил водой месторасположение Туркестанского военного округа. Им были построены на свои средства дома для ветеранов-«туркестанцев» и положен на их нужды капитал в 100 тысяч рублей. Несколько строений дошли до наших дней.
Деньги, деньги... Где их взять? И его высочество принялся зарабатывать их где только мог, не гнушаясь и копейкой. Например, он открыл базар возле железной дороги. Но прежде чем начать торговлю, необходимо было за определенную плату купить квитанцию с надписью: «Базар Великого Князя в Голодной степи». Вчитайтесь в это фантастическое словосочетание. Торговцы имели право пользоваться только весами хозяина, выдававшимися из специальной будки. Устраивались поборы: за каждый пуд проданного картофеля взималась 1 копейка, за продажу одной арбы арбузов и дынь – 30 копеек.








