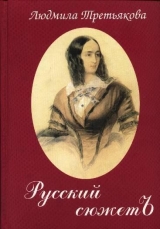
Текст книги "Русский Сюжетъ"
Автор книги: Людмила Третьякова
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 18 страниц)
Не верится и нам, что все это могло происходить с семьей гения, с его женой, легендарно, необыкновенно красивой женщиной, под окнами которой еще недавно гарцевал сам император, льстя себя мыслью увидеть ее хоть на мгновение.
«Невозможно быть более разумной и экономной, чем она, и все же она вынуждена делать долги, – описывала положение Таши ее сестра. – Дети растут, и скоро она должна будет взять им учителей, следственно, расходы только увеличиваются, а доходы ее уменьшаются. Если бы ты был здесь и видел ее, я уверена, что был бы очень, очень тронут положением, в котором она находится, и сделал бы все возможное, чтобы ей помочь...»
...Известно, что Наталья Николаевна не присутствовала на отпевании мужа и не хоронила его; физическое состояние, в которое ее привели последние земные мгновения Александра Сергеевича, было близко к критическому. Конвульсии сотрясали тело несчастной вдовы с какой-то дьявольской силой. Но еще хуже было с душевным состоянием: врачи всерьез опасались за ее рассудок. Лишь участливое отношение к ней духовника, глубокая религиозность самой Натальи Николаевны позволили ей потихоньку, из последних сил, выбраться из бездны отчаяния.
Врачи не покинули пушкинской квартиры и тогда, когда хозяина опустили в холодную землю в стенах Святогорского монастыря. И они делали печальные прогнозы относительно будущего его вдовы. Никто не ручался за здоровье Натальи Николаевны. Любые новые переживания могли привести ее к концу. Только спокойная, благополучная жизнь, надежная рука, на которую можно опереться, – могли здесь помочь.
Но как раз этого нельзя купить ни за какие деньги. Тут спасение – лишь счастливое вмешательство судьбы. Но пока к Наталье Николаевне она была не благосклонна.
«Я боюсь за нее, – описывала душевную маету сестры Александрина. – Со всеми ее горестями и неприятностями, она еще должна бороться с нищетой. Силы ей изменяют, она теряет остатки мужества, бывают дни, когда она совершенно падает духом... это настоящее страдание».
Но, пожалуй, куда красноречивее просьбы о помощи самой Натальи Николаевны. Вот, например, письмо из Михайловского, когда осенние холода гнали ее в город, а денег выехать не было:
«Я нахожусь здесь в обветшалом доме, далеко от всякой помощи, с многочисленным семейством и буквально без гроша, чтобы существовать. Дошло до того, что сегодня у нас не было ни чаю, ни свечей и нам не на что было их купить. Чтобы скрыть мою бедность перед князем Вяземским, который приехал погостить к нам на несколько дней, я была вынуждена идти просить милостыню у дверей моей соседки, г-жи Осиповой. Ей спасибо, она по крайней мере не отказала чайку и несколько свечей. Время покинуть нашу лачугу. Что делать, если ты затянешь присылку мне денег дольше этого месяца? У меня только экипажи на колесах, нет ни шуб, ничего теплого, чтобы защитить нас от холода. Поистине, можно с ума сойти...»

Как это нередко случается с сильными мужчинами, Петр Петрович Ланской долгие годы напрасно старался избавиться от страсти к женщине тщеславной и легкомысленной. Встреча с вдовой Пушкина совершенно переменила его жизнь.
Между тем после смерти поэта его семейству царским распоряжением была назначена пенсия и, казалось бы, немалая: вдове пять тысяч рублей в год, а детям по полторы тысячи.
Однако, принимая во внимание дороговизну тогдашней жизни в Петербурге, когда за одну квартиру Наталье Николаевне приходилось выкладывать в год не менее трех тысяч, а чтобы, скажем, навестить свекра Сергея Львовича в Москве, надо было раскошелиться на тысячу, становится понятной та жестокая экономия, которой она предавалась. В письмах Натальи Николаевны то и дело встречаются приметы ее непрекращающихся денежных затруднений. Взяла в долг у друзей Пушкина – Плетнева, Вяземского, просит опекунов прислать ей денег, чтобы вывезти детей с летнего отдыха.
Отошли в прошлое, стали воспоминанием шитье туалетов и покупка модных шляпок, которые стоили бешеных денег. Гордясь красотой жены, Пушкин любил, чтобы и одета она была соответствующе: изысканно, элегантно. В вечных битвах с книгоиздателями, едва сводя концы с концами, чтобы обеспечить достойную жизнь семье, он радовался как ребенок, видя, какой эффект производит появление его «мадонны» в великосветских дворцах Петербурга. Был уверен: его жена царствует по праву – по праву ее красота так же единственна, неповторима, как его талант, посланный Богом.
Время, когда юная, роскошно одетая Натали была центром внимания изысканного общества, промчалось очень быстро. Гибель Пушкина, гения России, увлекла прочь с Олимпа и его жену, гения красоты.
Два года Наталья Николаевна не снимала траур. Вдову Пушкина больше не видели на придворных балах, в гостиных, салонах, театрах. Так решила она сама и это подтверждается мемуарами, достойными доверия.
«Мы ведем сейчас жизнь очень тихую, – писала Александрина, – Таша никуда не выезжает». Друзья Пушкина, навещавшие его вдову, были тому свидетелями. О том, что Наталья Николаевна живет «совершенно монашески», писал один из них, Петр Александрович Плетнев, верный защитник от света, раньше обсуждавшего каждое появление «прекрасной Натали», а теперь заинтригованного ее затворничеством.
Если вдова и покидала свое скромное жилище, то лишь для того, чтобы побывать у Строгановых – своих опекунов, где приходилось встречаться с их дочерью – И далией Полетикой. Разговор бывших подруг не клеился: прошлое стояло между ними. Едва ли вдова Пушкина могла забыть и простить И далии сводничество, когда та заманила ее в свою квартиру и оставила наедине с Дантесом. Все дальнейшее: поспешное бегство, ужасное объяснение с мужем – об этом лучше было не вспоминать.
Идалия же Григорьевна, не без интереса рассматривая вдову и ее детей, пришла к выводу: мальчики красивы, девочки – увы! – в Пушкина. А сама Натали? Похудела, подурнела. «У нее тоска и она казалась очень нервной». Говорят, живет отшельницей, света дичится, романов не заводит. Вот кого бы в жены Ланскому! Глядишь, избавил бы ее, И далию, от своей невыносимой ревности.
...Лишь шесть лет спустя после гибели мужа Наталья Николаевна вновь появилась в свете. Ответ на вопрос, что именно подтолкнуло ее к этому, отчасти можно найти в собственном письме самой Пушкиной:
«Этой зимой императорская фамилия оказала мне честь и часто вспоминала обо мне, поэтому я стала больше выезжать».
Впрочем, Пушкину легко понять: подрастали дети. Она надеялась заручиться покровительством сильных мира сего, вполне понимая, что ее материнских усилий, увы, недостаточно, чтобы обеспечить детям Пушкина достойное будущее. А пока она еле-еле наскребала денег, чтобы определить сыновей в гимназию.
Для появления же в свете нужны были нарядные туалеты. Отсутствие средств на них стало бы непреодолимой преградой, если бы не наследство тетушки, оставившей Наталье Николаевне свой внушительный гардероб фрейлины. Здесь наряду с платьями в нарядных коробках хранились меха, тонкое кружево, шелковые чулки, невесомые, изящнейшие туфельки из лайки, перчатки, страусовые перья.
Теперь это можно было переделать и приспособить к новейшей моде. Слава Богу, что касается бальных платьев, то они не слишком изменились с той поры, когда Натали в последний раз перед роковой дуэлью мужа танцевала на балу. В ходу остался все тот же атласный лиф, «на костях», а потому сидевший плотно, словно панцирь. На пышную, державшуюся на чехле из жесткой материи – канауса – юбку нашивались воланы из тонкого шелка или кружев.

После смерти поэта на плечи Натальи Николаевны Пушкиной легли обязанности главы большой семьи. В течение шести лет, до 1843 года, ни Зимний, ни Аничков дворцы не видели красавицы вдовы. «Натали не ездит туда никогда». – писали близкие к Пушкиной люди.
...Если взглянуть на портреты красавиц пушкинской поры в их бальных платьях, то невозможно не признать: ничего более украшавшего женщину мода и портновское искусство так и не создало. Невольно приходишь к мысли, что некрасивых женщин тогда просто не рождалось. Надо было иметь уж слишком неблагодарную внешность, чтобы в бальных туалетах николаевской эпохи выглядеть дурно.
И действительно: воздушные юбки надежно скрывали самые «неудачные» ноги. Корсет тучной фигуре придавал стройность и хорошую осанку, а цвета, перья, кружева и накладные локоны позволяли даже тем, кто не имел густых волос, украсить себя изысканной прической. То было время, когда все ухищрения, все искусство милого обмана шли в ход, чтобы привлекать, очаровывать, пленять. Недаром иностранцы, посещавшие придворные балы и маскарады в царствование Николая I, говорили, что такого сосредоточия роскошных красавиц они нигде не видывали.
И надо было обладать совершенно исключительной внешностью, чтобы в этой россыпи сиять звездой первой величины. Вдове Пушкина это оказалось под силу. Теперь Зимний дворец увидел ее тридцатилетней. Цвет юности облетел, на смену ему пришла зрелая красота, разившая наповал, не требовавшая никаких украшений. Мы это знаем от очевидца появления овдовевшей Натальи Николаевны в великосветском обществе, большого знатока и ценителя женской красоты князя Петра Андреевича Вяземского. Мастерски владея точным, метким словом, он описал свои впечатления: Наталья Николаевна была «удивительно, разрушительно, опустошительно хороша».
Теперь Пушкину постоянно видели на званых вечерах, в салонах, в тех домах, которые когда-то гостеприимно распахивали двери перед ее мужем. По-прежнему скромная, сдержанная, она вела себя с той милой естественностью, которая так нравилась Александру Сергеевичу.
...Жены гениев всегда пребывают в тени. Такова их участь. История здесь не знает исключений. Главное и единственное, что заставило обращать внимание на супругу гениального поэта, – ее удивлявшая всех красота. Ничего кроме этого за Натальей Николаевной не признавалось.
Более того, считалось, что женщина, получив от природы такой королевский подарок, больше ни на какие таланты не имеет право претендовать. Потому каждый мог толковать о душевных качествах Пушкиной как угодно – ведь характер наш, мысли, способности не так очевидны, как внешность. И когда поэт, куда лучше других знавший свою Наташу, признавался в письме, что душу ее любит более прекрасного лица, то эта оценка оставалась их личной тайной.
А свет твердил о том, что Пушкин себе в спутницы выбрал божество, в которое забыли вдохнуть душу. Его жена производила впечатление неумной, неразвитой, по-провинциальному неловкой особы. По существу, лишь «послепушкинское время» раскрыло в Наталье Николаевне черты, совершенно скрытые раньше. И оказалось, что она была щедро наделена тем, в чем ей раньше напрочь отказывали, – обаяние.
Это качество – дар Божий, его трудно объяснить, но именно оно делает даже самых внешне заурядных людей всеобщими любимцами, заставляет их помнить всю жизнь и описывать в мемуарах. И напротив, отсутствие обаяния подписывает суровый приговор подчас самым достойным людям. Особенно убийственно это для красивых женщин, поскольку лишает их возможности пожинать тот богатый урожай успеха и признания, на который они могли бы рассчитывать.
...Оставшись одна во главе большой семьи, Наталья Николаевна вынуждена была поддерживать светские связи и встречаться с людьми, которые порой отнюдь не симпатизировали ей.
Легко представить то чувство, с которым после гибели сына ожидал встречи со снохой отец Пушкина Сергей Львович. Он едва оправился от этого удара. В происшедшей трагедии он винил слишком красивую и слишком легкомысленную жену Александра.
Обычно люди чувствуют друг друга. Неприязнь, как и симпатия, чаще всего бывает обоюдной. Наталья Николаевна, понимая бедного старика и оставляя за ним право думать о ней как ему угодно, оставалась с ним такой, какой была. В первые же минуты она обезоружила его лаской, добротой, участием. Сергей Львович, одинокий, больной, растерянный от потерь, потянулся всем сердцем к ней, как к источнику тепла и сочувствия. В письме знакомым он признавался, что нашел в Наталье Николаевне родную дочь. И это лишь один пример из многих, когда Наталья Николаевна без всякого расчета и усилий с ее стороны в корне меняла представление о себе людей, враждебно к ней настроенных.

Во внешности и в манере поведения Натальи Николаевны, оставшейся без мужа, находили «что-то трогательно возвышенное». А ее мучила жестокая проза жизни: постоянное безденежье, неуверенность, тревога за будущее детей.
...Не раз появляясь в салоне Карамзиных, друзей Александра Сергеевича, Наталья Николаевна словно наталкивалась на суровый взгляд молодого офицера, стихи которого поражали трагической силой. Среди людей, где вдову принимали сердечно и участливо, этот поручик, чьи сумрачные глаза словно преследовали Пушкину, тревожили, беспокоили ее.
Она не раз пыталась заговорить с ним, признавалась, какой глубокий отзвук в ней вызывают его стихи, как они дивно хороши. А в ответ слышала несколько вежливых, чуть насмешливых фраз. Он продолжал смотреть на нее так, словно не мог простить ей какую-то вину. Хотел и не мог. Даже ее красота, которой поддавались все, не в состоянии была пробить брешь в той стене отчужденности, которую воздвиг между ними этот молоденький офицер, писавший удивительные стихи.
Однажды, появившись у Карамзиных, Наталья Николаевна узнала, что это вечер проводов: поэт в мундире Тенгинского пехотного полка возвращается на Кавказ под пули горцев.
Увидев, что подле нее освободилось место, он подошел к ней, и Пушкина услышала совершенно неожиданные слова. Об этом мы знаем от дочери Натальи Николаевны, записавшей эпизод прощального вечера.

Лишь изредка оставляла Пушкина свой вдовий дом, чтобы навестить родных да старых друзей, у которых бывала еще вместе с Александром Сергеевичем. «Она ведет себя прекрасно», – свидетельствовал друг Пушкина ПЛ.Плетнев.
«Когда я только подумаю, как мы часто с вами здесь встречались... Сколько вечеров, проведенных здесь, в этой гостиной, но в разных углах! Я чуждался вас, малодушно поддаваясь враждебным влияниям. Я видел в вас только холодную, неприступную красавицу... и только накануне отъезда надо было мне разглядеть под этой оболочкой женщину, постигнуть ее обаяние... Но когда я вернусь, я сумею заслужить прощение и, если не слишком самонадеянна мечта, стать когда-нибудь вам другом. Никто не может помешать посвятить вам ту беззаветную преданность, на которую я чувствую себя способным».
Это был Михаил Юрьевич Лермонтов. И он не вернулся...
Грустя о его ранней смерти, Наталья Николаевна признавалась: для нее очень важно было признание молодого русского гения, которого, как и ее мужа, унесла дуэльная пуля. «Случалось в жизни, что люди поддавались мне, но я знала, что это было из-за красоты. Этот раз была победа сердца, и вот чем была она мне дорога... – говорила Наталья Николаевна, вспоминая свою последнюю встречу с Лермонтовым. – Мне радостно подумать, что он не дурное мнение обо мне унес с собою в могилу».
* * *
На святках в Аничковом дворце устроили костюмированный бал, который особенно любил император Николай I. Наталья Николаевна появилась, повторяя в своем костюме и прическе облик древнееврейской героини Ревекки. Все та же тетушка-фрейлина Загряжская, обожавшая ее, и на этот раз помогла с нарядом:
«Длинный фиолетовый бархатный кафтан, почти закрывая широкие палевые шальвары, плотно облегал стройный стан, а легкое из белой шерсти покрывало, спускаясь с затылка мягкими складками, обрамляло лицо и, ниспадая на плечи, еще рельефнее подчеркивало безукоризненность классического профиля».
Конечно, Пушкина притягивала, как магнит, взгляды собравшихся. Смутившись от всеобщего внимания, она забилась в самый дальний угол парадной залы. Но когда начались танцы, император обвел хозяйским глазом толпу гостей, среди которых Наталья Николаевна выделялась высоким ростом. Николай I был еще выше, и сразу заметил стройную фигуру стоявшей в стороне Пушкиной.
Пройдя через всю залу сквозь ряды танцующих, император подошел к Наталье Николаевне. Он взял ее за руку и проделал весь путь обратно, остановясь перед своей супругой.
– Смотрите и восхищайтесь! – сказал он императрице, отступив шаг в сторону, словно давая возможность всем полюбоваться столь редким зрелищем.
– Да, прекрасна, в самом деле прекрасна! – наведя на Пушкину лорнет, с улыбкой сказала Александра Федоровна.
Император победно оглядел собравшихся. Что значил его взгляд, это прилюдное признание своего благоговения перед прекрасным Божьим созданием? Не было ли тут тайного смысла, некоего намека для тех, кто родовит, богат, полон сил и свободен от оков Гименея? «Какая женщина! Какая невеста!»
Действительно уже немалые годы вдовства, прожитые безукоризненно, молодость, красота, с которой по-прежнему никто не мог соперничать, – все, казалось, давало право Пушкиной надеяться на новый брак, на обретение мужа, опоры, друга.
Мемуары свидетельствуют, что Наталью Николаевну никогда не оставляло внимание мужчин. Но это лишь фраза. А на самом деле история вдовы Пушкиной подтверждала старую житейскую мудрость: замужняя красавица – вожделенная мечта многих. Но стоит ей распрощаться с супругом, как вчерашние воздыхатели тут же безвозвратно исчезают. Все, что связано с обязательством, заботой и неизбежным переустройством жизни, повергают их в тоску и ужас. Вчерашний пылко влюбленный неузнаваем...
Когда пушкинское «мимолетное виденье» Анна Петровна Керн развелась со своим мужем-генералом, очарова-тельница, перед чарами которой не мог устоять даже сам император, познала все земные бедствия. Вчерашние готовые стреляться из-за нее любовники, тут же охладевали, будто их любовный пыл поддерживало незримое присутствие возле прелестной Анны цербера-мужа. Лишенная средств к существованию, разлученная с дочерью, Анна Петровна, неизменное украшение петербургских гостиных, оказалась за пределами привычного круга. Теперь она жила уже не в генеральской квартире возле Зимнего, а в весьма скромном обиталище на дальних линиях Васильевского острова. Из старых знакомых лишь один Сергей Львович Пушкин, вдовый, хворый, безденежный, предложил поэтической музе его гения-сына выйти за него замуж. Анна Петровна, годившаяся Пушкину-отцу в дочери, отказалась. И только когда знаменитая красота померкла, явилась к ней вдруг любовь, завершившаяся браком. Но и это не избавило от беспросветной нищеты, от прощания навсегда с людьми своего круга. Такова была плата за свободу.

Не раз в гостиных Наталья Николаевна встречала Михаила Юрьевича Лермонтова. Он явно был настроен враждебно по отношению к ней. Лишь однажды, перед последней поездкой на Кавказ, поэт признался, как оказался несправедлив, подозревая в ней холодную, неприступную красавицу. «Это была победа сердца», – не без гордости говорила Пушкина.
Наталья Николаевна осталась без мужа не по своей воле. Воспитанная строгой матерью в патриархальных традициях, ни о какой свободе она не грезила, но, по существу, оказалась в схожей ситуации. Почему-то никто из петербургских рыцарей не решился разрушить одиночество красавицы вдовы. Причина, которая была совершенно ясна Наталье Николаевне: четверо маленьких детей.
Среди, как писали, «многих поклонников», достойными упоминания, оказались только трое. Как видим, «узок круг» этих смельчаков, искания которых, наверное, ничего не оставили в душе Натальи Николаевны, кроме недоумения и некоторого разочарования в той части человечества, которую принято именовать сильным полом.
К примеру, в Пушкину влюбился обладатель колоссального состояния, офицер лейб-гвардии Конного полка, представитель могущественного рода князь Александр Сергеевич Голицын. Водивший дружбу с братьями Карамзиными, он знавал и Александра Сергеевича.
...Покойный супруг наказывал Наталье Николаевне два года носить по нему траур, а затем выходить замуж. К моменту пристального внимания к ней Голицына Пушкина была вдовой уже пять лет. Казалось, что измученная вечной заботой о завтрашнем дне, Наталья Николаевна должна была только обрадоваться столь выгодной партии.
Но тут через доверенного лица князь изложил ей свой взгляд на их будущее.
Конечно, для Голицына никакого значения не имели материальные издержки на детей – его капиталов хватило бы на целый Воспитательный дом. Но князь предпочитал, чтобы четверо Пушкиных росли не у него на глазах, а где-то, пусть всецело им обеспеченные, в отдалении. Сначала, скажем, в закрытом пансионе, потом в любом, привилегированном учебном заведении.
Вот это совершенно не подходило Наталье Николаевне и решило дело раз и навсегда. Она даже не дала посреднику князя высказаться до конца и, обычно сверхтерпеливая к людям и их поступкам, отрезала:
– Кому мои дети в тягость, тот мне не муж! Людям сегодняшнего дня просто трудно себе представить размеры того, чем обладали Голицыны. Не случайно в стародавние времена устраивались чуть ли не облавы на людей столь состоятельных, на что решались невесты и богатые, и бедные. Как можно упустить шанс той, которая привыкла считать и пересчитывать жалкие рубли, униженно писать просьбы о пособиях. И вправду, вряд ли нашлось бы много женщин, способных отклонить богатых женихов в те самые минуты, когда стесненность в средствах назойливо проявлялась каждый день.
Маленькие Пушкины были первой и неоспоримой жизненной ценностью для Натальи Николаевны. Все способности ее души и ума направлялись только на них. Главное – их здоровье, воспитание, обучение, забота о будущем – все остальное отходило на второй план. И претенденты на руку прекрасной вдовы, видимо, не обладали наблюдательностью, если не заметили, чем живет эта женщина.
Плетнев же, например, друг поэта, небезразличный к осиротевшей семье, особо отметил, что Наталья Николаевна в разговоре приятно поразила его умными, дельными мыслями о воспитании детей. Она являлась «убежденным врагом институтского воспитания, находя, что только родной глаз может следить зорко за развитием детского ума и сердца, что только нежная, опытная рука способна посеять и вывести добрые семена».
Недаром люди, навещавшие пушкинское семейство, в том числе и свекор Сергей Львович, подчеркивали, что дети «прелестны, хорошо себя держат, ухожены, здоровы».
А ведь за всем этим стояли неусыпные труды Натальи Николаевны – той самой Пушкиной, образ которой и по сию пору не свободен от несправедливого клейма: это всего лишь холодная пустышка, разорявшая поэта тратами на наряды.
Да знали ли даже ее современники, что забота о здоровье детей гнала вдову то в калужскую, то в псковскую глушь на свежий воздух, парное молоко, на приволье, в котором легче расти маленькому человеку. Именно Наталья Николаевна была первой учительницей своих детей. Именно мать открывала детям Пушкина красоту живого мира, неоглядных далей, ржаных полей вокруг барской усадьбы, темных липовых аллей, так пленявших самого Александра Сергеевича. Маленьким трогательным свидетельством того, какой матерью оказалась пушкинская мадонна, остались гербарии трав, цветов, листьев, которые собирала Наталья Николаевна со своими детьми.
Примечательно, что при высокой тогдашней детской смертности, которой не избегали и дома вельмож, жена Пушкина не потеряла ни одного ребенка. А ведь первая дочка Пушкина родилась и росла настолько слабенькой, что свекровь Натали считала: этот ребенок не жилец. Четверо детей поэта впоследствии отличались отменным здоровьем, и все это, несомненно, итог материнской самоотверженности Натальи Николаевны.
И разве могла она променять эту ношу, пусть нелегкую, но бывшую смыслом ее жизни, на фамильные бриллианты и княжеское богатство, поездки в Италию, в любимый русскому сердцу Париж?
Нет, разумеется, нет! Князь, поняв, что прекрасной Натали ему не получить, потихоньку исчез с горизонта, чтобы на время уступить место новому соискателю – Николаю Аркадьевичу Столыпину.
Это был красавец, веселый, остроумный, душа общества, погибель для дам. Карьера его на дипломатическом поприще складывалась удачно. Николай Аркадьевич был на два года младше Натальи Николаевны, родившейся, как известно, в год наполеоновского нашествия.
Столыпин приехал в Россию в отпуск и «при первой встрече был до того ошеломлен красотою Натальи Николаевны, что она грезилась ему и днем и ночью».
Вдова Пушкина виделась со Столыпиным часто, в отнюдь не официальной обстановке, а у своих старых друзей – Вяземских, сын которых – Павел – впоследствии женился на сестре Столыпина, Марии Аркадьевне.
В хорошо знакомом доме обычно молчаливая, сдержанная Наталья Николаевна становилась совсем другой – улыбчивой и приветливой. И Столыпин был сражен: «С каждым свиданием чувство его все сильнее разгоралось». Вероятно, он был в одном шаге от того, чтобы пасть на колени, чтобы просить Пушкину принять его руку и сердце.
В правдивости того, что произошло дальше, сомневаться не приходится: дочь Натальи Николаевны наверняка записала историю этого короткого романа со слов матери.
Так что же наш славный красавец Столыпин с его пылающим сердцем? Увы! «...Грозный призрак четырех детей неотступно восставал перед ним; они являлись ему помехою на избранном дипломатическом поприще, и борьба между страстью и разумом росла с каждым днем. Зная свою увлекающуюся натуру, он понял, что ему остается только одно средство противостоять безрассудному, по его мнению, браку – это немедленное бегство. К нему-то он и прибегнул.
Не дождавшись конца отпуска, он наскоро собрался, оставив в недоумении семью и друзей, и впоследствии, когда заходила речь о возможности побороть сильное увлечение, он не без гордости приводил собственный пример».
Судя по всему, Наталья Николаевна довольно иронично относилась к мужчинам, которые выверяют каждый жизненный шаг, оглядываются, прикидывают. Какая-то душевная трусость ей тут виделась, нечто несовместное с земным предназначением сильного пола.
Опасение «разговоров», страх перед общественным мнением... Это, как писала Наталья Николаевна в одном письме, «в конце концов говорит об отсутствии характера. Я не люблю этого в мужчине. Женщина должна подчиняться, законы в мире были созданы против нее. Преимущество мужчины в том, что он может их презирать...»
При таких убеждениях ясно, что осторожные князь и дипломат для Натальи Николаевны – не велика потеря. Если кто-то и должен появиться в ее жизни, то это человек с совершенно иными качествами, не из пугливых. Такой, как Пушкин. Уж насколько хороша была Наташа Гончарова, а женихов-то особо не водилось. Иначе маменька бы за поэта не отдала. Почему-то эта богатая молодежь с имениями, деревнями, крепостными, фамильными сокровищами не спешила к ногам безденежной Наташи Гончаровой. Ну что им ее приданое при такой-то красоте?

Любительский рисунок запечатлел четверых маленьких Пушкиных: Гришу, Машу, Наташу и Сашу. О жене и детях, которых он оставлял, были последние мысли поэта.
Пушкин же, влюбившись, на все махнул рукой. Денег занял, отдал Наташиной матери, чтобы сшила невесте достойное ее красоты свадебное платье, справила приданое. А сам венчался в чужом фраке.
Конечно, Наталья Николаевна не могла не уважать широты натуры, мужской повадки Пушкина, не оставлявшей его никогда – до конца, до желания влепить пулю в лоб наглецу, который смущает покой жены и посягает на его честь.
Те поклонники Пушкиной, о которых мы знаем, видимо, из другого теста...
...Все это время возле Натальи Николаевны постоянно находился человек, который, вероятно, довольно потирал руки, наблюдая ретираду ее очередного воздыхателя. Этим человеком был один из ближайших друзей Пушкина – Вяземский.
Будучи старше поэта на семь лет, князь Петр Андреевич знал его еще ребенком, одним из первых оценил его талант. Более двадцати лет продолжалась их дружба. Вяземский и его супруга Вера Федоровна были поверенными во всех перипетиях сватовства и женитьбы Пушкина на прекрасной Натали. Княгиня находилась у постели умирающего поэта, а князь, как рассказывали, горько рыдал, распластавшись на каменном полу Конюшенной церкви, когда отпевали Александра Сергеевича.
И, само собой, внимание к семье погибшего друга казалось естественным и понятным. Из переписки видно, что Вяземский – ежедневный гость, совершенно свой человек у Натальи Николаевны. В пору вдовства возле нее не оказалось никого, в чью моральную поддержку она так верила. Вяземский не только старинный друг. Это многоопытный, хорошо знающий жизнь и свет человек. В конце концов он на добрых двадцать лет старшее ее. Советами Вяземского Пушкина дорожила, да и любое участие в таком положении, как у нее, было нелишне.
Дело кончилось тем, что Вяземский всю жизнь, веривший в собственную неотразимость, принялся всерьез ухаживать за Пушкиной. Это поневоле создавало для Натальи Николаевны трудности. Женатый человек – чего он ждет от нее? Согласия на участь тайной подруги? А может, даже и не тайной? У супругов Вяземских было заведено откровенничать друг с другом о собственных сердечных делах. В том, что касалось интимной жизни каждого, они исповедовали полную терпимость.
Таким образом, «романтические чувства», совершенно неразделяемые Пушкиной, могли "стать предметом обсуждения князя с женой, потихоньку выйти за стены их дома. Сплетни уже однажды сделали Наталью Николаевну героиней трагедии. Это явилось жестокой наукой. Пуще огня она боялась теперь попасться кому-нибудь на язычок. Вяземский же засыпал ее признаниями: «Вы мое солнце, мой воздух, моя музыка, моя поэзия», «Любовь и преданность мои к вам неизменны и никогда во мне не угаснут, потому что они не зависят ни от обстоятельств, ни от вас». Скорое будущее показало истинную цену этому страстному бреду: все угасло как раз очень быстро – стоило Наталье Николаевне выйти второй раз замуж.
Впрочем, она не принимала всерьез во внимание излияния стареющего ловеласа. Но Вяземский считал, что Пушкина ведет с ним какую-то завуалированную любовную игру: то приближает его, то отталкивает. Он приписывал ей изощренное кокетство, «покорнейшей и преданной жертвой» которого становился. Это оскорбляло уставшую, совсем иными мыслями занятую женщину. Ей надоела эта опека, нотации, нравоучения, продиктованные эгоизмом.
Не однажды Пушкина пыталась ввести чувства князя в те русла, которые бы давали ей возможность во имя прошлого не портить с ним отношения. Она не раз убеждала его, что не дала ни малейшего повода думать о ней дурно: «...не моя вина, если в голову вашу часто влезают неправдоподобные мысли, рожденные романтическим вашим воображением, но не имеющие никакой сущности». Ограждавшему Наталью Николаевну от мнимых и реальных поклонников, Вяземскому, надо сказать, везло. Сердце прекрасной вдовы, как она сама признавалась своим близким друзьям, оставалось спокойным.








