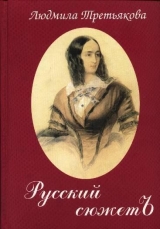
Текст книги "Русский Сюжетъ"
Автор книги: Людмила Третьякова
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 18 страниц)
Но внимание потомков заслуживает не только поле брани. Кто-то пишет прожекты, предлагает реформы, занимается государственными преобразованиями и тем заставляет помнить о себе. Другие остаются в памяти современников благодаря своим талантам, громким историям, наконец.
Ничего подобного за Ланским не водилось. Это был тип офицера-воспитателя солдат, до тонкости знавшего строевое дело и любившего его.
Командиром полка, да еще элитного не становились случайно. Не обладая безусловным авторитетом среди сослуживцев, не будучи на отличном счету у императора, этой должности не занять да и удержаться на ней было трудно.
Как везде, где дело касается отличий, наград, продвижения по службе, в Конногвардейском полку, в котором служило много родовитой амбициозной молодежи, создавались острые ситуации. Командир отвечал не только за боевую выучку, но и моральный климат во вверенном ему подразделении. Вот пример, убеждающий, что завидная репутация Ланского сложилась неспроста.
Далеко не всегда удобно быть принципиальным и справедливым. Однажды в Конном полку появилась вакансия, которую временно занял дельный, но не имеющий сильных связей офицер. Кто-то из богатых сослуживцев путем интриг решил сместить его с завидного места, прибегнув к невольному содействию императора.
И вот венценосный шеф, прибыв в полк, как бы между прочим спросил командира:
– А что, Ланской, у тебя, говорят, очищается адъютантская вакансия?
– Так точно, Ваше Величество!
– Я слышал, ты избираешь Черткова?
Конечно, Ланской понял, куда гнет государь, но твердо ответил:
– Нет, Ваше Величество, я считал бы это несправедливостью относительно офицера, который служит отлично и за шесть месяцев вполне оправдал мое доверие.
Николай опять за свое:
– А я все-таки думал, что ты назначишь Черткова.
– Ваше Величество! Должен ли я считать этот вопрос изъявлением Вашего желания?
– Это почему?
– Потому что оно для всякого является законом. Только, подчиняясь ему, я имею право обидеть офицера.
После возникшей паузы командир услышал:
– Нет, Ланской. Поступай по совести. Тебе это ближе и лучше знать.
Затем, потрепав Петра Петровича по плечу, усмехнулся:
– Вот, взялся поинтриговать, да не выгорело. А тебе за правду – большое спасибо. Я люблю, чтобы мне так служили.
Конным полком Петр Петрович командовал девять лет. В день празднования 25-летия полка генерал Ланской преподнес августейшему шефу альбом с портретами полковых командиров. Император, перелистав его, вернул, чтобы альбом дополнили: первым, по мнению императора, здесь должно быть изображение красавицы жены командира – Натальи Николаевны Пушкиной-Ланской.
В разгар Крымской войны Петр Петрович приехал в Вятку, чтобы руководить формированием местного ополчения. Заключение мира становило вятских добровольцев на пути к Крыму. Но на руках Ланского осталась сумма в сто тысяч рублей, пожертвования вятичей на алтарь Отечества.
Прибыв в Петербург на аудиенцию к государю (это был сын скончавшегося незадолго до того императора Николая I Александр II. – Л.Т.), он спросил, куда ему следует сдать эти деньги? Александр II поинтересовался, как поступили с пожертвованиями, собранными в других губерниях, и «удостоверившись в исключительности факта, промолвил: «Так ты один возвратил их, Ланской! Да, с тобою иначе и быть не могло». А затем деньги, переданные в военное министерство, «быстро испарились по разным инстанциям».
Поездка в Вятку сохранила пример того, что, если внутреннее убеждение подталкивало Ланского облегчить чью-то судьбу, он охотно делал это.

Мы привыкли воспринимать красавцев в золотых эполетах как непременных участников балов и романтических историй, будораживших Петербург. Однако у них была и другая жизнь. Кто превращал новобранца в непобедимого солдата непобедимой гвардии? Этот нелегкий труд брали на себя офицеры.
...Семь лет находился в Вятке на положении ссыльного молодой литератор, будущий писатель-сатирик Михаил Салтыков-Щедрин. Выслали его сюда за публикации, не понравившиеся властям своей едкой критичностью.
По просьбе сочувствовавшего Салтыкову-Щедрину одного вятского семейства Ланской взялся облегчить участь ссыльного, что вполне удалось.
Преисполненный благодарности к заступившемуся за него человеку, с которым даже не был знаком, писатель-сатирик сообщал родным: «Всем этим я обязан генералу Ланскому...»
Добравшись до столицы, Салтыков-Щедрин искал случай лично поблагодарить генерала. Видимо, встретили его у Ланских безо всякой официальности. С той теплотой, которая заставила литератора снова вернуться сюда. Для нас интересно следующее свидетельство современника, который хорошо знал и Щедрина, и генерала:
«В семье Ланских свято хранились вместе с памятью о покойном поэте и симпатии к литераторам и их деятельности; Салтыков немедленно познакомился с ними, стал часто бывать в их доме и до старости сохранил благодарную память о радушном приеме и нравственной поддержке, какую всегда встречал у них».
История не уберегла для потомства биографии многих достойных людей, о которых бы так интересно было почитать сегодня. Если бы не старшая дочь Ланских, оставившая заметки о своем отце да еще несколько рассеянных то там, то здесь сведений о нем и, главное – если бы не женитьба Петра Петровича на вдове Пушкина, пребывал бы генерал в полном забвении.
А между тем Пушкины и Ланские оказались связаны кровным родством. Старший сын поэта Александр Александрович женился на племяннице генерала Петра Петровича Софье. Так, урожденная Ланская стала Пушкиной и матерью одиннадцати внуков поэта, которых родила за неполных тринадцать лет супружества. Умерла Софья Александровна совсем молодой, и маленькие Пушкины воспитывались в Лопасне. Хозяйкой этой подмосковной усадьбы опять же была урожденная Ланская – Мария Петровна, родная сестра нашего генерала, по мужу Васильчикова.
...Однако мы сильно забежали вперед, оставив тридцатидвухлетнюю невесту Наталью Николаевну и жениха-генерала Ланского накануне события, неразрывно связавшего их до гробовой доски.
* * *
Свадьба генерала Ланского и Натальи Пушкиной состоялась в июле 1844 года в Стрельне – прелестном, нарядном местечке под Петербургом, где в летние месяцы квартировал Конногвардейский полк.
О предстоящем венчании в стрельнинской церкви мало кто знал. Приглашены были только ближайшие родственники, братья и сестры с обеих сторон. Несомненно, идея скромного торжества исходила от Натальи Николаевны. Она предвидела, у скольких на языке опять окажется ее имя. Венчание с Ланским, конечно же, заставит вспомнить подзабывшиеся за семь лет в памяти подробности трагических дней 1837 года.
Опять пойдут по Петербургу разговоры: «Бедный Пушкин. Жертва легкомыслия, неосторожности, опрометчивого поведения своей молодой красавицы жены», «Бедная Натали – жертва собственного легкомыслия и людской злобы». Но если такие слова произносили в дружественном поэту и его семье доме Карамзиных, то с каким же злорадством будут обсуждать вторую свадьбу Натали ее враги! Тут можно ожидать всего. И ненужного сочувствия: мол, наконец-то эта красавица забудет кошмар своего первого супружества. И причитаний тех, кто при жизни Пушкина никаких теплых чувств к нему не испытывал; у нее не хватит сил прикинуться равнодушной к молве беспощадной и язвительной. И у того человека, которому хватило смелости стать ей и детям Пушкина опорой, тоже будет щемить сердце. Нет, нет! Все следует устроить тихо и незаметно...
Но тут объявилась неожиданная трудность. По существовавшим тогда порядкам человек настолько приближенный к престолу, как Петр Петрович, обязан был испросить разрешения жениться непосредственно у императора – шефа полка. Что Ланской и сделал, услышав в ответ:
– Искренне поздравляю тебя и от души радуюсь твоему выбору! Лучшего ты не мог сделать. Что она красавица – это всякий знает, но ты сумел оценить в ней честную и прямую женщину. Вы оба достойны счастья, и Бог пошлет вам его. Передай своей невесте, что я непременно хочу быть у нее посаженым отцом и сам благословить ее на новую жизнь.
Во всяком случае ответ государя в передаче Александры Ланской-Араповой выглядел именно так. И хотя пушкинисты имеют много претензий к ее записям, часть из которых несомненно сделана со слов матери, без них мы бы не знали живых подробностей, в том числе и о свадьбе.
В самый торжественный момент венчания наверху раскатисто зазвонил колокол, что, однако, не было предусмотрено церемонией. Так в чем же дело? Оказалось, один из молоденьких офицеров, Николай Орлов, прослышав про венчание своего командира, все-таки вознамерился попасть в церковь. Ланской позаботился о том, чтобы вход строго охранялся. Но Орлов, однако, не отказался от своего замысла и забрался на колокольню, надеясь с высоты взглянуть на новобрачных, когда они будут выходить из церкви.
Одно неосторожное движение – и случайно задетый молодым человеком колокол басисто загудел. Орлов же растерялся и не знал, как прекратить предательский звон.
Когда дело выяснилось, он страшно сконфуженный, извинился перед новобрачными, был прощен и даже получил разрешение бывать в семье командира, чем в дальнейшем и воспользовался.
Итак, из церкви Наталья Николаевна вышла уже не Пушкиной, а Ланской. Эта фамилия не могла, конечно, претендовать по своей значительности на ту, которая обессмертила Наташу Гончарову, когда-то застенчивую девушку из калужского захолустья. Но жизнь есть жизнь. И Наталья Николаевна, ныне генеральша Ланская, могла быть уверена, что случившаяся перемена вводит ее в достойную семью.
...Но представим себе положение новобрачного, которому на следующий день предстояло доложить государю о состоявшейся свадьбе. Как объяснить ему, напросившемуся в посаженые отцы, почему все свершилось без его присутствия? Разумеется, Ланской чувствовал себя не в своей тарелке. Однако первые же слова извинения Николаем I были прерваны:
– Довольно! Я понимаю и одобряю те соображения, которые делают честь чуткости ее души, – говорил он о Наталье Николаевне, которая предпочла отказаться от чести, предложенной, ей. – На другой раз предупреждаю, что от кумовства так легко не отделаетесь. Я хочу и буду крестить твоего первого ребенка...
В подарок Наталье Николаевне он послал с нарочным бриллиантовый фермуар.
* * *
Супружество Натальи Николаевны с генералом Ланским продлилось без малого двадцать лет. Целая жизнь! Писали о нем мало, как-то вскользь, полагая, что гибель Пушкина поставила точку и в биографии его жены, а все остальное уже не имеет значения. Но истинных почитателей поэта не может не волновать судьба тех, кого он так любил: жены, чью честь защищая, и вышел на смертельный поединок, четверых детей, рождению которых так радовался и за будущую судьбу которых так волновался.
Забегая вперед, скажем: Александру Сергеевичу не в чем было упрекнуть Ланского. Он не только вырастил детей поэта, как своих собственных, но и воспитывал, причем в одиночку, уже без обожаемой жены, пушкинских внуков. Что же касается Натальи Николаевны... Какое место в ее сердце занимал Ланской?
Слово «любовь» многозначно. И каждый желает видеть в нем воплощение того, в чем нуждается. Одни__буйство чувств, бесконечную смену событий, когда день вчерашний не похож на сегодняшний, а завтрашний таит в себе новые радости. Другие, напротив, ценят в любви обретение надежной пристани, которая спасет от любого шквала и не даст унести тебя в безбрежный океан жизни.

На знаменитом памятнике перед Марианским дворцом Николай I изображен в форме Конногвардейского полка, которым командовал Ланской. Полк остался верен императору в день восстания на Сенатской площади. Вероятно, этим объясняется особо теплое отношение к нему самодержца. «Моя старуха конная гвардия», – любил говорить он.
Наталье Николаевне выпало жестокой мерой оплатить легкомыслие молодости и женское тщеславие, чему оправданием была сама ее изумительная красота. Смерть гениального мужа заставила взглянуть на мир другими глазами. Радостью жизни стала невеселая череда балов и маскарадов в Зимнем. Ничем иным как суетой сует она это теперь не назвала бы. Собственно, они с покойным Александром Сергеевичем пришли к одной и той же мысли: человеку нужен добрый спутник жизни, душевный покой да «щей горшок»: стало быть, мешок с золотом вещь совершенно необязательная. Не случайно в одном из писем Ланскому она признается, что знает лишь одно сокровище – свою любовь к нему, которая по своей высоте и неколебимости равна любви к Богу.
И отправляясь под венец, Наталья Николаевна молила судьбу не обездолить ее.
А ведь сбылось! Несомненно, сбылось! При общем пристальном внимании к семье русского гения, думается, даже незначительный факт не в пользу второго мужа Натальи Николаевны стал бы известен. Но нет! В том, что выбор вдовы был на редкость удачен, сходятся все, даже друзья поэта, которые, разумеется, особенно ревниво оценивали того, кто заменил детям Пушкина-отца.
Между тем Ланской по своему характеру являлся полной противоположностью Александру Сергеевичу. Дочь Петра Петровича Александра, например, писала, что отец был неразговорчив, мог даже производить впечатление холодного человека, такого, знаете ли, гордеца, к которому трудно подступиться. Вспомним очарование разговора Пушкина, когда от него, некрасивого, невозможно было отвести глаз. В Ланском же педантизма, стремления везде и во всем к четкости имелось предостаточно. В чем, в чем, а в этом ни поэт, ни прекрасная Натали замечены не были: все их старания положить конец «художественному беспорядку» в обычной жизни кончались неудачей. Ланской – а это являлось одной из главных его черт – обладал совершенно исключительной выдержкой. Пушкин был весь как на ладони. Судя по тому, как легко близкие и знакомые узнавали по лицу Натальи Николаевны о ее душевном состоянии, она в этом смысле с поэтом оказалась схожа. К тому же была, как Александр Сергеевич, и вспыльчива, о чем мало известно – все почему-то представляют ее кроткой, меланхоличной тихоней.
Итак, Наталья Николаевна обрела спутника, едва ли способного ей напомнить первого мужа, да и с ней несхожего своим нравом. Вероятно, это был как раз тот случай, когда разные характеры отлично дополняют друг друга. А главное, в достатке было необходимое для прочного супружеского союза: желание быть вместе. Ради этого можно было многим поступиться. Такого рода задача в первую очередь выпала на долю Петра Петровича. «Перемена участи», как говорится, была очень заметна.
В новую квартиру Ланского в командирском корпусе Конного полка перебралось семейство со своим давно сложившимся укладом: сама Наталья Николаевна, ее старшая сестра Александра Николаевна, которую ей и в голову не пришло отделить от себя, и дети. Старшим Маше и Саше было соответственно двенадцать и одиннадцать лет. Это возраст, вполне достаточный, чтобы понять изменения, происшедшие в их жизни.
Никогда ни старшие, ни младшие не называли Ланского отцом. Он всегда оставался для них Петром Петровичем. Вероятно, таково было желание Натальи Николаевны – поселить в детях сознание, что они – Пушкины, что отец их умер и у них есть отчим.
Это честное и четкое положение вещей, когда дети понимают, что Петр Петрович – муж мамы, не родной им человек, к великому счастью, не повлияло на взаимоотношения в новой семье.
Едва ли Ланской заигрывал с приемными детьми, пытаясь расположить их к себе, – такое противоречило его сдержанному характеру. Это Пушкин мог устраивать веселую кутерьму с малышами своих друзей. Скупому в эмоциях Ланскому такое едва ли пришло бы в голову. Он всегда оставался таким, каким был. И в сближении отчима и «приемышей», быть может, в первую очередь сыграла чуткость детской души, которую не обманешь. Пушкинская поросль уверовала, что человек, к которому все они перебрались, – друг им и их матери. Еще мало соображая в человеческих отношениях, они видели, что Петр Петрович непритворно добр, заботится о них. Примеров тому имелось достаточно. И приемыши потянулись к нему, как беззащитный интуитивно тянется к сильному.
Спустя год после свадьбы эти отношения в новой семье прошли испытание, которое бывает болезненным даже для родных детей. У молодоженов появилась новорожденная. 15 мая 1845 года, на сорок седьмом году жизни, Ланской впервые стал отцом.
Император не забыл своего обещания и приехал в Стрельну крестить маленькую дочку Петра Петровича. Девочке дали имя Александра.
Спустя несколько десятилетий Александра Петровна Ланская-Арапова со слов очевидцев записала о своих крестинах:
«Приняв меня от купели, он (Николай I. – Л.Т.) отнес матери здоровую, крепкую девочку и, передавая ее с рук на руки, шутливо заметил:
– Жаль только одно – не кирасир!»
Кирасиры, напомним читателю, относились к кавалерии и сражались на конях с тяжелыми палашами в руках. Острота императора понятна – кто на месте Ланского не мечтал бы о сыне? Однако годом позже родился опять «не кирасир», а дочь Софья. Уж, видно, так было суждено Ланскому – третьим их с Натальей Николаевной ребенком тоже была девочка, названная Елизаветой.
Однако «три девицы под окном» плюс четверо Пушкиных не казались генералу пределом отцовства. Он искренне любил детей как таковых, и тот бедлам, который устраивала юная ватага в его чинном генеральском жилище, Ланского не раздражала. Быть может, не последнюю роль в его желании еще и еще раз стать отцом играло то, что он знал, насколько хорошо себя чувствует в роли многодетной матери и его обожаемая супруга.
«Я тебе очень благодарна за то, что ты обещаешь мне и желаешь еще много детей. Я их очень люблю, это правда», – писала в ответ на семейные планы Петра Петровича, который он, видимо, высказывал в своем письме, его генеральша-жена. Она все-таки реалистичнее мужа смотрела на вещи, учитывала и его возраст, и то, что его положение по монаршей воле может перемениться. Что тогда? Долг родительский не только родить ребенка, но и «думать впоследствии о будущности каждого из них». «Дай Бог, – отвечала она Ланскому, – чтобы мы могли обеспечить каждому из них независимое существование. Ограничимся благоразумно теми, что у нас есть, и пусть Бог поможет нам всех их сохранить».
Детей они сохранили всех, это тоже говорит о том, что внимания, неусыпного догляда за ними было достаточно. Все они выросли к тому же с хорошим здоровьем, физически крепкими. Конечно, говоря о «независимом существовании», Наталья Николаевна загодя терзалась: пятеро дочерей – всех надо обеспечить приданым, а мальчики Пушкины – их нельзя выпустить в жизнь без копейки в кармане.
Несомненно, Ланскую огорчало то, что все те же запутанные денежные отношения с Гончаровыми «бросили ее», как выражалась она, «на шею мужу». Пенсию, назначенную ей после смерти Пушкина, похоже, теперь Наталья Николаевна не получала. С родственниками Александра Сергеевича тоже была полная неразбериха. Петру Петровичу пришлось взять эти дела в свои руки, дабы дети Пушкина имели в будущем собственную копейку.
Человек опытный и скрупулезный, приняв на себя обязанности опекуна детей поэта, Ланской взялся за управление нижегородскими пушкинскими деревнями. Его стараниями было сохранено для детей поэта и Михайловское.
Между тем квартира Ланского пополнялась все новыми обитателями.
Сюда, под крыло Натальи Николаевны, прибился и племянник Александра Сергеевича – сын его сестры Ольги Сергеевны. Учась на правоведа, подросток Лев Павлищев стал членом, как шутила Наталья Николаевна, ее «пансиона» на правах такого же любимого ребенка, какими тут себя чувствовали все.
Когда по необходимости Льву приходилось возвращаться в пансион училища, он безутешно рыдал. Наталья Николаевна как могла успокаивала подростка, обещала не забыть его и при первой возможности забрать к себе снова. Однажды она строго выговорила сыну Саше, не заметив в нем сочувствия к слезам двоюродного брата. Учителя преподавали детям Натальи Николаевны науки, но правила человечности, деликатности прививала им, безусловно, мать, учила их ценить родство, помогать друг другу и в мелочах, и в большом.

Паша Ланской, племянник Петра Петровича, звал Наталью Николаевну тетушкой. Приняв его в свою семью, Ланская писала мужу: «Ты знаешь – это мое призвание, и чем больше я окружена детьми, тем больше я довольна». Так и шли ее дни в шумной, галдящей ватаге взрослевших Пушкиных, подраставших Ланских. «Мой маленький народец», – говорила о них Наталья Николаевна.
Этого невозможно добиться лишь наущением. Сама атмосфера жизни Ланских питалась чувством справедливости, любви к тем, кто рядом с тобой, умением быстро забывать неизбежные обиды. Дружба, связавшая детей Пушкиных и Ланских, сохранилась на всю жизнь, выдержав те испытания, которые порой оказываются непреодолимыми для родных братьев и сестер.
Если у Натальи Николаевны все семеро были «ее», другой счет мог бы быть у Ланского. Этого Петр Петрович, к собственному счастью и счастью всей семьи, избежал: «Вряд ли найдутся между отцами многие, которые всегда проявляли бы такое снисходительное терпение, которые так беспристрастно делили бы ласки и заботы между своими и жениными детьми, – писала Александра Арапова. – Лучшей наградой исполненного долга служило ему сознание тесного, неразрывного союза, сплотившего нас всех семерых в одну любящую, горячо друг другу преданную семью».
Будущее покажет, что старшая из дочерей Ланских ничего не преувеличивала. Недостатка в преданности друг другу дети Пушкиных-Ланских не испытывали, а ее потребовалось немало – жизнь прожить, как говорится, не поле перейти.
* * *
...Напасть пришла в семейство Ланских с той стороны, откуда меньше всего приходилось ждать. Совершенно неожиданно Александрита, Александра Николаевна, ополчилась на зятя. Кажется, совсем недавно перед замужеством Наташи ее сестра писала родным, какой чудесный, редкий человек встретился несчастной сестре-вдове и что ей трудно перечислить все достоинства, которыми обладает Петр Петрович.
Почему спокойная жизнь в семье уже замужней сестры изменила настроение Александрины? Раньше она человек с упрямым, неуступчивым характером прекрасно понимала, что без ее помощи и поддержки Наталье Николаевне придется совсем туго. Это, пожалуй, было правдой – ее прекрасная сестра много раз становилась жертвой излишне мягкого характера.
А теперь в доме генерала Ланского Александрине при всей деликатности и по-прежнему теплом отношении сестры – пришлось перейти на вторые роли. У Наташи был муж – ее первый советчик, ближайший друг и опора. Уязвленное самолюбие Александры Николаевны бунтовало, хотя ни малейшего повода Наталья Николаевна и ее супруг не давали.
Но скрытое недовольство своей жизнью у Ланских продолжалось. И хуже всего то, что Александрита стала настраивать детей Пушкиных против отчима. Если учесть, что старшие – Маша и Саша – были уже подростками, как все в этом возрасте, впечатлительными и ранимыми, легко представить, каких семейных осложнений могло стоить такое неразумное поведение. Один неверный шаг Ланского, случайная необдуманная фраза – и Маша с Сашей получили бы доказательство наговоров тети Ази. То, что этого не случилось – лишнее свидетельство безупречного отношения Петра Петровича к приемышам. Вероятно, этот умный и опытный человек осознал всю меру опасности для семьи – и, как стойкий оловянный солдатик, стал на ее страже, поклявшись умереть, но не дать рухнуть своему счастью.
Но каково было Наталье Николаевне наблюдать это изнурительное беспричинное противостояние двух дорогих ей людей? Она все видела, все понимала и мучилась ужасно. В сущности, она второй раз допустила ошибку.
Пушкин в свое время вовсе не был в восторге от мысли молодой супруги поселить у себя двух старших сестер: Екатерину и Александру. Александр Сергеевич считал, что семья: муж, жена да дети должны жить отдельно. Но все же уступил Наташе. А желание ею руководило самое доброе: выдать их, бесприданниц, провинциалок, замуж. Пушкин предупреждал: из этого ничего не выйдет. Рядом с Натали сестры будут проигрывать, хотя их нельзя было назвать дурнушками, более того, одна дама, не выделяя никого из трех сестер, восхищалась их «изяществом, красотой и невообразимыми талиями». И беду девиц Гончаровых точно обрисовала фраза Ольги Павлищевой, сестры Александра Сергеевича: «Они красивы, эти невестки, но ничто по сравнению с Наташей».
Пушкин оказался прав. Венчание старшей, Екатерины, с Дантесом была всего лишь попытка последнего, влюбленного в Натали, избежать дуэли с ее мужем. Трагедия все равно разразилась. Наталья Николаевна осталась вдовой, связь со старшей сестрой была навсегда разорвана. Да и Екатерина Дантес своим несчастным супружеством только сократила свою жизнь.
И вот теперь – Александрина... Как тут ни вспомнить изречение, которое может показаться спорным: в горе легко найти утешителей, гораздо меньше тех, кто порадуется твоему счастью. И Александрина, родная, верная Александрина отчаянно ревновала Наталью Николаевну к мужу.

Александра Николаевна Гончарова была на год старше своей красавицы сестры. Человек, безусловно, преданный семейству поэта, она тем не менее своим нелегким нравом доставила немало тяжелых минут Наталье Николаевне в ее втором замужестве. Лишь терпение Ланского, бесконечная снисходительность к недостаткам других позволили сохранить мир в доме.
Дело доходило до того, что та лишний раз опасалась поехать с мужем на прогулку, в гости или просто посидеть с Петром Петровичем наедине, поговорить о том, о чем меж собой могут говорить лишь супруги.
Ланской и так постоянно был в разъездах. Но Александрина не принимала этого в расчет и не находила в себе сил хотя бы внешне поддерживать ровные отношения.
Появление генерала в доме часто сопровождалось тем, что Александра Николаевна демонстративно уходила в свою комнату, запиралась и пресекала все попытки сестры вернуть ее в семейный круг. Дурное настроение, когда она переставала со всеми разговаривать, в том числе и с сестрой, могло длиться хоть неделю, как затяжное ненастье. Да и общение за общим столом часто кончалось пикировкой, нападками и нескрываемым раздражением Александрины. Ей почему-то представилось, что Ланской ее не уважает, не ценит, считает обузой – в общем, одолевали мысли, свойственные людям, которые прежде всего сами недовольны собой, своей жизнью и клянут тот день и час, когда появились на свет.
Судя по письмам, Ланской не раз пытался наладить отношения со свояченицей. Возвращаясь из поездок с подарком для жены, он не обделял и Александрину. Наталья Николаевна всякий раз как доказательства расположения мужа показывала сестре строчки с добрыми пожеланиями и приветом ей. Но упорствовавшую в своей неприязни к Ланскому Александру Николаевну трудно было пронять такими пустяками.
Шли годы, но что касается настроения сестры, к величайшему огорчению Натальи Николаевны, ничего не менялось. Александрина привыкла к роли главной воспитательницы детей Пушкина, а маленькие Ланские, у которых были свои няни и гувернантки, уже не видели авторитета в лице «тети Ази». Возникали конфликты. Девочки, очевидно, жаловались на нее не только матери, но и отцу.
Хуже всего то, что Наталья Николаевна понимала, что Александрина – ее крест по гроб жизни. Сестре вот-вот должно было исполниться сорок лет. За исключением романа с Аркадием Россетом, оказавшимся безрезультатным, она не могла бы припомнить никого, кто решился бы разомкнуть круг ее одиночества. Ожесточение женского сердца, похоронившего всякую надежду на личное счастье, можно понять. Это чувство копилось долгими годами. Еще живя в доме Александра Сергеевича, Александрина далеко не всегда могла справиться с приступами тоски, раздражения, жертвой которых в первую очередь становилась многотерпеливая Наташа. Человек по натуре прямодушный и вовсе не злой, Александрина сама признавалась в письме родственнику: «Не можешь себе представить, как я чувствую себя изменившейся, скисшей, невыносимого характера. Право, я извожу людей, которые меня окружают; бывают дни, когда я могу не произнести ни одного слова, и тогда я счастлива. Надо, чтоб меня никто не трогал, со мной не говорили, не смотрели на меня – и я довольна».
Именно на эту причину – безысходную, втуне пропадавшую жизнь – постоянно указывала Наталья Николаевна мужу в письмах, прося его снисхождения и терпеливости.
«...Как бы я была бы счастлива, если бы в вашей совместной жизни, – писала о сестре Ланскому его супруга, – когда ты вернешься, было бы больше согласия, чем раньше. Лишь бы она могла выбросить из головы мысль, что ты когда-нибудь имел что-либо против нее, и понять, что ты питаешь к ней только привязанность. Самое мое горячее желание, чтобы она была справедлива к тебе и ценила благородство твоего сердца, и здесь я надеюсь на время и на Бога.
Невозможно, чтобы в конце концов она не убедилась, что твоя душа не способна к ненависти».
Слово «ненависть» в устах Натальи Николаевны, всегда старавшейся всех примирить, успокоить, слишком сильное. Оно достаточно красноречиво говорит о том. как осложнила ее жизнь сестра. И только бесконечно мягкий характер Натальи Николаевны помогал ей снова и снова искать пути к семейному взаимопониманию и ладу.
Вероятно, она немножко хитрит, отправляя следующее, письмо мужу с такими словами: «...Сашинька просит передать тебе тысячу приветов. Бог мой, как я была бы счастлива, если бы вы были хороши друг с другом... Вы оба хорошие люди, с добрейшими сердцами, как же так получается, что вы не ладите. Это одно печалит меня, но в конце концов я говорю себе, что счастье не может быть полным».
Ну что ж, порадуемся хотя бы тому, что Наталья Николаевна наслаждалась тем, в чем видела единственное счастье на земле – союзом двух любящих сердец...
...Бог словно услышал молитву Натальи Николаевны.

Даже в беглой зарисовке виден упрямый характер первой дочери Натальи Николаевны от брака с Ланским. Но что нам до того! Спасибо выросшей Александре за то, что оставила на бумаге живые сценки и события «другой» жизни своей прекрасной матери, а также своих «пушкинских» братьев и сестер.
Неожиданно сорокалетняя Александрина стала невестой – к ней посватался Густав Фризенгоф, знакомый Гончаровых, недавно ставший вдовцом. Ланские очень желали этой свадьбы, даже имели неосторожность поторапливать жениха, на что тот немного обиделся. Но и супругов понять можно: Наталья Николаевна радовалась, что сестра наконец-то покончит с постылым одиночеством, и они, безусловно, не без облегчения ждали освобождения от гнета тяжелого характера Александрины.








