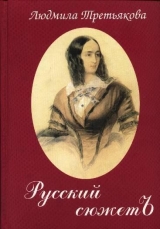
Текст книги "Русский Сюжетъ"
Автор книги: Людмила Третьякова
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 18 страниц)
* * *
То, что в Петербурге на Сенатской площади произошел бунт и дело дошло до картечи, в Первопрестольной узнали быстро. Газеты старались представить случившееся малозначительным, писали о «жалкой кучке злодеев». Но, по слухам, в заговоре было замешано много людей, к тому же из очень знатных фамилий. В Зимнем днем и ночью идут допросы, а виновных все привозят и привозят.
Якушкин ожидал ареста со дня на день. Мысль о том, чтобы подготовить жену к неотвратимому, он отбросил сразу. Настя слишком юна и слаба. Не поймет. Не переживет. Он поневоле сам подпишет приговор и ей, и будущему ребенку. И тогда для мучительного объяснения он выбрал Надежду Николаевну. На кого ему еще положиться? На кого оставить семью?
...Якушкин считал свои убеждения справедливыми, а дело, затеянное ими, – святым. Он не сомневался в правильности выбранного пути и цели, где не имелось ни капли эгоизма, корысти, личных видов.
Но были вопросы, на которые Иван Дмитриевич не мог бы ответить. И он боялся услышать их от матери Настеньки. Зачем ты женился? Зачем, зная, что твоя жизнь не принадлежит тебе, повел к венцу девочку, не успевшую наиграться в куклы? А вступив на стезю борьбы за новую жизнь, ты о них, о детях, подумал? Вот он грех незамолимый, не прощаемый.
Якушкин ждал этих справедливых вопросов и думал – лучше пуля в грудь. Мгновение – и все кончено.
...Шереметева выслушала признание зятя, спокойно глядя на него, – человека, погубившего ее дочь и внуков. Что мешало ей обрушить на голову Якушкина проклятья? Кто бы посмел упрекнуть Надежду Николаевну в этом? Страшных вопросов, которых так боялся Иван Дмитриевич, он тоже не услышал. Почему? Ответ возможно найти в словах, сказанных как-то Шереметещой о себе самой: «У меня сердце всегда впереди разума бежит».
И теперь, когда ее ум и материнское чувство казнили Якушкина, сердце – миловало. Она смогла ощутить ту бездну отчаяния, которое испытывал этот несчастный человек. Он сам виноват? Да, конечно. Идеи зятя Шереметева не разделяла, они казались ей безумными, так же, как и многим. Но сейчас его вина, его заблуждения в ее глазах не имели ровно никакого значения. Перед ней стоял невыразимо страдающий человек. Так что же стоят милосердие и любовь к ближнему, если они проявляются не в такие роковые минуты, а по мелочам? На этот счет Надежда Николаевна была иного мнения.
В тяжелый час, давший отсчет новым горестям, Шереметева осталась верной себе и нашла в себе силы перенести испытания «с образцовым терпением, не позволяя несчастно сложившимся обстоятельствам подавить свою изумительную душевную твердость». Как писали о ней современники, «никогда она не унизила себя малодушным ропотом на судьбу...» Без громких слов, без слез перевела мучительный разговор в иную колею: чем можно помочь делу, что следует предпринять для возможного облегчения участи.
...Насте же в тот ночной час не спалось. Она относила охватившее ее тревожное чувство на счет приближавшихся родов. Ах, скорее бы! А там уж и весна не за горами. И снова в Покровское или в Жуково, как пожелает Иван Дмитриевич. Все равно – лишь бы с ним.
Решив, что лучше встать, чем без сна ворочаться в постели, Настя, закутавшись в широкую шаль, вышла из спальни. И тут услышала разговор, доносившийся снизу из гостиной.
– Где бумаги? – несомненно, это был голос матушки.
– Под половицами в кабинете. С левой стороны от письменного стола, – отвечал муж.
Насте сделалось стыдно, что она подслушивает. Спустившись вниз, пошире распахнула приоткрытую створку двери.
Якушкин, стоявший подле камина, тотчас бросился к ней:
– Тебе нехорошо? Что-нибудь случилось?
– Позволь, – отстранив его руку, сказала Настя, – это я хочу знать, что случилось.
Надежда Николаевна, даже не повернув головы к дочери, продолжала сидеть в кресле. Настя видела ее четкий, суровый профиль.
– Матушка, да что же такое?
Не дав Надежде Николаевне ответить, Якушкин заговорил:
– Поверь, милый друг, ничего! Ровным счетом ничего; о чем бы тебе следовало беспокоиться. Это все наши дела с матушкой, хозяйские. Она учит меня уму-разуму, а я, как прилежный ученик, слушаю.
Насте очень хотелось спросить, о каких половицах, о каких бумагах идет речь. Но это означало представить себя в дурном свете, что было для нее невозможно. Она ведь так старалась заслужить не просто любовь, а уважение мужа. И ей пришлось послушаться уговоров мужа и вернуться к себе. Он уложил ее, как ребенка, подоткнув одеяло, чтобы было теплее. «Спи, мой друг!» Муж поцеловал ее в щеку, и она услышала осторожный стук закрывшейся двери.
В Москве еще не рассвело, когда по приказанию Надежды Николаевны в Покровское поехал нарочный за управляющим Соловьевым. Это был человек, отпущенный Шереметевой на волю, но продолжавший жить в семье. Явившись к хозяйке, Соловьев сразу все понял, поспешил обратно в Покровское, взломал половицы в указанном месте и сжег хранящиеся там бумаги. Надежда Николаевна умела привлекать к себе людей и внушать им беспредельную преданность: до самой смерти Соловьев сохранил эту тайну.
Однако ни своевременная распорядительность Шереметевой, ни иные меры не смогли уберечь семью Ивана Дмитриевича от катастрофы.
...Якушкина арестовали во время вечернего чая, когда вся семья сидела за столом. Полицмейстер Обрезков, извинившись перед дамами, объявил, что ему надобно переговорить с Иваном Дмитриевичем наедине. В кабинете он посоветовал Якушкину одеться потеплее и ехать с ним.
«Все разъяснится, Настенька». Якушкин поцеловал жену, припал к рукам тещи. Стукнула дверь, и все стихло.
– Сядь, Настя! – глаза Надежды Николаевны были сухи. – Сядь и слушай.
Та тяжело опустилась в кресло.
...Через двенадцать дней Анастасия Васильевна родила второго сына. Мальчика назвали Евгением.
Тем временем в газетах «Московские ведомости» печатали правительственные сообщения относительно хода следствия над участниками «возмутительного происшествия» на Сенатской площади 14 декабря и остальными членами «страшнейшего из заговоров».
Взяв детей, в сопровождении матери Анастасия Васильевна поехала в Петербург добиваться свидания с мужем, заключенным в камере самого страшного места Петропавловки – Алексеевском равелине. По окончании следствия ей разрешили повидать мужа.
И сегодня невозможно войти без содрогания под своды петропавловских казематов, хотя теперь это просто музейные помещения, правда, напоминающие каменную могилу. Поневоле думаешь, как же ступила в этот мрак и холод юная женщина, неся полугодовалого ребенка на руках и ведя двухлетнего рядом? Что ей помогало – мысль, что все это какая-то чудовищная ошибка, или надежда на милость государя? Во всяком случае, во время этого свидания, когда Якушкин первый раз увидел маленького Евгения, Анастасия Васильевна держалась молодцом.
Она сказала, что ни за что не уедет из Петербурга до вынесения приговора. Дальнейшее повергло в ужас всех, у кого родные оказались в крепости: пошли слухи, что император настроен действовать жестко. «Касательно главных зачинщиков и заговорщиков, примерная казнь будет им справедливым возмездием за нарушение общественного спокойствия». Якушкин был признан виновным в том, что «умышлял на цареубийство собственным вызовом и участвовал в умысле бунта», его отнесли к преступникам первого разряда, то есть «главным». Смертную казнь заменили двадцатилетней каторгой.
Первое и неуклонное желание Якушкиной – ехать с детьми за Иваном Дмитриевичем. То, что Трубецкая, а следом Волконская добивались разрешения разделить с мужьями ссылку, придавало ей силы. Самое страшное – полтора года разлуки, неизвестность – остались позади. А впереди жизнь вместе, которую, ни о чем не спрашивая, ни о чем не рассуждая, она с радостью приемлет. Она полюбила Якушкина четырнадцатилетней девочкой. И вот теперь настал час доказать ему, что это чувство – навечно.
Многое собиралась сказать Анастасия Васильевна мужу в Ярославле, где делали остановку ссыльные, увозимые в Сибирь. Среди них были счастливцы, которые здесь смогли увидеть любимые лица и услышать слова, дававшие силы жить дальше: «Люблю. Жди. Я приеду к тебе. Приеду».
...Наконец после долгого ожидания стало известно, что ссыльных вот-вот привезут. Начальство было недовольно: их остановка в Ярославле задерживалась из-за идущего по Волге льда. Анастасия же Васильевна не знала, что это судьба послала ей лишние часы свидания перед разлукой навсегда.
«Жена Якушкина была тогда 18-летняя женщина замечательной красоты, – вспоминал видевший ее на пересыльном пункте декабрист Н.В.Басаргин. – Нам было тяжко, грустно смотреть на это юное, прекрасное создание, так рано испытывающее бедствия этого мира».
Бедствие... Оно бывает разным. В это ярославское свидание для Анастасии истинным бедствием стало упорное старание Якушкина отговорить ее от поездки к нему в Сибирь. Только здесь, на пересыльном пункте, он узнал от жены дурную новость – царь запретил матери взять сыновей с собой. Объяснения были таковы: «Дети сии должны получить приличное роду их образование для поступления со временем на службу, отцы же, находящиеся в ссылке, не только лишены дать им воспитание, но еще могут быть примером худой нравственности».
Анастасия Васильевна, мчась в Ярославль, уже решила для себя, что жестокая мера правительства ее не остановит: мать, сестра, брат – они воспитают мальчиков, у которых впереди вся жизнь. А у их бедного отца – двадцать лет каторги. В этом выборе между мужем и детьми Якушкина не колебалась. Вот почему слова Ивана Дмитриевича о необходимости принести в жертву их соединение ради детей поразили ее как громом. Он призывал ее «ни в коем случае не расставаться с сыновьями», ибо считал, что «для малолетних наших детей попечение матери было необходимо». То, что говорил муж, было умно, убедительно и выдавало в нем прекрасного отца. Так, может быть, она легкомысленная женщина, раз думала иначе? Ей хотелось только одного – сесть в бричку, тряскую развалюху, в которой везли ссыльных, и ехать с мужем до назначенного ему места. А Якушкин просил, требовал, умолял ее дать обещание остаться при детях, растить их. И она, никогда не умевшая говорить ему «нет», дала слово выполнить его просьбу.
* * *
Прощание в Ярославле, обещание, данное мужу, – обо всем этом Анастасия Васильевна размышляла денно и нощно. Перед глазами все время вставала картина: муж подзывает к себе маленького сына, а тот не идет к нему на руки, испугавшись чужого, с заросшим лицом человека в арестантской одежде. Может быть, ее всезнающий, многоопытный супруг и прав: если она уедет к нему, сыновья вовсе забудут, что у них есть отец и мать. Сироты при живых родителях? Об этом страшно и подумать. Нет, все сделано верно. И она сдержит данное мужу слово – посвятить свою жизнь детям.
...С арестом Якушкина семейная квартира на Малой Бронной опустела. Теперь Анастасия Васильевна жила в доме на Воздвиженке при шереметевской родне. Брат Алексей Васильевич оказывал ей материальную поддержку. В дальнейшем он помог сестре поставить на ноги сыновей.
В обширном доме Якушкиной отвели комнаты, из которых она выходила лишь на прогулку с детьми да в церковь. В обществе ее не видели. Многолюдство, когда-то прельщавшее юную Настеньку, теперь утомляло и раздражало. Даже от большой родни, проживавшей в родовом обиталище на Воздвиженке, она старалась отгородиться. Не в последнюю очередь это происходило потому, что Якушкина чувствовала общее настроение домочадцев: поступок ее мужа порицался. Его считали пропащим, опозорившим семью человеком, а Настю – несчастной жертвой. Даже любимый брат Алексей Васильевич, словно забывая, что и сам был причастен к заговорщикам, время от времени прорывался гневом в адрес зятя-преступника.
Нечего и говорить, какой болью отзывалось это в сердце Якушкиной. Конечно, мать была на ее стороне, но и тут дело не обходилось без трудностей. Надежда Николаевна взялась опекать оставшуюся без мужа дочь, словно та все еще была девочкой. Никто не хотел замечать, что хорошенькая, веселая барышня превратилась в умудренную горем женщину. Анастасии Васильевне пришлось не только пройти через крушение семейной счастливой жизни, но и почувствовать полнейшее душевное одиночество. А что это было так, совершенно ясно видно из ее писем.
Пустоту, образовавшуюся возле нее, не могли заполнить ни мать, ни дети. Любовь к Ивану Дмитриевичу, быть может, на ее беду, от разлуки становилась только прочнее. Анастасия Васильевна хотела, чтобы муж знал об этом. В письмах излить свое чувство к нему было невозможно, потому что матушка взяла обыкновение писать зятю на тех же листах бумаги, что и она. Разумеется, Настины исповеди прочитывались. Сокровенная тайна любви нарушалась. И Анастасия Васильевна начала вести дневник, тайно ото всех, с мыслью когда-нибудь переслать его в Сибирь.
«19 октября, Москва, в 5 часов вечера.
Этот маленький дневник ты получишь с верным человеком, и я его начинаю с момента нашего горестного расставания. Я хотела бы тебе раскрыть самые тайные уголки моего печального сердца. Говорить, что я тебя люблю больше всего на свете, было бы только фразой. Ты должен быть в этом уверен... Мое перо в этот момент не сможет ничего писать, кроме слова «люблю»...»
Якушкина неустанно приводит мужу доказательства своей не проходящей тоски. Она целует его одежду, взятую из прежней квартиры и висевшую у нее в комнате. Она признается, что балует детей, «потому что ты мне так сказал». «Все спят, – пишет Настенька, – и я тоже лягу между обоими детьми и буду, стараясь заснуть, думать о тебе. Прощай, мне бы хотелось видеть тебя во сне, если уж я лишена счастья видеть тебя наяву».
А ведь всего только неделя прошла с ярославского свидания. И хорошо, что Настеньке неведомо: впереди годы, десятилетия, которые ей предстоит прожить в разлуке с мужем.
Время шло. Молоденькая женщина, от всех зависимая, все настойчивее огораживает свой маленький мир, где существуют только четверо: ее муж, она и двое их сыновей. Эта территория их с Иваном Дмитриевичем любви, куда вход запрещен и Надежде Николаевне. С нескрываемым раздражением жалуется она своему далекому «сибиряку» на докучливую опеку матери. От детских кроваток отгоняет даже няньку, не желая никому перепоручать детей. Прочие же родственники отвращают ее тем, что она видит: у всех своя жизнь, к ее горю они «холодны и равнодушны». «Что временами просто убийственно – это как раз то, что никто не входит в мое положение, нет никого, кому можно было открыть сердце, полное скорби. Потеряв тебя, я потеряла все – счастье, веселость, надежду, ибо что за существование будет моя жизнь без тебя?»
Но сквозь эту изливающуюся в каждодневных записях любовь просачивается леденящей струйкой горькая обида – обида Анастасии Васильевны на мужа, не разрешившего ей следовать за ним. Потихоньку, намеком и даже как бы в шутку она упрекает его в недостатке любви к ней. Сначала этой болезненной теме Настенька посвящает не более строчки, словно боится уверовать в то, о чем пишет. Но количество горьких слов растет как снежный ком.
«Не в обиду будь тебе сказано, мой любезный друг, я самая несчастная из женщин... ты мне отказал в единственном благе, которое могло бы меня сколь-нибудь привязать к жизни... если бы у меня были деньги, я уехала бы этой зимой, ты знаешь куда, но не хочу больше писать тебе об этом».
Нет, она будет писать – настойчиво, упорно, срываясь на крик: «Мой милый друг, мое состояние ужасно, я не выдержу. Разреши мне приехать к тебе. Я не могу писать, мне так грустно. Прощай, жестокий, но любимый, слишком любимый друг. Больше не могу». «Если бы ты видел меня эти три дня, то, конечно, твое мраморное сердце смягчилось бы и твои уста дали бы разрешение следовать за тобой».
* * *
Драма Якушкиных стоит особняком от всего, что пришлось пережить декабристам и их женам. Есть какая-то неразгаданная тайна в том, почему Иван Дмитриевич так упорно не соглашался на приезд жены.
Дети? Но, оставив новорожденного сына, уехала в Сибирь Волконская. Муравьева рассталась с тремя, поручив их свекрови. На глазах Настеньки собиралась в дальний путь Фонвизина, покидая в Москве двоих сыновей. Этот список можно продолжить. То есть дети не были преградой к воссоединению тех, кто очень того желал. К тому же у Якушкиных была крепкая подмога в лице совсем еще не старой матушки и очень любившего сестру Алексея Васильевича Шереметева.
Существовала одна версия этой семейной драмы, исходившая от ближайших друзей Якушкина. И состояла она в том, что чувства Ивана Дмитриевича были неравнозначны тому, что испытывала к нему жена. Это объясняли той первой, незабвенной любовью к Наташе Щербатовой, которая не только изменила характер Ивана Дмитриевича, но и не дала ему возможности всецело отдаться новому чувству. Если, как говорила теща Якушкина, у нее «сердце впереди разума бежит», то у Якушкина в отношении Настеньки «впереди бежал разум». И стало быть, Иван Дмитриевич, пожалуй, прав: грешно крошек оставлять без матери. И от Настеньки он ждал благоразумия, а она готова была затопить всю Сибирь бесконечной любовью к нему.
Дело доходило до того, что она, преданная, любящая мать, писала мужу слова, не иначе как продиктованные безысходным отчаянием: «Наши дети играют около меня и, однако, не могут меня развлечь; все их любят, все восхищаются ими, а я (прошу у тебя прощения) иногда не могу их видеть без ужасного содрогания. Это они являются препятствием к нашему соединению. Прости, милый друг, я чувствую, что я не права. Ведь это не их вина, что они существуют на свете, а скорее наша, и, несмотря на это, хотя и редко бывает, они причиняют мне ужасное страдание.
Я на коленях прошу у тебя прощения. Уверяю тебя, что я сделаю все возможное, чтобы быть благоразумной...
...Я лишена возможности видеть тебя, кто один только составляет мое счастье. И ты сам захотел этого... это черта некоторого деспотизма; ты должен был мне предоставить выбор и немного подумать о своей бедной жене, которая любит тебя в миллион раз больше, чем когда-либо раньше. После нашей разлуки я так тебя люблю, так люблю, что не могу тебе этого выразить...»
Чувствуется, что временами Анастасии хочется взять детей и бежать из дому, где чувствует себя бедной приживалкой. С отчаянием жалуется она мужу: «Из меня делают куклу. Делают со мной все, что хотят, потому что у меня нет возможности жить так, как я бы хотела. Теперь только я узнала, как свет ужасен... Почему я не умерла при рождении – я была бы более счастлива. Не могу больше, прости, дорогой мой, но бывают минуты, когда я не знаю, что с собой поделать. Я так тебя люблю...»
Когда читаешь письма женщин-декабристок с описанием тяжелейших условий жизни, холодных нор вместо жилища, болезней и неприятностей, то нельзя не заметить того подъема духа, которое давало сознание, что они – вместе с любимыми. Есть трудности и испытания, но нет убийственной тоски. Природа, условия быта пригибают к земле, а любовь дает силы, заставляет радоваться жизни наперекор всему.
На этом фоне судьба Анастасии Якушкиной ужасает своей безысходностью.
...1828 год. Время бежит. И это радует Анастасию Васильевну – дети подросли. Теперь она снова будет добиваться права выехать с сыновьями в Сибирь. К хлопотам по просьбе Надежды Николаевны подключается В. А. Жуковский. Граф Дибич сообщил, что постарается, чтобы прошение как можно скорее оказалось у императора.
Как раз в это время на стол Николая I ложится еще одна бумага: княгиня Наталья Дмитриевна Шаховская с сыновьями Дмитрием и Иваном просит разрешения на поездку в Сибирь к ссыльному мужу.
* * *
Стремление Натальи Дмитриевны воссоединиться с мужем вполне понятно. Все, что известно о князе Федоре Петровиче Шаховском, заставляет проникнуться уважением к этому человеку, кончившему свою жизнь таким молодым и в таких ужасных условиях.

С годами Анастасия Васильевна становилась все прекрасней. Но это напрасная красота женщины, обреченной на «соломенное вдовство». Главная мечта жизни – соединиться с мужем, сосланным в Сибирь, – не осуществилась.
Каждый шаг его был благороден и мужествен. Отойдя от тайных обществ и посвятив себя семейной жизни, он, узнав об арестах товарищей, сам явился к губернскому начальству с требованием отправить его в Петербург. Долг чести повелевал ему действовать так, а не иначе. Хотя чего это стоило князю, можно представить. «Жену свою оставил я в селе Ореховце в тяжелой беременности с мучительными припадками; с нею сын наш Дмитрий по 6-му году, – писал он, покинув семью и не имея сведений о дальнейших событиях. – Но если ужасное несчастие постигнет меня и последняя надежда и отрада исчезнут в душе моей с ее жизнью, то одно и последнее желание мое будет знать, что сын мой останется на руках ее семейства, в роде отца ее, князя Дмитрия Михайловича Щербатова».
Эти строки похожи на завещание. Шаховской предвидел, что, возможно, никогда не увидит дорогие лица. В его отсутствие, мучаясь неизвестностью, Наталья Дмитриевна родила второго сына, которого назвала Иваном.
...На допросах Шаховской держался с удивительным хладнокровием. Про него писали: «Он – решительное исключение среди всех декабристов... Показания Шаховского полны достоинства, которого так не хватало его товарищам».
По приговору суда князь был лишен чинов, дворянства и сослан на поселение пожизненно. Указом от 20 августа 1826 года пожизненную ссылку заменили двадцатилетней.
Шаховской оказался в одном из самых гиблых мест – в Туруханске. В отличие от большинства декабристов, живших вместе коммуной и тем спасавшихся, у князя Федора Петровича здесь оказался лишь один товарищ – Н.С.Бобрищев-Пушкин. Богатая родня бросила его на произвол судьбы, и, если бы не Шаховской, регулярно получавший помощь от Натальи Дмитриевны, Бобрищев-Пушкин умер бы с голоду. Когда же он заболел психическим расстройством, князь с самым нежным участием ухаживал за ним. Бобрищева-Пушкина в конце концов поместили в больницу, а Шаховской остался совершенно один. Письма сюда приходили раз в два месяца.
В невыносимых условиях этого края, где морозы достигали 50 градусов, а летом мучила адская жара, князь не оставил своих агрономических и хозяйственных опытов, привлекал к ним местное население, чем страшно раздражал начальство. Его перевели в Енисейск. Вещи, присланные Натальей Дмитриевной, которая старалась учесть пристрастия мужа, помогли ему устроиться на новом месте. Он получил книги, ящик с красками, даже гитару в футляре и писал своей обожаемой жене, что пытается заполнить день до отказа, делает переводы с французского, составляет краткую грамматику русского языка. В нем наперекор всему не пропадала страсть к самосовершенствованию, к деятельной, полезной жизни.
«Вот еще письмо от тебя, нежный друг мой! – пишет он жене. – Благодарю тебя, что ты так часто пишешь, отрада получать весть о тебе и милых детках...»
С благоговением перебирал он то, что присылала Наташа, то, чего касались ее руки: туалетные принадлежности, готовальню с серебряным циркулем, часы, разную посуду, самовар, утюг. Во всем сказывалось ее стремление скрасить горькую участь мужа.
И все же никакие занятия не спасали Федора Петровича от страшной тоски по семье, по Наташе, любящей и любимой. Не встречая с ее стороны ни слова упрека, он тем не менее казнил себя сам, с горечью думая о детях, – сиротах при живом отце. Верующий человек, он находил утешение в религии. Князь постоянно ходил в храм, взял на себя обязанности церковного чтеца, пел на клиросе.
И все-таки фатальный исход этой изломанной судьбы был предрешен. В июне 1828 года гражданский губернатор сообщил в Третье отделение, что государственный преступник Шаховской сошел с ума. Как только Наталья Дмитриевна узнала о случившемся, она подала прошение на имя государя, чтобы ей дозволили ехать к мужу.
Скажем кратко: условия были поставлены Наталье Дмитриевне заведомо неприемлемые. Лишенная возможности облегчить участь мужа, она возбудила перед государем новое ходатайство: поселить несчастного «в одной из отдаленных от столиц деревень». Просьба была отклонена. Николай I разрешил перевести больного в европейскую Россию, но с условием, что он будет отбывать срок в качестве заключенного в одном из суздальских монастырей...
* * *
В это же время решалась и судьба Анастасии Якушкиной. Ожидание превратилось в медленную пытку еще и потому, что отказ мог поступить с двух сторон: от царя и от мужа. Кажется, последнего Анастасия Васильевна боялась больше. Месяц за месяцем проходил между молотом и наковальней. Осенью 1829 года она в очередной раз умоляет мужа: «Разреши мне приехать и разделить твои страдания, твои несчастья, и они покажутся тебе легкими, разделенные с женщиной, которая тебя любит. Не думай, однако, что эта женщина все тот же капризный ребенок, каким ты ее знал когда-то. Нет, это разумное существо, женщина сложившаяся, положительная, умоляет тебя о милости и страшится ее не получить...»
Эта искренняя, страдающая душа не умеет ничего скрыть, не умеет притворяться, она вся как на ладони, с единственным желанием – приехать к мужу в Сибирь. Умоляет только об одном: не говорить «нет». Это убьет ее.
На этот раз, понимая, что дочь подошла к страшной черте, Надежда Николаевна, не пропускавшая ни одной почты к зятю, написала Якушкину: «...Отказом не сделай, как она говорит, свое и ее несчастье».
И Якушкину не остается ничего другого, как сдаться. Какое ликование на Воздвиженке! «Как бы я хотела уже быть в дороге, если бы получила так долго ожидаемые бумаги, – пишет Якушкина мужу. – Дай Бог, чтобы их уже иметь»,
Одна радость потянула за собой другую. На прошение Якушкиной «Государь Император отозваться соизволил, что исполнение сего желания ей не возбраняется». Царь разрешил!
...Однажды Анастасия Васильевна в письме мужу заметила: ее еще в детстве не оставляло чувство, что она будет очень несчастлива. Похоже, это предощущение сбывалось.
Когда все уже было готово к отъезду, заболел младший сын. Время отъезда, означенное в бумагах, истекло. Разрешение на выезд было отозвано обратно...
* * *
Князя собирались везти в Суздаль. Была составлена «опись имущества государственного преступника Федора Шаховского», и в Красноярске устроили аукцион-распродажу. Кто-то купил томик Пушкина, кто-то – медные кастрюли, утюг, «зажигательное стекло в черепаховой оправе» и прочее.
В Суздале Шаховской должен был содержаться в монастырской тюрьме. Однако «жене преступника Шаховского, урожденной княгине Щербатовой по сродному Его Величеству милосердию дозволялось иметь попечение о муже ее в его болезни». Предписывалось беспрепятственно пропускать Наталью Дмитриевну к больному «с наблюдением, однако ж, надлежащего приличия и должной предосторожности ».
Пока шла переписка, князь лежал в городской больнице «по случаю помешательства его в уме». Никто не поинтересовался, сможет ли он перенести шесть тысяч верст пути в морозную, зимнюю пору.
Перед отъездом сопровождавшему князя фельдъегерю вручили пакет на имя архимандрита Спасо-Евфимиева монастыря, вещи в чемоданах по описи, под расписку «сдали преступника Шаховского», и они тронулись в путь. Мчались быстро: 16 февраля выехали из Енисейска, а 6 марта уже были в Суздале.
Несмотря на то, что фельдъегерю было выдано достаточно теплых вещей для Шаховского, князя привезли в монастырь с обмороженным лицом и с обмороженными пальцами рук и ног.
А Наталья Дмитриевна тем временем дожидалась известия из Суздаля о «прибытии преступника». Дрожащей от волнения рукой писала она мужу: «Друг мой! В конце прошлой недели узнала о твоем прибытии в Суздаль. Мы опять скоро увидимся. Ты прижмешь к сердцу твоих детей. Дурная дорога и разлитие рек препятствуют мне исполнить немедля необходимое желание моего сердца – тебя видеть. На той неделе при первой возможности отправлюсь к тебе, другу моему. Мы вместе возблагодарим Всевышнего, внимающего молитвам несчастных. Прости, друг души моей, до радостного свидания.
Тебя любящая жена Наталья Шаховская».
Наконец Наталья Дмитриевна добралась до монастыря. Ее проводили в тюрьму, и в полумраке камеры она все силилась и никак не могла признать в человеке, на которого ей указали, своего мужа. Стараясь не выдать ужаса и смятения, она подошла к арестанту и заговорила с ним так, будто они расстались только вчера:
– Ну видишь, друг мой Феденька, я как обещала тебе, так и сделала. Господь нас не оставил, родной мой, свиделись...
Княгиня не выдержала, слезы покатились по ее щекам, и, уже не тая плача, она продолжала:
– И мальчики со мной... я их пока в Суздале оставила. Ты, мой друг, их и не узнаешь. Ванечка словно с тебя списан: голубоглазый и волосы такие же. Господи, Феденька, душа моя, что же ты не радуешься... Нынче мы вместе. И завтра будем вместе. Так чего же нам бояться?.. Да что же здесь темно так! Узнал ли ты меня, друг мой? Это я – Наташа...
Шаховской, все порывавшийся приподняться с постели, вдруг тяжело повалился на бок. Послали за тюремным лекарем.
...Наталья Дмитриевна усилий своих поднять мужа на ноги не оставляла. С ложечки поила соком из апельсинов и лимонов с медом, привезенных из Москвы. Знакомые нашли ей хорошую квартиру в Суздале. На будущее она решила купить дом во Владимире и переехать сюда совсем. Мальчики станут здесь учиться, сама же она неотлучно будет при муже. Что ссылка? Что болезнь? Они все переборют, со всем справятся.
Но было поздно. Шаховской прожил после возвращения из Сибири всего два месяца. Монастырская тюрьма, сырая и мрачная, действовала на него убийственно. Наталья Дмитриевна как ребенка укутывала мужа привезенными с собой пуховыми одеялами, стараясь унять беспрестанно бивший его озноб.
Шаховского денно и нощно стерегли солдаты – крепче, чем в Сибири. Напрасно княгиня обращалась с ходатайствами убрать караул от человека, который не может уже встать с постели.
Чтобы понять речь мужа, ей приходилось близко наклоняться к нему. По его глазам понимала: с каждым днем он все дальше и дальше уходит от нее туда, откуда нет возврата. Князь отказался от еды и питья – никакие уговоры жены не помогали. Наталья Дмитриевна гнала от себя мысль: ему, смертельно усталому, хочется поскорее уйти в мир иной. Словно желая остановить мужа, Наташа принесла сломанную возле стен монастыря ветку черемухи, положила на подушку так, чтобы белые кисти касались его щеки. Федор Петрович прикрыл веки, чуть улыбнулся: да, конечно, он знает – Божий мир прекрасен и вокруг бушует весна...
К вечеру того же дня настоятель монастыря в донесении губернатору писал, что «преступник Шаховской, находясь в сильном помешательстве ума и быв одержим сильною болезнью, сего мая 24 дня в первом часу пополудни волею Божию помер».








