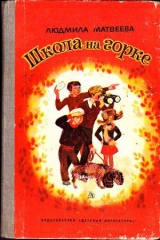
Текст книги "Школа на горке"
Автор книги: Людмила Матвеева
Жанр:
Детская проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 12 страниц)
– Так точно, понял, товарищ старшина!
– И все запомните крепко: койка – лицо курсанта.
Старшине Чемоданову, наверное, лет тридцать. Он представляется Юре пожилым человеком. Почему так важно, как заправлена койка? Юра не спросит об этом у старшины, а если бы и спросил, старшина не станет объяснять. Армия – не школа, здесь не рассуждают, а приказывают. Юра сидит под сосной, положил тетрадку на колено, пишет письмо:
«Дорогая Лиля! Прошло уже два месяца, желтые листья летят вовсю, и береза у реки почти совсем облетела, а в овраге деревья еще зеленые. Я уже писал тебе, что оказался в нашем пионерском лагере.
Это очень много – два месяца, но я стараюсь не грустить, потому что наша победа стала на два месяца ближе. И наша с тобой встреча тоже приблизилась на два месяца. Я стараюсь получше усвоить трудные формулы, они нужны артиллеристу. Уже умею ползать по-пластунски, стрелять. Я пишу тебе и отправляю письма на Московский почтамт, до востребования. И сам не знаю, почему именно на почтамт. Просто надо же их куда-то отправлять. А иногда мне мерещится, что ты вдруг неизвестным чудом окажешься в Москве, тогда ты вдруг подумаешь: «А может быть, Юра посылает мне письма на почтамт?» И тогда ты зайдешь туда, на улицу Кирова, в серое здание, подойдешь к окошечку и получишь мои письма. Их уже два отослано. Я пишу тебе по двадцать седьмым числам, ты знаешь, почему? Потому что мы встретились с тобой двадцать седьмого июля. Твоих писем я не получаю. Но надеюсь – вдруг они лежат у меня дома? Просил соседку пересылать сюда, но у нашей тети Дуси бывают свои соображения, могла и не переслать. Лиля! Я не знаю, где ты. Но ты всегда рядом со мной. Юра».
Потом он перечитывает письмо. Почему нельзя написать так, как чувствуешь? Что-то теряется, выдыхается, когда слова пишутся на бумаге. Перед словом «Юра» он вписывает «твой». Сказать так ей он бы не посмел, а написать решился.
* * *
Сегодня вечером Борис дома один. Папа еще не пришел, а мама сказала:
– Борис, я ухожу, надо навестить тетю Лизу, она сломала ногу. Ужин на столе, ешь с хлебом, не забудь выпить молока.
Про папу мама ничего не сказала, ничего не просила передать. Раньше она обязательно что-нибудь бы сказала.
Хлопнула дверь, мама ушла, Борис остался один. Немного послонялся из угла в угол. Все как всегда. На окне коричневая штора в желтых кружочках. Раньше Борису очень нравилась эта штора, желтые кружочки были похожи на мандаринчики. Теперь коричневая штора выглядела мрачной. В углу телевизор. Раньше Борис обязательно включил бы его. Пусть хоть что-нибудь показывает, не все ли равно – кино, концерт, футбол, все интересно. Теперь он поглядел на темный экран и отвернулся. На стене большой календарь с японскими красавицами. Красавица в красном, другая – в зеленом, в желтом. Раньше Борис думал, глядя на них: «Какие замечательные красавицы». Теперь подумал: «Вырядились в свои разноцветные халаты. И что хорошего?» На тахте сидит потертый плюшевый мишка. Раньше Борис любил этого медведя, даже в детский сад с собой носил и во сне с ним не расставался, а чтобы мама не отбирала, клал на мишкин плюшевый живот свою щеку. Теперь мишка сидел, повалившись на бок, Борис, проходя мимо, не посадил его ровно.
Все было на своих местах, но квартира стала не похожа на себя.
Когда папа бывал дома по вечерам, в доме всегда получался какой-нибудь беспорядок. Валялась на полу прочитанная газета, лежали окурки в пепельнице. Или яблочный огрызок торчал на спинке дивана.
Мама смеялась и говорила:
«Ну когда ты привыкнешь к порядку? Неужели трудно?»
«Конечно, не трудно, – мирно отвечал папа, – я больше никогда не буду набрасывать. Я уберу».
Мама убирала сама, а папа снова устраивал назавтра беспорядок. Но от этого беспорядка Борису было хорошо. Папа дома, он читает газету, грызет яблоко, а когда решает кроссворд, карандаш обязательно закатывается под тахту и лежит там до следующей уборки. Ну и пускай лежит. И пускай будут окурки в пепельнице. Когда пепельница пустая и чисто вымытая вот уже сколько дней, от этого совсем плохо. И нет ощущения порядка, а, наоборот, беспорядка.
Все на своих местах. Кресло не сдвинуто с места. Плотно прикрыта дверь в другую комнату, а раньше папа всегда оставлял ее полуоткрытой, и она скрипела, когда ее качало сквозняком.
Борис собрался пойти к Муравьеву, не хотелось сидеть дома. Но тут зазвонил телефон. Женский голос сказал:
– Я по поводу обмена. Вы давали объявление?.. Алё!
Борис молчал. Он не мог выговорить ни слова. Да и что говорить?
– Вы слушаете? – настойчиво говорил голос. – Алё! Алё! – Она стала дуть в трубку.
– Я слушаю, – наконец проговорил Борис.
– Детка! Позови кого-нибудь из взрослых.
– Вы слушаете? – Борис говорил очень решительно. – Папа просил передать – мы отказываемся меняться. Передумали. Поняли?
Он не заметил, как открылась входная дверь, отец вошел в квартиру. Он отпер дверь своим ключом и стоял в коридоре. Пока Борис говорил с незнакомой женщиной, отец стоял там, в темном коридоре, не зажигая света, не снимая пальто, не выпуская из рук портфеля.
– И не звоните сюда больше! Папа не велел!
– Несерьезный человек твой папа! – сказал голос. – То надумал, то раздумал. Морочит людям голову.
– Нет, мой папа, очень хороший! Не имеете права так говорить! Мой папа самый лучший! Вам и не снился такой папа!
Женщина давно положила трубку, а Борис все кричал. И по лицу катились слезы.
Отец шагнул в комнату. Прижал голову сына к пальто, ладонь лежала на спине Бориса, у того вздрагивала спина, лицо зарывалось в жесткую ткань пальто.
– Не плачь, не плачь. Только не плачь, – говорил отец.
– Я не плачу, не плачу, не плачу, – твердил Борис.
* * *
В этот день Юра вместе с Хабибуллиным и Васей Носовым дежурили по кухне. Рано, еще на рассвете, когда туман над рекой стоит столбиками, когда тянет холодом от травы, от дерева, от самого неба, они сидели друг против друга на березовых чурбаках около столовой и чистили рыбу. Юра сразу исколол руки, слизывал кровь украдкой. Узкие черные глаза казаха Хабибуллина смотрели деликатно мимо Юры. Хабибуллин пел протяжную, песню без слов и без мелодии, чистил рыбешку; вид у него был такой: раз надо, нечего тратить на это всякие «трудно» или «легко». Надо, вот я и делаю свое дело. Юра завидовал ему. Рыбешка была скользкая, вылетала из рук, шлепалась на землю, облеплялась травинками, сосновыми иголками и песком. Надо было до завтрака вычистить тысячу колючих рыбок.
Юра считал их, а Хабибуллин не считал. И от этого Юре казалось, что Хабибуллин очистил больше.
– Я весь пропах рыбой, – сказал Юра.
– Хороший запах. Кошка будет за тобой ходить, облизываться.
Юра в сердцах швырнул рыбешку в бак, вода брызнула ему же в лицо. Хабибуллин незаметно вытерся. Тактичный человек Хабибуллин. Поет свою бесконечную песню.
Где-то люди воюют, проявляют смелость и героизм. А Юра сидит на чурбаке и чистит рыбу.
– Это еще что, – говорит, высунувшись из кухни, Вася Носов. – Рыба – это тьфу. Есть работенка и получше. Котлы мыть – это да, это взвоешь.
Утро незаметно наливалось светом, но теплее не стало. Руки озябли, пальцы плохо гнутся. Гора рыбы нечищеной почти не уменьшилась, так, по крайней мере, кажется Юре.
– Смотри, совсем мало осталось, – спокойно говорит Хабибуллин.
Пришла повариха Серафима, закричала грубо:
– Дрова давай! Воды неси! Что стоишь? Мясо режь!
Вася Носов начал носиться, таскал воду. Юра дочистил рыбу. Потом он и Хабибуллин притащили дров.
А назавтра старшина Чемоданов вдруг сказал ему:
– За хорошее несение службы ты, москвич, получаешь увольнение в город до двадцати двух ноль-ноль завтрашнего дня.
Юра оказался за воротами сам не помнил как. Электричка, автобус – и он вошел в свой двор, маленький дворик, проскочил его в три шага. Отпер дверь своим ключом.
– Тетя Дуся! Писем нет?
Она вышла, посмотрела внимательно, успокаивая его глазами:
– Есть, Юра, есть. Здравствуй, Юра. Совсем ты взрослый стал, а прошло-то всего ничего.
Письма лежали в кухне на их столе, покрытом клеенкой в зеленую клетку. От мамы, от отца.
– Думала, отошлю тебе в полевую почту, а потом думаю – заедет он, чует сердце. Я тебе картошки нажарю, садись, Юра.
Он не слушал тетю Дусю, схватил конверты. От Лили письма не было. Сразу стало как-то тускло на кухне, маленькая лампочка еле мерцала под потолком. Может быть, письмо завалилось за стол? Он заглянул.
– Не было больше Ничего, не ищи, – сказала тетя Дуся.
Он сел на табуретку, стал читать письма. От мамы, от отца, еще от мамы. Они пишут сюда, домой, значит, еще не дошли до них Юрины письма с номером его полевой почты. Как долго идут они, письма! Значит, и Лилино письмо где-то идет, долго идет, а все равно придет.
– Взрослый стал, совсем взрослый стал. Слава богу, живы твои. Живы – и слава богу. Поешь картошки, Юра. Мне на завод пора.
– Я сыт, тетя Дуся. Мне надо идти!
Он выскочил во двор. Он вспомнил: цветок. Жив ли его цветок? Лилин цветок с зелеными бледными листиками. Скорее к Валентине. Вдруг показалось, что сейчас он пересечет двор и сразу все узнает – как там Лиля, помнит ли она о нем.
Он сильно волновался, когда стучал в окно Валентины.
* * *
Группа «Поиск» собралась в этот день в полном составе в сквере. Они сидели все в ряд на скамейке. В середине Костя; он держал свернутую в трубку тетрадь и, когда говорил, размахивал этой тетрадкой в такт своим словам. Рядом с ним – Валерка; он в последнее время стал немного сомневаться, не напрасно ли потянуло его в эту группу «Поиск». Название красивое, конечно, но найти ничего не удается, какой же это поиск? С другой стороны, рядом с Костей, села Катаюмова. Ее глаза сияли, потому что сегодня в первый раз она надела новую шапочку, которую ей связала мама. Голубая шапка очень шла Катаюмовой, и настроение у нее было превосходное. Рядом с Катаюмовой оказался Борис; ему было все равно, где сидеть, но совсем хорошо, если с Муравьевым. А Муравьев сидел с краю, рядом с Борисом. Конечно, Муравьев хотел бы оказаться в этот раз на месте Бориса, но как-то всегда так получается, что рядом с Катаюмовой сидит кто угодно, только не Муравьев. Наверное, так получается потому, что для нее, Катаюмовой, существуют все люди, кроме Муравьева. Как будто нет такого человека, Муравьева. Что бы он ни сделал, она не замечает его. Может быть, когда-нибудь она об этом пожалеет. Муравьев, во всяком случае, очень на это надеется.
Вот и сейчас он думает:
«Ладно, придет такой день, она поймет, что Муравьев – это не какое-нибудь пустое место. Муравьев такой человек, знакомством с которым можно будет впоследствии гордиться. Может быть, всю оставшуюся жизнь Катаюмова будет говорить: «Знаете, я училась в одном классе с самим Муравьевым. Тем самым, знаменитым, представьте себе». И все будут завидовать, пожалеют от души, что не они учились в одном классе с такой замечательной личностью. Но, конечно, чтобы понять, какой это человек – Муравьев, надо иметь ум, а не только одну красоту».
Костя говорит, отбивая в воздухе такт тетрадкой:
– Если мы не изменим тактику, мы никогда не найдем Г.З.В. Не знаю, как вам, а мне это начинает действовать на нервы. – Костя говорит напористо. – Мы живем в век научно-технической революции. Вся наука – на службе у человека.
– Что-то не пойму, к чему ты это все клонишь, – шевельнулся Валерка. – С вертолета, что ли, его искать, этого Г.З.В.?
– Вертолета нам никто не даст, – вставила Катаюмова, – а то было бы совсем неплохо.
Костя не намерен был переводить серьезный разговор в легкомысленные шутки.
– И все-таки век техники – это век техники. Слушайте. Анализ состава бумаги, на которой написаны письма Г.З.В., – это раз. Изучение шрифта пишущей машинки – это два. Вы заметили, что у этой машинки, как и у всякой, есть свои особенности? Некоторые буквы выпрыгивают из строки вверх. Можно и на этом построить какую-то версию.
– Начитался детективов, – проворчал Валерка, – версию, версию.
Но Костю не так легко сбить. Он продолжал упорно, как будто никто ничего не сказал:
– Отпечатки пальцев – три. Письма напечатаны под копирку, где-то, значит, остались эти листочки копирки, они могут многое рассказать. На копирке же отпечатываются все слова, которые напечатаны на бумаге.
– А может, он ее съел, – говорит вдруг Борис.
– Кто съел? Что съел? – совсем растерялся Костя.
Все уставились на Бориса.
– Нет, это я так. В одном многосерийном фильме видел – шпион копирку съел и не поморщился.
– Зачем съел? – спрашивает Катаюмова.
– След замести, вот зачем, – ответил Борис.
Все засмеялись. Но Костя не дал им развеселиться.
– Хватит смеяться! – Он сурово свел брови и опять махнул тетрадочной трубкой. – Надо сосредоточиться и действовать. Пишущую машинку он не съел? Как вы не видите – этот Григорий Захарович над нами смеется. Он водит нас за нос, а мы, как дурачки, ничего не можем узнать.
В это время Борис вздрогнул так, что сидевший с ним рядом Муравьев чуть не свалился со скамейки. Мимо них шла маленькая девочка с рыжей собакой на поводке.
– Анюта, – тихо сказал Борис.
– Сильва, – сказал Муравьев.
Сильва сразу потянула поводок, хотела подойти к ним. Анюта узнала их и сказала:
– Борис! Мне скоро велосипед купят, складной. А ты умеешь на велосипеде? Не умеешь?
– Слушайте! – вдруг закричал Валерка. Валерка редко кричал, поэтому все удивились и стали ждать, что он скажет. – Собака! – крикнул Валерка.
– Что – собака? Сами видим, что собака, – сказал Костя.
– Это Сильва, – сказал Муравьев.
– Это почти Анютина собака, – добавил Борис.
– Что ты кричишь? Говори толком, – проговорил Костя. – Собака, ну и что?
– Как – что? Собака – это собака. Собаки знаете какие умные? Они только говорить не могут, а все абсолютно понимают. Если собака возьмется, она любое дело сделает, потому что это же собака.
Когда Валерка говорил о собаках, его нельзя было остановить. Он приходил в экстаз и в это время никого не видел.
Сильва носилась по бульвару, какой-то маленький ребенок бегал за ней, но догнать не мог и визжал от охотничьего азарта.
Костя наконец не выдержал:
– Валерка! Ты что сюда пришел? Собак прославлять? Мы и так согласны, что это очень умное животное. Дальше-то что?
– Не понимаешь? На лице Валерки было записано: «Эх вы». Он посмотрел в лицо каждому, даже маленькой Анюте, которая стояла рядом со скамейкой. – Сильве надо дать понюхать письмо, вот что! Сильва приведет по следу! Она найдет этого Г.З.В.! Сильва сможет! Вы посмотрите, какие умные у нее глаза!
– А что? Это мысль! – Муравьев встал, и остальные тоже поднялись.
– Это моя собака, – строго сказала Анюта к взяла за ошейник Сильву, которая устала бегать и как раз в эту минуту прибежала и уселась около Анютиных ног.
– Твоя, твоя, – сказала Катаюмова. – Кто с тобой спорит?
– Мы просим у тебя собаку всего на два часа, – сказал Костя. – Для очень важного поиска. Согласна?
Анюта думала. Борис сказал тихо:
– Всего на два часа, а, Анюта? Мы ровно через два часа ноль-ноль минут отдадим.
– Ладно, – наконец сказала Анюта. – Только чтобы ровно через два часа ноль-ноль минут. – Такая почти военная точность почему-то понравилась Анюте. – Только смотрите, ни сахара, ни конфет ей не давайте, у нее и так диатез.
– Не будем, не будем, – сказал Борис, – не беспокойся, Анюта.
– И не вздумай отпускать с поводка. Убежит и не вернется.
– Не отпущу, ни за что не отпущу.
* * *
Старшина Чемоданов крикнул на всю казарму:
– Подъем!
Юра вскочил. Темно за окном, темно в казарме. Рядом маячит фигура Носова. Носов садится прямо на пол и наматывает длинную обмотку. Юра тоже быстро наматывает обмотку. Она уже не путается, не вырывается из рук, как раньше. И ботинок находится сразу, он не затолкнулся под кровать. Это хорошо, когда можешь в темноте, спросонья, попасть правой ногой в правый ботинок.
Они идут строем в темноте. Мерзлая земля звонко стучит под ногами, корявая дорога присыпана светящимся снежком. Бьют дорогу тяжелые шаги. Юра уже привык ходить в строю, длина шага рассчитана так, чтобы не наступать на пятки тому, кто идет впереди. А если шагаешь с нужной скоростью, можно вздремнуть и на ходу. Юра закрывает глаза, чтобы попробовать – и тут же засыпает. Строй не быстрый, не медленный – размеренный, ноги идут, а глаза закрыты. Сон не сон, а все-таки сон.
Дует за воротник шинели.
...Дует, совсем застыла спина. Наверное, мама открыла форточку на всю ночь, мама стремится, чтобы все побольше дышали свежим воздухом. Ночью было тепло, а теперь, наверное, уже утро. Как быстро оно пришло, совсем не успел выспаться, а сейчас мама начнет будить его, пора в школу.
– Юра! Вставай, сыночек.
Мама жалеет его будить. Скажет: «Вставай, Юра» – и уйдет на кухню, будет там ставить чайник. Нарочно уйдет, не до конца разбудив, чтобы Юра мог еще минут пять поспать. И он спит эти самые сладкие пять минут. А потом, напрягая всю волю, встает. Почувствовал босыми ступнями мохнатый коврик у кровати – рыжие розы на черном фоне. Смешные розы, смешной шершавый коврик щекочет пятки. Ветерок дует в форточку совсем не холодный, ласковый мирный ветерок. Юра одевается. Юра идет умываться. Почему так холодно спине? Юра садится за стол, мама намазывает маслом белый кружок батона, придвигает бутерброд Юре. А где же папа? Папа уже ушел на свой завод, папы нет. И Юра сейчас доест и побежит в школу. И тут он слышит:
– Юра! Вставай, сыночек, опоздаешь в школу.
Мамина легкая рука трогает его голову. И тут он просыпается в самом деле. Опускает ноги на прохладный шершавый коврик. На столе стоит чайник, в форточку задувает ветерок. Значит, до этой минуты он спал и видел во сне, что он встал, оделся, умылся, и коврик видел, и чай. Вот только попить и поесть не успел, во сне редко удается поесть. Но как ясно все виделось: желтые розы на коврике, легкий ветерок из форточки, мамин коричневый халат с желтыми разводами, синее утро за окном, пар над носиком чайника, красная масленка на синей скатерти. Ясно, как наяву, а оказалось – во сне. А вдруг и сейчас это сон? Вдруг он все еще спит и ему опять снится то же самое – как он зашнуровал ботинки, как трудно попадали концы шнурков в нужные дырочки, потому что железочки от шнурков давно отвалились и концы облохматились. Может же и это быть во сне. И красная масленка, и коричневый мамин халат.
Юра встряхивает головой, таращит глаза на маму.
– Что ты трясешь головой, как козленок? Поторопись, сынок, в школу опоздаешь.
Какая у мамы улыбка, он раньше не замечал – зубы белые-белые, глаза темные, и в каждом глазу светлая точка. Мама накидывает на плечи серый пуховый платок, от этого в комнате уютно и легко...
– Отставить сон в строю!
Юра вздрогнул, проснулся, в него ткнулась голова Хабибуллина. Старшина Чемоданов сурово сдвинул брови. Рассветает.
– Отставить сон в строю! Запевай!
Значит, все-таки уснул на ходу. Значит, правда – если как следует устал, заснешь хоть вниз головой.
Запевает Сергей Александров. Высокий голос напряженно поет, того и гляди, сорвется:
– «Эх, махорочка, махорка! Породнились мы с тобой. Вдаль глядят дозоры зорко. Мы готовы в бой, мы готовы в бой!»
И все подхватили, как будто не было в это мрачное сероватое утро других желаний – только петь в пустом поле: «Мы готовы в бой, мы готовы в бой».
Звенит под ногами промерзшая, прокаленная холодом дорога. Тупо стучат ботинки, все разом. «Эх, махорочка, махорка...»
Не забыть написать Лиле, как ему снился во сне сон. С ним иногда случалось такое еще до войны, в детстве. Снится, что ты проснулся, снится, как одеваешься. А потом выясняется, что лежишь и спишь. В детстве это с ним бывало. Интересно, а с Лилей тоже бывало? Наверное, да. Ему хочется, чтобы у них были похожие воспоминания и похожие сны.
Варвара Герасимовна когда-то сказала ему:
«Юра, не спи на ходу».
Смешными показались тогда эти слова. Разве может человек спать на ходу? Только в кровати, на белой подушке, пахнущей чистотой и ветром. Под легким теплым одеялом, на которое надет прохладный полотняный пододеяльник. Раньше он никогда не задумывался над этим, ему было, в общем-то, все равно, какая у него подушка и какой пододеяльник. О чем тут было думать? Это разумелось само собой, как многое в жизни. Как мама и папа. Как дом и синяя скатерть со светлыми кисточками. Как длинный двор за окном, где играли в пряталки и салки, а однажды устроили ледовое побоище, и у Юры вместо щита была крышка от большой кастрюли. Как школа на горке, как Варвара Герасимовна, как Валентина рядом за партой. Жизнь, просто жизнь, все, что было в ней, все само собой разумелось.
– «Эх, махорочка, махорка! Породнились мы с тобой!»
Кончилась песня, все повеселели, подобрались. Вася Носов тихо сказал:
– Старшина знает, как поднять настроение.
– Разговорчики! Левой! Левой! Шире шаг! – командует старшина. А потом добавляет другим, не командирским голосом: – Вот сейчас вам будет тепло. Придем на станцию, там на путях есть такая вещь, очень даже согревающая. Ни один не озябнет.
На путях стояли открытые платформы, груженные торфом. Почти до самого вечера они разгружали торф. Сырые, тяжелые темные брикеты, похожие на увеличенные кирпичи, смерзлись на открытой платформе. Сколько их надо перекидать за этот день? Сто? Тысячу? Юре казалось, что миллион.
* * *
Анюта отдала поводок Борису и пошла домой.
У Муравьева в кармане оказалось смятое письмо Г.З.В., они сунули листок Сильве под нос. Она внимательно его понюхала, посмотрела на каждого из них своими умными, немного грустными глазами и вдруг рванулась вперед.
– След, Сильва, след! – сказал Валерка.
Натянув поводок, как струну, Сильва неслась вперед. Длинные уши трепыхались, она вытянула морду, как на охоте, маленький хвост был вытянут в одну линию со спиной. Борис, державший поводок, еле поспевал за Сильвой. А сзади бежали Муравьев, Костя, Катаюмова.
– Смотрите, как бежит, никуда не сворачивая, – говорила на бегу Катаюмова. – До чего умная собака эта Сильва, правда, Валера? Если она найдет Г.З.В., давайте купим ей конфет или печенья.
– Нельзя конфет, – на бегу сказал Борис. – Анюта не велела. У Сильвы и так диатез.
– Ладно, не будем, – сказал Костя. – Вперед, Сильва! Молодец, Сильва!
Вдруг навстречу им вышла пожилая женщина в клетчатых брюках. Она вела на бульвар черного пуделя, аккуратно подстриженного под льва: грива была расчесана, а на конце хвоста распушилась кисточка.
– Манюня! Рядом! Умоляю! – сказала дама, когда пудель стал вертеться и смотреть на Сильву.
– Не отвлекайся, Сильва! – сказал Борис.
Муравьев снова сунул ей листочек с лиловыми буквами, отпечатанными на машинке.
– Сейчас понюхает еще раз и снова пойдет по следу, – сказал Муравьев. – Каждая собака знает, куда вести.
Сильва равнодушно посмотрела на письмо и рванулась за пуделем Манюней.
– Борис, держи крепче поводок! – крикнул Валерка.
Борис и так держал изо всех сил.
– Нюхай, Сильва, нюхай, – твердил Валерка. – След, Сильва, след!
Валерка хорошо помнил, как в кинофильмах вели себя проводники служебных собак.
Сильва еще раз задумчиво посмотрела на помятый листочек, грустным взглядом проводила Манюню и, поняв, что сегодня ей не отделаться от службы собаки-ищейки, вдруг опять с силой натянула поводок.
– Пошла! – крикнул Костя.
И все устремились вслед за Сильвой и Борисом.
– Я говорил! – в восторге крикнул Валерка. – Собака – это собака!
Сильва летела вперед. Она вся вытянулась снова, ноздри раздувались, они ловили все запахи. Человек не различает и сотой доли тех запахов, которые чует собака.
Было видно, что Сильва напряженно работает.
– Если не сбивать, точно приведет, – сказал Валерка.
– Это Валера придумал, – сказала Катаюмова и покосилась на Муравьева.
Даже на самом быстром бегу она не забывала наносить уколы Муравьеву.
Сильва тем временем вывела их на широкую улицу. Мчались машины, спешили люди. Столько разных запахов. Из двери кондитерской пахло ванилью. Из окна парикмахерской пахло одеколоном.
– Вперед, Сильва! Вперед, – тихо, но твердо говорил Борис.
И собака больше не останавливалась, она неслась вперед. До чего же умная собака! Борис всегда знал, что Сильва умная, но сегодня она и его удивляла.
Одно дело, когда собака носится по двору без всякой цели, и совсем другое дело, когда она понимает, чего от нее хотят люди, и несет свою верную службу. Она сегодня делает то, что человек сделать не в силах, хотя человек учится в школе, читает книги, смотрит разные передачи по телевизору.
Свернули в узкую улицу, замелькали черные деревья; забор стройки тянулся долго, потом длинный белый дом, светились окна.
Собака влетела в подъезд, кинулась вверх по лестнице.
– Лифт! Лифт! – закричала внизу Катаюмова.
Борис слышал ее крик, но бежал дальше, за Сильвой, все вверх.
– Какой тебе лифт! – отозвался запыхавшийся голос Муравьева. – Сильва лучше знает!
Сильва остановилась у двери и, высунув язык, стала смотреть на звонок. Как будто она хотела сказать Борису: «Позвони». Муравьев наконец догнал Бориса и собаку. За его спиной стояли Костя, Валерка, Катаюмова.
Муравьев не сразу заметил сгоряча, что дверь, перед которой они остановились, знакомая. И подъезд знакомый, и лестница знакомая. И звонок очень-очень знакомый. Муравьев молчал, Валерка тоже молчал. Молчала даже Катаюмова, хотя и она могла сказать кое-что по этому поводу...
– Ну, что же ты, Борис? Звони, – сказал Костя; от волнения его голос прерывался.
Борис еще раз оглянулся на всех и нажал кнопку. Звонок запел веселенькую мелодию.
Все напряженно ждали. За дверью послышались шаги.
– Идет, – прошептал Костя.
Он не знал, кто окажется там за дверью. И Борис не знал. А остальные знали. Но Костя и Борис не знали, что остальные знают, только не решаются сказать и прячут глаза.
Сильва беспокойно ерзала по каменному полу и скулила. Она обмотала поводком ноги Борису, потому что вертелась вокруг него.
Замок щелкнул. На пороге стояла Анюта.
Костя открыл рот и долго не закрывал.
Увидев Сильву, Анюта присела на корточки, стала трепать собаку за уши, гладить ее шелковую спину.
– Сильвочка моя миленькая, я так рада, что ты вернулась! Устала, наверное?
Сильва нырнула в глубь квартиры.
– Нашли вы того человека по запаху? – спросила Анюта.
– Н-не совсем, – промычал Борис. Он очень растерялся, увидев вместо Григория Захарыча Анюту. – Спасибо тебе за собаку.
– Значит, не нашли? – опять спросила Анюта. Она любила определенность. – Сами виноваты. Сильва очень умная, а вы заставляете ее искать сами не знаете кого. Сосед с ней на охоту ходит, она и то всех может найти. В лесу! В болоте! А у вас? На улице и то не нашла. Ну вас!
И Анюта сердито захлопнула дверь.

Они вышли на улицу. Все молчали, подавленные неудачей. Первой опомнилась Катаюмова.
– Это все ты, Муравьев! Собака, собака! При чем здесь собака? Ничего она не соображает, твоя собака. А вы-то, чудики, Муравьева послушали!
Она быстро побежала от них по улице.
– При чем здесь Муравьев! – крикнул ей вслед Костя.
И Валерка повторил:
– При чем здесь Муравьев?
Борис украдкой взглянул на Муравьева. Его лицо выражало печаль. Опять к нему несправедлива эта девочка, пусть не самая умная, зато самая красивая девочка во всем микрорайоне.
– А ты, Валерка, хорош. «Собака, собака»! – Костя опять махал тетрадкой. – Она и побежала к себе домой, как всякая собака.
– Откуда я мог знать? Я думал, она по записке ведет. Я же не знал, что она домой ведет. Я думал...
– Ты думал! – Костя жестко усмехнулся. – Мыслитель. Дать тебе по шее как следует!
– Только попробуй, – отозвался Валерка без особой уверенности.
– Связываться не хочу, – бросил Костя и зашагал к своей улице.
Валерка тихо сказал ему вслед:
– Подумаешь, командует!
Но сказал он так, чтобы Костя этих слов не услышал. Валерка и в самом деле чувствовал себя виноватым. Он кивнул на прощание Муравьеву и Борису и медленно пошел домой.
Муравьев и Борис тоже шли к дому Бориса.
* * *
Юра постучал в окно Валентины и сам услышал, как сильно стучит сердце. Неужели из-за цветка он так волнуется? Да, из-за цветка. Потому что никаких других сигналов, никаких известий от Лили нет...
Занавеска отодвинулась сразу, как будто там, за окном, ждали, когда постучится Юра.
– Юра! Приехал! – Валентина распахнула дверь. – Юра! Иди сюда скорее! Посмотри, посмотри!
Валентина все-таки чуткий человек – она сразу догадалась, почему он прибежал.
На подоконнике стоял цветок. Как же он изменился – стал выше, крепче. И листья были не бледные, а ярко-зеленые, они сверкали свежим, живым блеском.
– Видишь, Юра? Помнишь, что ты говорил? Стыдно теперь?
Юра стоял и молча смотрел. Живой похорошевший цветок.
Пусть суеверие, пусть что угодно – сейчас, сегодня для него это важно. Ему нужны хоть какие-нибудь доказательства, пусть нелепые, пусть зыбкие. Писем нет, адреса Лилиного нет – а Лиля все-таки есть. Теперь он в это может верить, потому что на окне стоит цветок.
– Все хорошо, Юра, видишь? – И глаза у нее сияют, и веснушки сияют. – Все хорошо, все будет замечательно.
Из угла ворчит бабка Михална:
– Куда уж лучше! Ногу девке покалечили. У нее всегда все хорошо, ты ее больше слушай.
Только теперь Юра заметил, что Валентина скачет по комнате на одной ноге, а другая толсто забинтована. Валентина опирается руками о стол, о комод, о подоконник. И ловко передвигается, в тесной комнате ей не приходится далеко прыгать – уже поставила на стол кастрюлю с пшенной кашей, чайник.
– Что у тебя с ногой? —строго спрашивает Юра; за строгостью он прячет смущение: стыдно, что не сразу заметил Валентинину забинтованную ногу.
А она ничуть не обижена, отвечает беспечно.
– На крыше дежурила, – почти весело, говорит она, – осколок отлетел. Да пройдет, господи. Ты-то как? Садись, ешь.
Он ставит на стол банку консервов – сухой паек, вытаскивает из кармана шинели большой кусок сахара, завернутый в газету.
– Нерв перебили какой-то главный, – произносит бабка Михална ровно, без выражения. – Может, и вовсе хромая будет. А он, урод, все на своей гармони играет, ему ни к чему. – Это она про своего сына, отца Валентины, догадывается Юра. – А девка? Ей замуж идти – это как? Кто хромую возьмет? Я ему пишу, а он только свою гармонь знает, артист окаянный!
– Бабушка! Садись к столу! – громко зовет Валентина. – Смотри какой пир!
– Не нужен мне ваш пир, – отвечает сердито бабка и садится к столу, блестит глазами на консервы и сахар.

Юра ест кашу, а сам все глядит на цветок. Никогда он не обращал внимания на цветы – ну, растут, цветут. Красиво, конечно. Но не присматривался. Вспомнил вдруг, как отец однажды к чему-то сказал:
«В наше суровое время цветы на окнах – мещанство. Фикусы, герани разные...»








