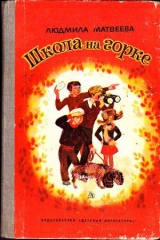
Текст книги "Школа на горке"
Автор книги: Людмила Матвеева
Жанр:
Детская проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 12 страниц)
Теперь осталось совсем немного, всего какой-нибудь год, и Юру примут в планерный кружок, и он перестанет тянуть резину, а сядет в кабину, полетит выше самых высоких деревьев. Теперь уже скоро.
Вдруг случилось то, о чем потом долго вспоминали в школе. Совершенно неожиданно подул ветер; он дунул рывком, и планер стало сносить в сторону, он вдруг стал беспомощным, как какой-нибудь бумажный самолетик, выпущенный из окна второго этажа. Сильный и легкий планер вдруг пошел, пошел боком вниз, вниз. Володя сидел, вцепившись в руль, но планер больше не слушался. Спустился низко, задел крылом за окно церкви – и посыпались отдельные рейки, тоненькие, но вдруг ставшие тяжелыми. А другое крыло ткнулось в траву. Из кабины вылез Володя, бледный. Он потирал коленку, как будто ушибся или в футбол играл, а не с неба свалился.
Географ, позеленевший за эти несколько секунд, кинулся к Володе:
– Не ушибся? – Стал его ощупывать, стал его трясти.
А Володя улыбался расстроенно, смотрел на серые обломки.
– Может, починим еще? – сказал он, но в голосе не было надежды.
– Починим! Починим! – с готовностью закричали все вокруг. – Конечно, починим!
Но как-то так получилось, что планер не починили. Да и можно ли было его починить? Пришла зима, обломки планера лежали, всеми забытые, в сарае. Так и не подошла Юрина очередь летать.
Долго еще над летным полем, которое теперь снова называли пустырем, вздувался на ветру плакат: «Кто летает, тот сильный». А потом ветер сорвал его и унес куда-то.
* * *
Сегодня Муравьев принял окончательное решение: никогда в жизни он не станет разговаривать с Катаюмовой, не будет даже смотреть в ее сторону. Он вовсе не намерен все ей прощать. Решил, и всё. Если напрячь волю, то очень даже просто можно выдержать, даже голову не поворачивать в ее сторону. Пусть она сидит на своей четвертой парте со своей ненаглядной Раиской. Тоже, между прочим, нашла себе подругу! Лицо круглое, как луна. Глазки маленькие, еле заметные. А нос – как розовая пуговица, спрятанная между яркими щеками. И голос писклявый, от него в ушах щекотно.
На перемене Катаюмова подошла к Муравьеву, и Раиска, конечно, подошла.
– Ну, был у того человека? – спросила Катаюмова.
При Раиске. И Хлямин вертелся недалеко. Совсем уж надо не соображать, чтобы при всех спрашивать! Ни Хлямин, ни Раиска никакого отношения к музею не имеют. Когда записывали, они не записались. И нечего при них говорить.
Муравьев ответил:
– Не телефонный разговор.
Тут бы Катаюмовой догадаться и отложить свои вопросы, но она не отстает:
– Ага, разговор, значит, не телефонный. Ладно, отложим. А пулеметную ленту когда принесешь?
Тут подошел Костя и тоже уставился на Муравьева:
– Правда, Муравьев, что ты тянешь? Приносил бы ленту.
– Да нет у него ленты никакой, – заржал Хлямин. – Он вам скажет! Этот Муравьев известный трепач!
Муравьев хотел двинуть Хлямина по шее, но в это время в коридоре появилась Регина Геннадьевна. Не вдаваясь в детали, она сказала, проходя мимо и даже не замедляя шага:
– Муравьев! Прекрати! Вызову родителей!
Хлямин успел улизнуть, а Муравьев, как всегда, на виду.
И попадает кому? Муравьеву. И директор делает замечание кому? Муравьеву.
Директор уходит, а Катаюмова нараспев говорит:
– А может быть, действительно нет у тебя ленты? А, Муравьев? Скажи, есть или нет? – И заглядывает ему в глаза.
А эта Раиска тоже заглядывает ему в глаза своими крошечными глазками:
– Есть или нет? Чего же ты не несешь ленту? Эх ты, Муравьев!
И все смеются. Разве легко это перенести? Смеется Катаюмова, хихикает Раиска, даже щеки дрожат. И Костя смеется. Им хорошо смеяться.
Муравьев не знает, что им ответить. Положение у него очень трудное. А все из-за кого? Как всегда, из-за Катаюмовой. Нет, все, довольно. Никаких Катаюмовых. Он не будет больше с ней разговаривать, он вычеркнет ее из своей жизни. Навсегда.
Муравьев сидит на ботанике и изо всех сил держит голову прямо. Не обернется, и все, не нужна ему с этой минуты никакая Катаюмова. А что? Жил же он до прошлого года, не замечая этой Катаюмовой. Не видя, какие у нее огромные ресницы, как вокруг ее коротко остриженных волос мерцает какой-то неуловимый свет. Какой у нее узенький подбородок, и вся она – как тонкий прутик, гибкая и прямая. Жил и не видел и прекрасно обходился без всякой этой Катаюмовой. И теперь он твердо решил – так и жить дальше: у нее своя жизнь, а у него – своя. И дел в его жизни вполне хватает. Исправить двойку по географии – раз. Узнать наконец, кто был тот человек, который сказал под окном: «Я верю, что ты умеешь хранить тайну». После таких слов Муравьев просто обязан узнать, о чем шел разговор. И третье: добыть планшет для музея у злого старика. Каким бы злым ни был этот старик, все-таки он обещал планшет. Значит, рано или поздно он перестанет ругаться и отдаст планшет. И, конечно, было бы очень хорошо, чтобы он отдал планшет именно Муравьеву. Муравьев принес бы планшет в школу, и Варвара Герасимовна похвалила бы его: «Вот видите, ребята, какой Муравьев? Все, что обещал, всегда выполнит». И тогда, возможно, все забыли бы про пулеметную ленту. Муравьеву так хочется, чтобы про нее забыли! А они, может быть, и забыли бы, если бы не Катаюмова.
Сегодня на уроке ботаники Муравьев сидел тихо и никого не трогал: он спешил прочитать параграф, потому что как раз сегодня Светлана Николаевна могла его спросить. Надо прочитать побыстрее, пока Светлана Николаевна смотрит в классный журнал и решает, кого вызвать.
– Муравьев, а Муравьев! Дай двадцать копеек! – Это Хлямин тычет ручкой в спину. – Дай двадцать копеек!
– Отстань, нет у меня.
– Жадина-говядина! – шепчет Хлямин.
– Муравьев, прекрати, – говорит учительница.
Почему Муравьеву всегда делают замечания? Даже если он ни в чем не виноват!
– Я ничего не делаю, – машинально отвечает Муравьев.
– Вот именно. А надо работать. – Светлана Николаевна смотрит на Муравьева поверх очков, – а ты ничего не делаешь.
Все-таки он успел прочитать параграф. И вчера дома он его читал. Он сверлит глазами Светлану Николаевну – пусть она вызовет его, тогда сама увидит, что Муравьев все выучил и может ответить даже на пятерку. Ну спросите, спросите меня, говорит глазами Муравьев.
Но Светлана Николаевна не хочет принимать его сигналы.
– Катаюмова, к доске, – вызывает учительница.
По классу проносится шелест. «Не меня». Муравьев думает: «Все-таки мне не везет. Не знал – вызвали, знал – не вызвали».
Катаюмова стоит у доски. Худенькие длинные ноги, длинные руки, длинная шея. А все вместе так красиво, что у Муравьева начинает щипать глаза, как будто он смотрит на солнце. Она отвечает негромко, но все слушают с удовольствием и с удовольствием на нее смотрят. Так кажется Муравьеву.
И тут он спохватывается: он же только что решил, что не станет смотреть на нее всю жизнь. Да, но это он решил не оборачиваться. А если она стоит у доски, прямо перед глазами, то куда же денешься? Приходится смотреть. Волосы у нее мягкие и пушистые, а глаза смотрят прямо на Муравьева.
И он понимает, что никакие твердые решения ему выполнить не удастся.
Всю жизнь он обходился без Катаюмовой, а теперь ему без нее не обойтись.
– Светлана Николаевна, пусть Муравьев не строит рожи, – вдруг говорит Катаюмова. – Он меня смешит.
– Муравьев! Сейчас же перестань! Опять ты?
Такого Муравьев от нее не ожидал. Коварная, ехидная, ябеда. Теперь все! Теперь никогда в жизни он не скажет ей ни одного слова! Все! Он человек твердый! Она еще узнает.
* * *
Юра по-прежнему любит посидеть у кирпичной стены. Спину греют теплые кирпичи, осень только начинается, желтые листья лежат на траве, желтые звезды блестят на голубых куполах церкви. А сама церковь красная, из потемневшего кирпича. Варвара Герасимовна как-то сказала, что эту церковь построили здесь, на горке, еще в семнадцатом веке, в тысяча шестьсот восьмидесятом году. Даже подумать невозможно – триста лет назад. Почти триста лет она стоит здесь, те же кирпичи, те же белые островерхие кокошники над стенами, те же высокие окна, обведенные белыми кирпичными каемками...
А внизу, под горой, течет узенькая речка Копытовка. Почему она так называется? Может быть, потому, что настолько мала эта речка, будто ее здесь лошади копытами протоптали. В заболоченных берегах, поросших ярко-зеленой осокой, течет не спеша речушка. Какая-никакая, а со своим достоинством. Вода мутноватая, глинистая, но и в ней водится какая-то рыбешка. Квакают лягушки. Левый берег, правый берег. Вон маленькие мальчишки ловят майкой тритонов. Кричат:
– Слева заходи! Да не сюда, а сюда! Вытаскивай!
Азарт охоты. А зачем им тритоны, наверное, и сами не знают. Юра тоже ловил когда-то, а потом сажал тритонов в банку из-под варенья, а мама их боялась и уговаривала:
«Выбрось, Юрочка, эту гадость... Ну, хорошо, хорошо, не гадость, а, как ты их называешь, тритончики. Выбрось, пожалуйста. А то я так нервничаю, когда их вижу, как они извиваются в этой банке, что перестаю попадать пальцами на нужные клавиши».
Юра тогда любил тритонов, а теперь они ему не нужны. Куда девается детство? Когда оно уходит? Во сне? Наяву?
Триста лет стоит здание и не меняется. А люди меняются быстро.
Была здесь, у церкви, маленькая школа. Ребята ходили, тоже, наверное, смотрели на Копытовку. Может быть, рыбу ловили, да не майками, а по-настоящему. А может быть, какой-нибудь мальчик любил сидеть на этой горке и смотреть на закат. Очень даже может быть. Наверное, во все времена одни любили носиться и шуметь, а другие любили посидеть-подумать.
На горке сухо, тепло, хорошо здесь сидеть.
Юра засмотрелся на закат. Сегодня он темно-розовый, даже какой-то клюквенный.
Уже четвертый год это продолжается: когда Юра видит закат, он вспоминает давнее, совсем детское лето, когда он перешел только в шестой класс. Пионерский лагерь у деревни Пеньки. Никаких пеньков там не было, а шумели огромные красные сосны. Горн пел над деревьями. Девочка в синем сарафане стояла под сосной и смотрела на закат. Эта девочка была для него в то лето таким важным человеком, без которого жизнь – не жизнь. Когда он видел ее, он был по-настоящему счастлив. Все равно, что она делала – шла по тропинке к реке или собирала шишки под соснами, или просто стояла, опустив руки и глядя перед собой светлыми глазами.
Как могло случиться, что он с тех пор ни разу не видел Лилю? Он живет с ней в одном городе, до нее можно доехать на трамвае или на автобусе. Но он даже не знает, в какую сторону ехать. А объяснений этому нет никаких. Какое-то странное сцепление мелочей. Не спросил у того человека в гамаке московский адрес Лили. То ли растерялся, то ли постеснялся. Потом, когда спохватился, человек из гамака уже ушел в дом, а Юра не решился идти за ним. Потом, когда ехал в Москву, был почему-то уверен, что рано или поздно он и Лиля встретятся на улице, просто случайно, ни о чем не уславливаясь. При этом он как-то не подумал, что Москва – не деревня Пеньки. Это там, в Пеньках, они встречались каждый день, не сговариваясь, на речке, в лугах или на волейбольной площадке.
А в Москве прошло вот уже сколько лет, он уже девятиклассник, и ни разу не встретил ее. Тогда он решил, что он Лиле не нужен. Зачем ей, такой необыкновенной девочке, он, совершенно обыкновенный? Конечно, не нужен. И он стал стараться пореже вспоминать ее. Постепенно девочка в синем сарафанчике превращалась из реального человека в мираж, в видение. То ли было, то ли не было, то ли помнится, то ли приснилось.
А закат разгорается во все небо, и вода в речке стала клюквенного цвета, и белые ободки вокруг церковных окон порозовели. А от кирпичной стены тянет теплом, как от печки.
– Юра! Я иду, смотрю – ты тут сидишь. – Валентина с сумкой стоит перед ним.
Высокая вытянулась Валентина, а лицо все такое же, почти детское. А может быть, просто привык он к ней и перемен не замечает.
– На, возьми. – Она достает из сумки крупное, в два кулака, желтое яблоко. – Я у школьной сторожихи Мавры яблоки покупаю, и дешевле и отборные – белый налив. А ты, Юра, чего опять тут сидишь?
Он откусывает от яблока, вкусно. Как ответить на вопрос Валентины, почему он любит тут сидеть? Потому что здесь закат, и теплая стена, и речка, и тихо, и весело возятся у реки ребята со своими тритонами. И хорошо думать, вспоминать, мечтать. Разве это можно объяснить? Да еще такой неромантичной девочке – Валентине. Всегда она с сумкой, всегда куда-то несется.
– Так просто сижу, Валентина.
– А я побегу. Бабушка ждет, она терпеть не может, когда меня долго нет. Скучает, наверное.
– Конечно, иди, Валентина. Спасибо за яблоко.
– Пойду, Юра, надо идти.
Странная какая-то сегодня Валентина.
* * *
Борис идет из школы и смотрит по сторонам. Сегодня у него хорошее настроение, – может быть, потому, что солнце светит и освещает сугробы, а они сверкают, и во дворе светло и весело. А может быть, потому, что Галина Николаевна похвалила его сегодня. Он прочел стихотворение о весне, а учительница сказала:
– Видишь, Борис, можешь, когда хочешь. С выражением читал и не сбился ни разу.
Мало ли причин для хорошего настроения может быть у человека? Вот бежит через двор знакомая собака Сильва. Он ее часто видит. Борис зовет:
– Сильва! Сильва!
Собака охотно подбегает к нему, тычется носом в ладонь, а нос у нее холодный, мокрый, очень приятный.
Борис гладит шелковую спину:
– Сильва, Сильвочка, умная собака, хорошая собака.
И собака виляет коротким хвостом, повизгивает от признательности. У Сильвы волнистые длинные уши, большие желтые глаза, гладкий лоб, она прыгает вокруг Бориса, и уши покачиваются, как локоны у старинной дамы.
Незнакомая девочка качается на досках, которые на днях привезли и свалили у стены. Девочка прыгает, доски гремят, Сильва лает и носится кругами по двору. Борис положил портфель на снег и стоит посреди двора. Это чужой двор, Борис иногда ходит через него, а иногда улицей, когда какое настроение. Хорошо, что сегодня ему пришло в голову пойти двором. Вот и Сильву встретил. Интересно, страшно этой девочке качаться на досках? Доски новые, желтые, пахнут сосновым лесом. А девочка, пожалуй, не боится прыгать там, на самом верху. Набекрень съехала растрепанная ушанка, портфель с красными бабочками на крышке валяется на снегу, а она все скачет и скачет, гремят доски, – того и гляди, развалится вся куча.
– Анюта! Перестань сейчас же! – кричит с балкона женщина.
– Ладно! – отвечает Анюта и продолжает прыгать.
Борис сам не заметил, как подошел вплотную к доскам. Еще сильнее запахло смолой. Жалко, если из этих замечательных досок что-нибудь построят, лучше бы они лежали тут всегда.

– Залезай сюда! – зовет сверху Анюта. – Боишься? Так и скажи! Эх ты!
Сильва громко лает, задрав острую морду. Дамские локоны раскачиваются сильнее.
– Боится! – дразнит Анюта Бориса. – Ну залезь, залезь!
– Нисколько я не боюсь, чего бояться? Я недавно в помойку упал и то не боялся.
– Ну? – Анюта весело удивилась, перестала прыгать, наклонилась и смотрит сверху на Бориса. – Ты? Не хвастаешь?
И она заливается смехом на весь двор. Борис не знает, почему смеется Анюта, но ему не обидно от ее смеха. Хотя, наверное, с помойкой получилось глуповато – нашел, чем похвалиться. Думал сказать, как вместе со своим другом из пятого класса ходил на серьезное задание, а получилось совсем другое. Так часто бывает, Борис давно заметил: хочешь сказать одно, а скажешь совсем другое. Анюта так весело смеется, что Борис начинает хохотать вместе с ней.
– Анюта! А почему у тебя такая растрепанная ушанка? Ну почему, почему?
– А потому, что я на ней с горы катаюсь! Вот почему!
Ну до чего смешная девочка эта Анюта! И Борису совсем не хочется идти домой.
– Анюта! Сколько мне ждать? —кричит женщина с балкона.
– Иду, мама! – и села на теплые доски.
Сильва подбегает к ней и тычется носом в ладони.
– Сильва – хорошая собака, прекрасная собака, умная собака, – приговаривает Анюта и треплет шелковые уши.
– Ты в какой школе учишься? На горке? А я в спортивной. Сказать, почему? Мама считает, что у меня избыток энергии, ее надо использовать в мирных целях, так считает мама.
– Анюта! Я сейчас с тобой по-другому поговорю! – несется с балкона.
– Пугает, – машет рукой Анюта, – ничего не будет. А тебя как зовут? Борис? Ты в первом? И я в первом.
Вдруг Анюта перестала разговаривать, и какое-то новое выражение появилось в ее коричневых глазах.
Через проходной двор идут Лена и ее бабушка. Лена держит бабушку под руку. У Лены аккуратный бант выглядывает из-под аккуратной вязаной шапочки. И пальто у Лены застегнуто на все пуговицы. Бабушка у Лены толстая, важная, с тяжелыми щеками. Лена несет свой портфель, а бабушка несет хозяйственную сумку. Все как полагается.
Бабушка увидела Анюту – распахнутое пальто, растерзанная шапка, вымазанные мороженым щеки. Посмотрела бабушка, прищурилась и отвернулась.
– Борис! – громко сказала Лена. – Здравствуй!
– Давно не виделись, – буркнул Борис тихо, он не хотел, чтобы услышала бабушка.
– Бабушка, этот мальчик сидит со мной за одной партой. Я тебе говорила, он раньше плохо учился.
Бабушка смерила Бориса взглядом И еще больше поджала губы. Теперь губ совсем не стало видно, только щеки и подбородок. И сощуренные глаза. Борис понял, что он бабушке тоже не понравился. Он нисколько, не огорчился из-за этого, пусть себе идут мимо, и Лена и ее бабушка.
– Ты что здесь делаешь? – строго спрашивает Лена. – Борис, я тебя спрашиваю.
– Гуляю.
– Интересно. А уроки?
И тут загрохотали доски, Анюта снова принялась скакать. Доски гремели так сильно, что голосов почти не было слышно.
– Удивляюсь, – сказала в пространство Лена и снова взяла под руку свою бабушку.
Они степенно удаляются. Сильва догнала кошку, и кошка взметнулась на темное корявое дерево. Сильва лает на нее без злости.
Анюта перестает прыгать и говорит вслед Лене:
– Попадешься когда-нибудь без бабки!
Борис видит, как через двор идет женщина без пальто, в платке, накинутом на спину. Она молча берет Анюту за руку и уводит.
Сильва бежит за ними.
– Разве Сильва твоя? – спрашивает Борис.
– На время оставили, на два месяца.
Они ушли, а Борис еще немного постоял один. Солнце уже ушло со двора, доски уже не пахли смолой. Стало холодно.
Борис прошел этот двор насквозь, потом еще один, теперь осталось обогнуть кафе, и Борис окажется в своем дворе.
Мороз, и руки озябли. Но почему-то пахнет солнцем, весной и елкой.
Если бы этот день так и кончился. Но Борис не пошел прямо к дому, он стал кружить по дворам. Если бы он знал, чем это кончится, он бы, конечно, ни за что не свернул в этот чужой двор, не вышел бы к автобусной остановке и не увидел бы этот такой обыкновенный на вид бумажный листочек.
Объявление висело на столбе. Там было много объявлений. Продается холодильник «Днепр» в хорошем состоянии. Пропала ангорская кошка по кличке «Пушок», просим нашедшего позвонить по указанному телефону. А это объявление висело выше других, его приклеил, наверное, очень высокий человек. Борис поднялся на цыпочки и прочел: «Меняю двухкомнатную квартиру со всеми удобствами на однокомнатную и комнату». Таких объявлений Борис видел много на разных столбах. Но сейчас он отшатнулся и замер, и дыхание у него перехватило, и стало вдруг ужасно холодно, как будто поднялся сильный ветер. На этом обычном объявлении был написан номер телефона, такой знакомый номер. Борис в первую секунду не сообразил, почему его так потряс этот номер телефона. А в следующую секунду понял: это был его, Бориса, телефон. Цифры написаны ровно, четко, и буквы тоже аккуратные, крупные. Теперь Борис узнал и почерк: это был папин почерк. И цвет папиного фломастера – ярко-синий.
Это объявление на столбе означает не простой обмен квартиры. Оно означает большую беду. Все в нем означает беду – и ровные, решительные буквы, и бумажная вермишелька внизу, чтобы любой, кто захочет, мог оторвать кусочек с номером телефона и позвонить к ним в дом: «Вы хотите меняться? Мы тоже хотим меняться».
Папа повесил это объявление, значит, его папа – папа! – не хочет больше быть с ними. Он хочет переехать из их квартиры и жить совсем отдельно. «Меняю двухкомнатную квартиру на однокомнатную и комнату». Значит, папа больше не любит маму и сына. Вот что означают эти ярко-синие буквы на листке бумаги. Вот почему мальчик, который совсем недавно так весело бродил по солнечным дворам, играл с собакой, смеялся, теперь стоит у пустой автобусной остановки, у серого столба, сделанного из железобетона, и вытирает рукавом слезы.
Борис ни слова не сказал дома про объявление. Как будто он и не видел никакого объявления. К чему говорить?
Теперь-то Борис знает, что вся эта беда началась не сегодня и не вчера, а месяца два назад.
Борис сидел дома и смотрел телевизор. Шла его любимая передача «Садимся за уроки». На экране очень умный человек говорил, что уроки надо делать обязательно, даже если не хочется, даже если противно. Борису было приятно слушать этого человека, который, по крайней мере, Понимает, что уроки– это не праздник, не сахар, как говорит Муравьев.
Мама на кухне звенит посудой, она сегодня пришла пораньше. Борис любит, когда мама приходит пораньше; теперь они дождутся папу и будут ужинать. Они сядут на кухне за стол, мама скажет: «Борис, съешь еще котлетку».
А папа скажет: «Не заставляй ты его есть, не хочет – не надо. Он же взрослый человек, в школу уже ходит».
И Борис кивнет папе, но котлету съест. Он любит быть согласным и с мамой и с папой, ему всегда кажется, что они оба правы во всем.
Потом они будут пить чай, а мама скажет: «Борис, хочешь, я намажу тебе хлеба с вареньем?»
И Борис скажет: «Хочу варенья без хлеба».
И они все засмеются. Не потому, что это так уж смешно, а потому, что им хорошо всем вместе. Хорошо сидеть на кухне и всем вместе есть, пить чай, разговаривать...
Что-то сегодня папы долго нет. И мама перестала греметь посудой, тихо на кухне.
Борис выходит и видит, что мама сидит у кухонного стола прикрыв глаза ладонью.
– Мама, ты почему плачешь? —спросил тогда Борис, он ничего еще не знал.
– Лук режу, вот и плачу. Иди, иди. Когда режут лук, всегда плачут.
А Борис видел, что нет у мамы никакого лука и ничего она не режет. Пыхтит на плите кастрюля, вкусно пахнет гречневой кашей.
Мама поворачивается к Борису спиной, а лицом – к темному окну. Как будто, если повернуться к человеку спиной, он не увидит, что ты плачешь. Наверное, мама считает Бориса дурачком.
Он молчит. А что он может сказать маме! Как ее утешить? Он чувствует, что причина маминых слез какая-то такая, которую ему понять нельзя и спрашивать нельзя. Почему-то это он знает. А чем помочь маме? И оттого, что его мама плачет здесь, на кухне, где варится гречневая каша, где всегда так уютно и хорошо, ему становится тоскливо и одиноко, он чувствует себя слабым и маленьким. Скорее бы папа приходил! Папа во всем разберется, папа сразу все приведет в порядок, и мама перестанет плакать, и улыбнется, и все будет, как должно быть. Только бы скорее пришел папа. А папа все не идет. Борис чувствует, что еще немного, и он сам заревет, как маленький. Только этого маме не хватало...
– Мама, я скоро приду.
Он быстро спускается вниз. Идет дождь, не похожий на дождь. Какая-то мелкая водяная пыль. Борис не знал, что такая погода; пока сидел дома, казалось, что на улице тоже тепло и сухо. Сырость облепляет щеки, Борис поднимает воротник и втягивает голову в плечи.
Он проходит между пустыми сырыми скамейками, огибает расшатанную дощатую карусель, покосившуюся на один бок, перешагивает через лужу.
Конечно, мама думает, что Борис ребенок, она не считает нужным с ним делиться своими бедами. Мама не поспевает за тем, что ее сын быстро растет. Считается, что Борис ничего не понимает. А он все, абсолютно все может понять.
Ему очень хочется, чтобы поскорее пришел папа. Папа очень умный, он все-все понимает, и он сумеет найти выход из любого положения.
Как долго нет папы!
Борис выходит к автобусной остановке и останавливается недалеко от нее. Сейчас, может быть на ближайшем автобусе, приедет папа. И вдруг Борис видит знакомую спину. Высокая фигура, черное пальто, чемоданчик-«дипломат». Борис рванулся к папе. Наконец-то! Но тут же остановился, как будто налетел на преграду: папа держал за руку женщину, она была красивая, папа говорил с ней. А она – она гладила папу по щеке. Папу! Его папу! А у самой в прозрачной сумке был пакет молока и длинный батон. Борис хорошо видел ее лицо, по худой щеке ползла не то слеза, не то дождь. А папа все говорил ей что-то, говорил тихо, покачивал головой для убедительности. Борис стоял в тени высокого дома и не мог сдвинуться с места. Ему было страшно. Больше всего он боялся, что мама посмотрит в окно и увидит, как чужая женщина гладит щеку их папы, разговаривает с их папой. Борис чувствовал, как по спине ползет холод. Он сразу стал уговаривать себя: разве не могут люди просто так стоять на остановке и разговаривать? Папа же не знает, что мама там плачет. А если бы знал, бросил бы эту чужую с батоном и поспешил бы скорее домой. Кто она ему? С работы, наверное. А мама – это мама! Кто же для папы-то главнее? А эта чужая, может быть, просто так разговаривает. И разве нельзя просто так погладить человека по щеке? Сотрудника или знакомого? Уговаривал Борис себя, а сам в то же самое время знал, что уговорить не удастся. Не просто так. Он знал это, а почему знал – не мог бы объяснить.
Он стоял в темноте, а они под фонарем. Они его не видели, но даже если бы на него светило сто фонарей, они бы его все равно не заметили. И Борис понимал, почему: потому что они видели только друг друга. Только друг друга, и это было самое главное и самое горькое.
Борису никогда в жизни не было так плохо и сиротливо.
Потом чужая женщина вошла в автобус и помахала папе рукой в темной перчатке. И папа, его папа, Бориса папа и больше ничей, долго смотрел вслед уходящему автобусу, а когда автобус свернул за угол, папа все еще стоял там.
Потом папа медленно пошел к дому.
А Борис не мог в тот вечер сразу пойти домой. Он целый час бродил туда-сюда по пустому мокрому двору. Но все время понимал, что идти надо, и наконец поднялся и робко, как в чужом доме, позвонил в звонок.
Открыла мама, совершенно не грустная, улыбающаяся.
– Где ты гуляешь, Борис, в такую погоду? Папа говорит, там дождь и ветер.
Папа ел на кухне картошку с мясом.
– Борис! Иди скорее! Вкусно!
Папа сказал это самым обычным голосом.
– Мой скорее руки, – говорила мама тоже самым обычным голосом.
Они были такие спокойные, мирные, домашние. И Борису вдруг стало казаться, что ничего особенного он не видел у автобусной остановки. Ну стояли двое людей, ну прощались. Что ж тут такого? И в конце концов один человек уехал, а другой пошел к себе домой, к своей любимой жене и к своему любимому сыну. А мама плакала, потому что скучала по папе и волновалась, что его долго нет. А теперь он дома, и она улыбается. И, значит, все в порядке.
Его мучило и точило что-то в глубине души. И тогда холод начинал ползти по спине, как в тот вечер. Но Борис гнал от себя тяжелые мысли, ему была не по силам их тяжесть, и он отталкивал, вытеснял беду, которая как бы прошла. И постепенно все становилось на свои места. Хорошо было здесь, дома. Папа смотрит телевизор, мама стирает, они втроем пьют чай с яблочным повидлом, мама и папа идут в кино. Все хорошее. А плохого как бы не было. И это «как бы», оказывается, очень даже неплохо спасает человека от беды.
И жизнь пошла. И все дальше отодвигалась та сцена на остановке. То ли была эта чужая женщина, то ли не была. Пусть лучше не была.
Может, не такая уж она была красивая и не так уж нежно погладила папу по щеке. Может, просто смахнула какую-нибудь пыль со своего сослуживца – разве нельзя?
В горле разжался ком.
И вот, когда прошло время, наступила зима и Борис изо всех сил вынырнул из черной глубины, ему попадается это объявление на столбе. «Меняю двухкомнатную квартиру со всеми удобствами на однокомнатную и комнату». Значит, конец всему.
Конечно, живут люди и без отцов. Борис нескольких знает, и в классе и во дворе. Но это, наверное, очень плохо – жить без отца.
* * *
Муравьев и Валерка пришли сегодня в школу первыми.
В классе еще никого нет, солнце светит в окно, летят легкие снежинки.
– Редкое явление природы – снег идет и солнце светит, – говорит Валерка. – Когда дождик идет при солнце, то называется «грибной дождь».
– А это грибной снег, – нетерпеливо перебивает Муравьев. – Слушай, Валерка, давай поговорим серьезно раз в жизни.
– А чего? Давай, – добродушно соглашается Валерка, – поговорим. Почему не поговорить. Ты задачу решил? Сошлось с ответом?
– Да решил, решил. Погоди ты, Валерка, со своей задачей! У меня есть одна идея. Все эти дни я ходил и думал, но ни одной идеи не было. А вчера появилась идея.
Валерка смотрит с интересом. Идея – это всегда любопытно. Особенно если эта идея пришла в голову такому человеку, как Муравьев.
– Какая идея?
– Слушай. Только ты не проболтаешься? Здесь важна выдержка и полная секретность. Если пойдет болтовня, то ничего не выйдет. Понимаешь?
– Понимаю. А я вообще не болтливый.
– Слушай, Валерка. Мы уже сто лет мучаемся с этим злым стариком. Он нас гоняет, мы к нему ищем подход. А время-то, Валерка, идет.
– Да, – кивает Валерка. Он согласен – время идет. Уже зима кончается, а у них в «Поиске» ни одной находки.
– А разве на этом старике свет клином сошелся? У него у одного разве планшет остался после войны? И больше ни у кого ничего разве не осталось?
– Нет, почему не осталось. Осталось, наверное. Но злой-то сам предложил. И письма сам написал.
– А ну его к лешему! Он письма написал, а потом передумал. Может, другой школе отдал или еще что-нибудь ему в голову стукнуло. Каприз какой-нибудь. Старые люди, знаешь, бывают капризные.
– Ну и что? Ты говори дело, Муравьев.
– А дело такое. Надо пройти по квартирам. Старые люди есть в районе? Есть! У кого-то осталось что-то военное – пилотка, или сумка, или еще что-нибудь.
– Не отдадут, – сомневается Валерка.
– Ну почему, почему не отдадут? Мы же объясним, что это для музея. Жадный попадется – не отдаст. Ну, а другой попадется, не жадный, он отдаст. В музее же это все увидят, а дома у него кто увидит? Никто.
Валерка задумывается и думает долго. Муравьев уже измучился, ожидая, что скажет Валерка, а он все думает, думает. В классе уже полно ребят. Катаюмова вошла, положила сумку, поглядывает на них, но не подходит: знает, что Муравьев сам не выдержит и подойдет к ней. Она о чем-то разговаривает с Хляминым. Интересно, о чем ей говорить с этим Хляминым? И толстая Раиска рядом стоит, смеется. Интересно, над чем можно смеяться Раиске? Сама смешная – обхохочешься. А еще хихикает над людьми. И Хлямин ухмыляется, кривит рот, а сам таращится на Катаюмову.








