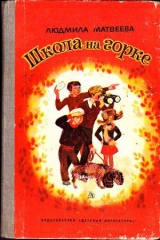
Текст книги "Школа на горке"
Автор книги: Людмила Матвеева
Жанр:
Детская проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 12 страниц)
А Валерка молчит, размышляет. Так можно до самого звонка промолчать.
– Валер! – У Муравьева от нетерпения ладони чешутся.
– Что?
– Как —что? Ты сказал – подумаю?
– Сказал.
– Ну, подумал?
– Подумал, – спокойно отвечает Валерка. – Почему не подумать? Подумал.
– И что?
– Знаешь что, Муравьев...
В класс входит учительница русского языка Вера Петровна. Звонок звенит на всю школу, и все уже давно на своих местах. Только Муравьев топчется у Валеркиной парты.
– Знаешь что, Муравьев? Я согласен, – наконец произносит Валерка. – Твоя идея неплохая.
– Значит, пойдешь? – радуется Муравьев. – Сегодня?
– Посмотрим, – туманно отвечает Валерка. Его ничем не прошибешь.
– Куда это вы собрались? – вскидывает длинные ресницы Катаюмова. – Вы куда?
– Гонять верблюда! – отвечает Муравьев, усаживаясь на свое место.
– Муравьев, – качает головой Вера Петровна, – как ты разговариваешь? Да еще с девочкой.
* * *
В тот день Юра сидел на уроке географии, и его брала тоска. Он не приготовил контурную карту. И именно потому, что не сделал он эту карту, Михаил Андреевич обязательно его сегодня вызовет. Какое-то у географа чутье на тех, кто не готов к уроку. Девятый класс «Б» давно знает, что с географом лучше не связываться – обязательно поймает.
Вот сейчас он скажет: «Кто забыл сделать контурную карту?» – и посмотрит прямо на Юру.
Юра заранее втягивает голову в плечи.
Михаил Андреевич очень вежлив, он называет девятиклассников на «вы», хотя знает их всех много лет и помнит маленькими. «Вы» у него каждый раз разное. Когда ты все хорошо выучил и чувствуешь себя уверенно, тебе говорят «вы». Получается, что ты уже взрослый, тебя уважают, с тобой обращаются как с равным. Все справедливо, и от этого тебе хорошо. Ну, а когда ты сидишь и дрожишь и прячешься за Сашку Медведя, втягиваешь голову, как какая-нибудь черепаха, тогда уж лучше бы географ говорил тебе «ты». Как-то проще ты бы себя чувствовал.
Валентина рядом шепчет:
– Он сегодня не в духе, географ-то.
Она шепчет едва слышно. Юра сидит рядом – и то еле разобрал, что она говорит, а географ, не поднимая головы от журнала, говорит:
– Прошу не шептаться на уроке.
Михаил Андреевич смотрит в журнал долго, так долго, что Юра начинает надеяться – вдруг не спросит.
– Сейчас пойдет к доске... (пауза длится вечность) прошу отвечать... (еще одна пауза, еще одна вечность) итак, пойдет... (надо же быть таким мучителем!) пойдет к доске сейчас... (а вдруг не Юру? Вдруг он вызовет кого-нибудь другого – Валентину, например. Вот она сидит рядом с Юрой, совершенно спокойная. Чистенько разрисованная цветными карандашами карта лежит перед Валентиной на парте, такая аккуратная, безупречная).
– Отвечать пойдет к доске тот, кто давно уже знает, что сегодня ему не миновать, – вы, Юрий.
Юра вздрагивает, как будто это для него неожиданность. Может быть, бывает на свете неожиданность, которую ждешь.
– Пожалуйте сюда, – нудным голосом тянет географ, – и захватите с собой контурную карту. Если память мне не изменяет, вы должны были отметить полезные ископаемые и промышленные города Германии. Прошу вас.
Юра медленно вытягивает себя из-за парты. До чего противно получать плохую отметку, не маленький же! Ну что стоило сделать эту несчастную карту? Теперь стой перед всеми дурак дураком. А потом еще и дома объясняй, как это в твоем дневнике оказалось вписанное четким почерком «плохо».
– Карты у меня нет, – бормочет Юра.
– Что-что? Я не расслышал. – Насмешливые маленькие глаза, сияет лысина. Поймал и доволен. Не подвело чутье.
Юра в эти минуты забыл, что раньше географ ему нравился, особенно когда привез в школьный двор планер. Но планера давно нет, а сегодня Михаил Андреевич кажется Юре мало симпатичным.
– Ну, что же вы? – настойчиво спрашивает Михаил Андреевич.
Юра, опустив голову, стоит в проходе около своей парты. Идти к доске или сказать, что не готов, пусть наслаждается, ставит «плохо»? Если бы он, Юра, был учителем, он бы не стал так уж радоваться, уличив человека в том, что он не приготовил урока. Может быть, наоборот, деликатнее было бы, почувствовав, что ученик не готов к ответу, не вызывать его, отвернуться и сделать вид, что не знаешь об этом, даже не догадываешься. Тогда ученик из одного только чувства благодарности выучил бы к следующему разу все до буковки, все бы карты нарисовал. Но у Михаила Андреевича, наверное, азарт, ему такие высокие чувства недоступны, скорее всего.
– Мы ждем, – напирает он на Юру. – Долго мы, весь класс, будем ждать? Где ваша карта? Может быть, вы забыли ее дома?
– Ничего я не забыл дома, – упрямо говорит Юра. – Почему обязательно забыл дома?
И тут Юра вдруг чувствует, что у него в руке появляется гладкая бумага, плотная, скользкая, прохладная. Это карта! Аккуратно раскрашенная, ровненько начерчены квадраты – каменный уголь. Равносторонние треугольники – железная руда. Зеленые низменности, синие реки, желтые возвышенности. Четким чертежным почерком тушью написаны все названия. Юре никогда не сделать бы такую карту, даже если бы он сидел над ней всю ночь напролет. Откуда она взялась? Раздумывать некогда. Он подходит к столу учителя и кладет карту.
Михаил Андреевич долго на нее смотрит. Наверное, ему хочется к чему-нибудь придраться. Но придраться не к чему – лучшая контурная карта в девятом «Б». Все-таки нашел – глаза блеснули колко:
– А фамилия? Почему не подписана фамилия?
Юра не знает, что ответить. Карта неизвестно чья – откуда возьмется на ней Юрина фамилия?
– Забыл написать, – говорит Юра.
– Ах, прошу прощения, – вдруг говорит учитель, – здесь на обороте написано. Ваша фамилия, все в порядке.
Михаил Андреевич перевернул карту. Черной тушью выведено на ярко-белом все до единой буковки – и фамилия и класс.
Географ молчит. Теперь уж ему нечего сказать. Но не такой человек Михаил Андреевич.
– Фамилию надо писать не на обороте, а внизу, под картой. В следующий раз учтите. Могли бы получить «отлично», но из-за этой небрежности ставлю вам «хорошо».
Юра переводит дух с облегчёнием, он идет на свое место.
– Дайте дневник. Во всем должен быть порядок, решительно во всем. – Михаил Андреевич водит коротким пальцем перед своим носом.
Его лысина блестит ярко и как-то празднично, очень симпатичная лысина.
Откуда она взялась, эта прекрасная карта с городами Германии, полезными ископаемыми, низменностями и возвышенностями? Юра теперь запомнит этот день на всю жизнь. Берлин, Гамбург, Дрезден. Каменный уголь, железная руда.
– Валентина, откуда карта? – шепчет Юра.
– Откуда я знаю! – сердито шепчет Валентина.
Она сидит прямо, смирно, отвечает ему, не разжимая своих бледных губ. Она ест глазами учителя. Все девять лет так просидела – не повернется, не улыбнется. Сейчас перед Валентиной лежит ее, Валентинина, карта. А эта появилась неизвестно откуда. Да и не сделать Валентине такую прекрасную – вон на ее карте и следы ластика, и буквы кривоватые. Нет, это не она. Да и с какой стати она будет его выручать? Не она. А кто? Юра так и не узнал в этот день.
Он не знал и другого – еще много-много раз вспомнит он эту историю с контурной картой. Но это будет потом, еще не скоро.
* * *
Муравьев и Валерка решили начать обход с большого белого дома-башни. Они быстрым шагом пересекли двор и вошли в подъезд. Было тихо и гулко, Муравьев почему-то заговорил шепотом:
– Давай на двенадцатый этаж поднимемся, а потом будем двигаться вниз.
Валерка молча кивнул.
Они вошли в лифт. Муравьев уже хотел нажать на кнопку с цифрой «двенадцать», но в это время тоненький голос крикнул:
– Подождите! Не уезжайте!
Они подождали. В лифт вбежала Катаюмова. Она тяжело дышала, – видно, мчалась от самой школы. Глаза были круглые, широко открытые, от любопытства Катаюмова даже моргать старалась пореже – вдруг в тот самый миг, когда она мигнет, и случится что-то потрясающе интересное.
– Нечестно!—сказала она. – Сами что-то затеяли, а от других скрываете.
Валерка нажал на кнопку, и лифт поехал на двенадцатый этаж.
Муравьев не отрываясь смотрел на Катаюмову. Он мог бы смотреть на нее целый год, но впереди было важное дело.
– Не поднимай шума, Катаюмова, – строго сказал он. – Что за привычка – чуть что, поднимать крик!
– Сам ты молчи, – быстро ответила она и отвернулась от него к Валерке; они вышли на двенадцатом этаже. – Валера, расскажи, что мы сейчас будем делать?
«Мы», – подумал Муравьев. – А ведь ее никто не приглашал участвовать в операции».
– По квартирам будем ходить, – ответил Валерка. – Вещи военные спрашивать, может, у кого что осталось от войны. Поняла?
– Ой! – Она всплеснула руками. – Какой ты, Валера, молодец! Как ты хорошо придумал! А то гоняемся за этим злым стариком, а он такой несимпатичный! Ты просто замечательно придумал, Валера!
Муравьев молчал. Ему хотелось закричать, как лягушке-путешественнице из сказки: «Это я придумал!» Но он ничего не стал кричать, пусть Валерка сам говорит. Но Валерка почему-то тоже молчал. Наверное, задумался. Он может теперь молчать хоть целый день.
Не дожидаясь, пока Валерка произнесет слово, Муравьев нажал на звонок, в квартире за дверью заиграла легкая музыка.
– У нас тоже такой звонок, – сказала Катаюмова. – «Мелодичный» называется.
– Кто здесь? – спросил из-за двери голос старушки. – Кого надо?
– Группа «Поиск», – ответил Муравьев, – из школы. Откройте, мы все объясним.
Но старушка не отпирала. Она затихла, потом раздался шорох – это старушка смотрела в стеклянный глазок. Пусть смотрит, видно же, что они не грабители и не разбойники.
Насмотревшись вдоволь, она зазвенела цепочкой, приоткрыла дверь и спросила недоверчиво:
– Макулатуру, что ли? Нету, Андрюшка всю на талон сдал.
– Нет, бабушка, нам не макулатуру, – замямлил Валерка. – У нас музей в школе, понимаете?
– Мы все понимаем, – поджала губы бабка. – А тебе стыдно, – ткнула она пальцем в Катаюмову. – Они мальчики, им баловать простительно, а ты что с ними общего нашла? Ты же девочка, а хуже мальчика. По чужим звонкам звонить – разве это красиво? Музей какой-то выдумали!
– Подождите, бабушка, – начал Муравьев терпеливо, – вы только послушайте. У нас музей, в нем всякие военные вещи – котелок есть, офицерский планшет есть, пулеметная лента. А нам еще нужно. Понимаете? С войны осталось у вас что-нибудь? Вы бы нам отдали, а мы бы поместили в музей, под стекло. И все бы видели. А так что? Дома у вас пылится...
– Пылится! Да у меня ни пылинки в доме нет! Это у вас пылится! И старых вещей не держу, и нет у меня ничего.
Она со стуком захлопнула дверь и долго еще ворчала, шаркая тапками.
– Не особенно толковая попалась бабушка, – тихо сказал Муравьев. – Пошли дальше.
В следующих двух квартирах никого не оказалось дома. Они позвонили еще в одну. Подождали. Никто не открывал.
– Пошли, – сказала Катаюмова.
– Подожди. – И Муравьев снова нажал на звонок.
И тут щелкнул замок, открылась дверь, маленькая девочка выглянула и спросила:
– Вам чего?
– А тебе чего? – спросила Катаюмова.
– Нет, мне – ничего. Если вы хулиганите, то пожалуйста. Я-то вас ни капли не боюсь. Просто я думала, вам надо знать, куда наш сосед уехал.
– А он пожилой? – встрепенулась Катаюмова.
– Да, пожилой.
– Вот пожилой нам и нужен. – Муравьев присел на корточки перед маленькой девочкой. – А куда он уехал? Ты знаешь?
Девочка хмыкает. Из-за двери виден курносый круглый нос, сияет коричневый глаз.
– Я? Конечно, знаю. Мы же с ним соседи. Я все знаю.
– Ну, скажи тогда, – торопит Катаюмова. – Поскорее только. У нас знаешь сколько дел?
Но, видно, напористая Катаюмова чем-то не нравится этой маленькой девочке. Она долго смотрит на Катаюмову, потом на Муравьева и наконец на Валерку, который все это время молча стоит за их спинами.
– Что же ты молчишь? – наседает Катаюмова. – Почему не говоришь?
– А что говорить?
– Как тебя зовут? – спрашивает из-за спин Валерка.
– Анюта. А тебя?
– Валера. А сосед куда уехал?
– Сосед? Он в ГДР уехал, на два месяца. А через два месяца он приедет.
– На два месяца! – ахает Катаюмова.
– Да. Он нам свою собаку оставил, Сильву. Я теперь с ней гуляю, она меня слушается с одного слова. Показать? Сильва!
Коричневая небольшая собака вышла на площадку, шелковые уши покачивались, коротенький хвост ловко крутился в знак удовольствия от приятной встречи с тремя следопытами. Сильва ласково смотрела на Анюту.
– Пошли, – сказал Муравьев.
Но Валерка, увидев собаку, забыл обо всем. Он стал гладить Сильву, трепал ее за уши, щекотал под горлом, приговаривал:
– Сильва, Сильва, хорошая собака, прекрасная собака.
– Валер, мы пойдем или будем здесь до завтра с собакой возиться? – не выдержала Катаюмова.
– Иду, иду! – отзывался Валерка, а сам все трепал Сильвины уши.
– Слушай, Анюта, можешь ты ответить на важный вопрос: есть у вас в подъезде старые люди, которые в войну воевали?
Муравьев сидит перед Анютой на корточках. Если она знает кого-нибудь, им не придется обходить все квартиры, они тогда сразу пойдут к нужному человеку.
– Да откуда она может знать? – сердито дергает плечом Катаюмова. – Она же маленькая, в школу, наверное, не ходит.
– Хожу, – спокойно отвечает Анюта, – в специальную, в спортивную. А еще занимаюсь в балалаечном кружке, чтобы энергия зря не пропадала. Поняла? А ветерана я знаю.
– Знаешь? Умная ты девочка! – Муравьев чуть не сел на пол, устал сидеть на корточках. – Скажи, где он живет, ветеран.
– У него ордена во всю грудь. Когда был День Победы, я видела. А в простые дни он их не носит. Только в праздник.
– Где он живет, этот человек? Анюта, я тебя спрашиваю! – У Муравьева кончилось терпение, а тут еще Катаюмова переминается с ноги на ногу, надоело ей разговаривать с этой маленькой девочкой, которая на нее, на Катаюмову, едва смотрит и совершенно не восхищена ее, Катаюмовой, красотой.
Анюта бросает на Катаюмову беглый взгляд и вдруг спрашивает:
– А ты на перилах можешь кататься? А я могу. А с горы на животе без санок можешь? А по деревьям? Эх ты! Не можешь!
– Подумаешь, – тянет Катаюмова.
– Молодец, Анюта, – говорит Муравьев. – А где живет тот ветеран? Ты скажешь?
– Тебе скажу, – отвечает Анюта, подчеркивая слово «тебе».
Тебе, мол, скажу, а ей ни за что бы не сказала: даже на деревья лазить не умеет, а строит из себя. – Он здесь живет, вот в этой квартире. Только он уехал на два месяца в Германию.
– Так это все один и тот же? Что же ты нам голову морочишь столько времени? – Катаюмова готова стукнуть Анюту. – Его два месяца ждать. А других старых людей ты не знаешь?
– Других не знаю. А этот очень хороший, и собаку нам оставил. Сильва! Домой!
Анюта запирает дверь.
Они еще долго ходят с этажа на этаж. В одних квартирах никого нет, в других живут люди, которые не участвовали в войне и никакими военными экспонатами поделиться не могут.
Они выходят на улицу. Вечереет. Пора по домам.
– Пока, – первым говорит Валерка.
– И я пошла, – говорит Катаюмова.
– Завтра пойдем еще? —спрашивает Муравьев неуверенно.
– Нет уж. Я не пойду, никакого толку нет, – отвечает Катаюмова.
– И я не пойду, – говорит Валерка. – Ты не обижайся, Муравьев.
– Это, наверное, Муравьев придумал? – вдруг спрашивает Катаюмова.
Валерка молчит, и Муравьев тоже ничего не говорит.
– У Кости пройдет грипп, тогда он что-нибудь получше придумает, – говорит Катаюмова и уходит.
Муравьев шагает к своему дому и думает: почему она считает, что Костя умнее, чем он, Муравьев? А может быть, как раз Муравьев и есть самый умный? Ну, если не самый умный, то и не самый глупый, во всяком случае. Он достает блокнот, ручку и записывает адрес ветерана, который должен вернуться домой через два месяца. Два месяца – это, конечно, очень долго, но пройдут же они когда-нибудь.
* * *
В школьном зале патефон играет танго «Брызги шампанского». Пластинка шипит; наверное, иголка притупилась за этот долгий прекрасный вечер. Кончена школа. Поверить в это трудно: десять лет ты был школьником, а теперь кто ты? Неизвестно!
Юра не умеет танцевать, он стоит у патефона, меняет пластинки, смотрит, как танцуют другие. У Сашеньки Седовой толстая белая коса лежит на спине, а Сергей ведет Сашу так осторожно, что коса даже не качнулась ни разу. Валентина танцует с Севкой по прозвищу «Севрюга». У Севки длинные губы вперед трубочкой, а глаза расставлены далеко, почти по бокам головы. Он похож на большую рыбу.
Рядом с Юрой две девочки из параллельного класса говорят:
– Я в медицинский. А ты?
– Хочу стать артисткой.
Юра думает о своем. Многие девочки хотят стать артистками. Вот Лиля наверняка не собирается в артистки, хотя с ее красотой ее бы приняли без разговоров.
– Артисткой! Правда?
Юра искоса смотрит: тощие плечики, веснушки сквозь пудру, белые брови.
– А что? Любовь Орлова тоже когда-то училась в школе, а теперь?
– Ну, Любовь Орлова!..
– Смотри, смотри, Варвара танцует!
Легкая, тоненькая учительница танцует с толстым географом. Он легко поворачивает ее, склонив голову, смотрит на ее румяное молодое лицо, потом отводит ее к роялю и, почтительно склонив свою совершенно голую блестящую голову, целует ей руку.
– А географ-то! – шепчутся за Юриной спиной девчонки. – И костюм новый.
– Перестаньте шептаться, – смеется географ. – Ну неужели вы до сих пор не усвоили – я все всегда слышу. Географ знает все.
Его хорошо поставленный учительский голос перекрывает звуки патефона, гул и смех. Все поворачиваются к нему. А он говорит:
– Вижу вас всех насквозь, мои дорогие. И ваши хитрости не такие уж хитрые, и ваши невыученные уроки, и несделанные контурные карты – все знаю. Все вы, в общем-то, лентяи и хитрецы. И мне хочется сказать вам на прощание – расставаться с вами жаль. Да, жаль.
Михаил Андреевич отворачивается от всех, достает из кармана сверкающий белизной платок, но вытирает не лицо, а лысину.
– Музыка! Вальс! – кричит распорядитель вечера Севрюга.
И закружились, закружились по залу пары. Нарядные, не похожие на себя вчерашних девочки. А мальчишки в новых костюмах, в пиджаках, при галстуках. Все какие-то взрослые, новые. И Варвара Герасимовна в синем платье в белый горошек. Волосы гладко причесаны, а сзади пучок. Почему-то все учительницы любят такую прическу. Но Варваре Герасимовне она идет, оказывается. И платье красивое, и туфли на высоких каблуках. Юра привык, что учителя не такие же люди, как все. Они во всем другие – учителя. Юра помнит, как он, когда был третьеклассником, встретил Варвару Герасимовну в керосинной лавке. Она вышла с большим жестяным бидоном, кивнула ему.
«Добрый вечер, Юра».
А он стоял в оцепенении несколько минут, не мог успокоиться – учительница покупает керосин! Учительница у себя дома зажигает примус, готовит обед, как его, Юрина, мама, как соседка тетя Дуся. Нет, этого не может быть!

Он в тот вечер рассказал маме:
«Мама! Представь себе – вот так я, а так Варвара Герасимовна. И у нее в руке знаешь что? Бидон. Она покупает керосин!»
«Что же ты удивляешься? Конечно, покупает. Ей же надо обед варить».
«Ну как ты, мама, не понимаешь! Она же учительница!»
«Смешной мальчик. Учительница. Я тоже учительница – тебя не удивляет, что я хожу в магазин, варю суп, стираю».
«Ты? Ты – мама. И потом, ты – учительница музыки, совсем другое дело».
«Почему же другое?» Наоборот, я-то как раз должна бы беречь свои музыкальные пальцы от грубой работы. Но это ерунда. Учить детей играть гаммы можно и не идеальными руками».
Мама так и не поняла тогда, что так поразило ее сына. Варвара Герасимовна могла объяснять урок. Могла вызывать к доске, ставить отметки. Могла делать замечания, сердиться, если виноват. Но она была учительницей – и, значит, не просто человеком, как все. Он не мог себе представить, что она может болеть, например. Или обедать. Или плакать. А вот теперь она, их учительница, танцует на выпускном вечере. Странно. И совсем уж странно, что она уже не их учительница, а они не ее ученики.
– Юра! Поставь фокстрот! Ну Юра! «Рио-рита», с желтенькой наклейкой! – Это просит Сашенька, белая коса немного растрепалась, стала пушистой.
И Валентина подошла:
– Юра! Что ты стенку подпираешь? Последний вальс!
– Пусть вальс, – смеется Сашенька. Зубы у нее ровные, белые, – пусть что хотите!
Юра ставит на патефон пластинку с вальсом. Валентина берет Юру за руку, кружит его.
– Ты что, Валентина! Я не умею вальс.
– Все равно, – отвечает она. – Последний вальс, ты это можешь понять?
Если кружиться быстро, все сплывается в длинные цветные ленты, они окружают Юру, переплетаются, летят по залу – голубые, зеленые, белые.
– Ты вполне прилично танцуешь, – говорит рядом Валентина. – У тебя чувство ритма, у тебя, Юра, наверное, наследственная музыкальность, от мамы.
– Я в наследственность не верю, Валентина. Человек во всем продукт воспитания.
– Пускай продукт. Ой, ты наступил мне на ногу! Но ничего, совсем не больно.

Валентина сегодня в белом платье из какой-то легкой, летящей ткани. И туфли взрослые, на почти высоком каблуке.
– Я сама сшила платье. И туфли купила сама, в Мосторге.
Но все равно, даже сегодня Валентина не кажется Юре взрослой. Она все такая же девчонка, какой он знает ее всю жизнь. Серьезное, немного озабоченное выражение лица, девочка, сказавшая ему с важностью много лет назад:
«Я живу своим умом».
– Валентина, куда ты будешь поступать?
– На фабрику. И в вечерний энергетический.
Варвара Герасимовна зовет:
– Десятый «Б»! То есть бывший десятый «Б»! Все сюда – снимемся на память!
Фотограф, длинный человек, похожий на удилище, сунул голову под черное покрывало:
– Потеснее придвиньтесь друг к другу! Вы не входите в кадр!
А они и сами хотели в тот день быть поближе друг к другу. Они расставались надолго, а многие – навсегда.
В первом ряду рядом с Варварой Герасимовной оказались Сашенька и Севрюга. По краям – Валентина, Сергей, Гришин с прической-ежиком. Второй ряд – Бобриков Алеша, Юра, Семка, Галка Омелькина. А позади них – Мариша, Вика, Трифонов, Шапиро. И, конечно же, остряк Савченко сделал рожки Омелькиной. Так и торчат над ее кудрями два его пальца. А еще Сашка и Павлик легли на пол голова к голове, не пожалев новых костюмов. Сашка получился на снимке сердитым, а Павлик улыбается, рот до ушей, как будто лежать на полу у всех под ногами такое приятное занятие. Такой уж он человек, Павлик Орлеанский.
Этот снимок десятого класса «Б» был сделан двадцать первого июня тысяча девятьсот сорок первого года. За один день до Великой Отечественной войны.
Но в тот счастливый день никто из них о войне еще не знал. Они вышли все вместе из школы, постояли на горке, покрытой свежей травой, посмотрели на речку Копытовку, на солнце, которое поднималось из-за синих куполов.
Впереди была целая жизнь.
* * *
Юра не стал ложиться спать в то утро. Такое утро – все равно не уснешь. И в ушах звучал вальс, а в окно уже входило солнце. И мама мыла чашки в полоскательнице, вытирала их долго. Чашки блестели, Юра смотрел, как они блестят. Папа сидел на диване и шуршал газетой.
Было воскресенье, некуда было спешить.
Во дворе закричал какой-то голос, Юра не сразу понял, кто это кричит. Потом узнал: Толя, маленький мальчик, всегда намазанный зеленкой. То у него нос разбит, то щека исцарапана. Толя кричал одно и то же слово, Юра не сразу разобрал, какое. А потом услышал, Толя кричал:
– Война! Война!
Никак не уймется исцарапанный Толя. С утра пораньше собрался играть в войну. С кем? Во дворе-то никого еще нет.
– Война! Война! – надрывался тоненький Толькин голос.
И вдруг еще голоса, взрослые, мужские, женские, стали повторять за окном:
– Война! Война!
Мама уронила чашку, отец рывком вскочил с дивана, быстро включил радио, из черной тарелки репродуктора спокойный голос отчетливо сказал:
«Враг будет разбит. Победа будет за нами».
Так Юра узнал о войне.
Мама стояла у стола, накрытого клеенкой, по нему были расставлены только что вымытые чашки и блюдца. Мама повторяла:
– Надо что-то делать, надо что-то делать.
В дверь постучали, к маме пришла ученица, худенькая бледная девочка Белла. Она боком, застенчиво вошла в комнату, нотная папка висела у нее на руке на шелковых черных шнурках.
– Здравствуйте, – вежливо сказала Белла. – Там война. – Девочка показала пальцем за окно.
– Война везде, детка, – ответила мама. – Иди домой, Беллочка. Надо что-то делать.
– Надо идти в военкомат. – Папа достал из шкафа костюм, в котором ходил с мамой в театр и в гости.
– Зачем? – растерянно спросила мама, но тут же поняла, села на край стула, заплакала.
Белла тихо вышла за дверь, пискнула вежливо:
– До свидания.
– Плакать не надо. – Папа положил ладонь маме на спину. – Война. Будем воевать. На то и мужчины.
– Папа, я с тобой! – Юра впервые в жизни понял, что он мужчина. Раньше было в их семье – женщина, мужчина и мальчик. А теперь – женщина и двое мужчин.
– Ты? – Папа стоит в новом костюме, удивленно поднял брови. – Ты, Юрик? Зачем? – И тут же спохватывается: понятно, зачем его сын собирается в военкомат.
Мама подняла на них заплаканные глаза, крикнула:
– Юра! Не смей! – махнула рукой и заплакала еще сильнее.
Она закрывала ладонями глаза, а слезы текли сквозь ее тонкие музыкальные пальцы.
В военкомате была толпа, Юра протиснулся боком вслед за отцом.
– Юра! – позвал голос из толпы.
Севрюга улыбался радостно:
– Мне послезавтра с вещами! И Сашке и Павлику!
Из кабинета военкома вышел отец:
– Послезавтра с вещами. Я тебя на улице подожду. – И вдруг как-то жалобно добавил: – Ты, Юра, там, у военкома, не нажимай. Призовут в свой срок. – Столько тревоги в его глазах, а сам стыдится своей тревоги за сына.
И опять Юра чувствует, что отец взрослый, а он, Юра, все-таки еще не совсем взрослый.
В кабинете за столом сидел неприветливый человек, всем своим видом он показывал, что ни на одно лишнее слово у него нет времени.
– Возраст? – Он быстро глянул на Юру.
– Скоро восемнадцать.
– Образование?
– Десятилетку вчера окончил.
Военком что-то пометил в бумагах.
– Ступай домой, жди повестки.
– А долго ждать? Война кончится.
– Следующий! – сказал сухо военком, глядя за спину Юры на дверь.
Юра и отец вернулись домой, купили по дороге селедку иваси.
– Мама любит, – сказал отец.
Она стояла посреди комнаты и смотрела на них.
– Юра остается на неопределенный срок, – быстро заговорил отец. – Понимаешь, Юру не забирают еще.
Мама молча смотрела то на одного, то на другого. У нее тряслись губы, руки были сжаты в кулаки. Она спросила почти без звука:
– Когда?
– Послезавтра. – Отец сказал это слово неестественным беспечным голосом. – Мы там селедку купили, очень хорошая, иваси. Еще целых два дня буду дома.
Мама все стояла на месте. Потом сказала:
– Куда же тебе воевать, такому неприспособленному? Хорошо еще, что тепло, война летом – все-таки, может быть, не простудишься. У тебя же бронхиты, господи боже мой!
– Ну при чем здесь бронхиты? Пожалуйста, успокойся, Мария.
– Я спокойна. Видишь, я не плачу. Юра, достань со шкафа чемодан, я соберу папины вещи.
– Не чемодан надо, Мария, а рюкзак.
– Хорошо, хорошо.
Мама вдруг засуетилась, начала вытаскивать из шкафа папины белые крахмальные рубашки, кидала их на кровать.
Потом остановилась, потерла рукой лоб:
– Я, наверное, не то делаю. Я не знаю, что значит – с вещами. С какими вещами?
И мама села на кровать, прямо на крахмальную рубашку.
Через два дня Юра и мама провожали отца. На большом поле было тесно – люди стояли почти вплотную. Отец в пилотке, в белесой гимнастерке, в ботинках с обмотками, с вещевым мешком на плече был похож на всех остальных солдат. Мама стала быстро перекладывать в его мешок пачку печенья, колбасу, консервы щука в томате.
Из-под пилотки выглядывала наголо остриженная голова. Светлая, странная голова и лицо очень молодое.
– Папа, ты стрелять умеешь? – вдруг спросил Юра.
– А как же? – Отец отвел глаза. – Детский вопрос.
Юра не понял, умеет отец стрелять или нет. И не понял, почему этот вопрос – детский, если человек сегодня едет на фронт.
Мама быстро заговорила:
– Мне надо с тобой посоветоваться. Нашу музыкальную школу эвакуируют. Кажется, на Урал, что-то в этом роде. Что мне делать? Ехать? А Юра? Остаться? А работа?
– Ехать, обязательно ехать! Обязательно! – Отец почти кричал.
– А Юра?
– Он взрослый. – И отец поерошил Юре затылок, как маленькому.
Юра потом часто будет вспоминать теплую руку на своем затылке, щекотно взлохмаченные волосы.
– Построиться! – раздалась над полем команда, перекрывая все голоса.
И сразу:
– Первая рота! Становись!
– Вторая рота! Становись!
Смолкли голоса, прекратились все разговоры, секунду над полем было очень тихо, стало слышно, как чирикают в березах воробьи. А потом сразу покатился гул, все разом заговорили, стали обниматься.
Молодая женщина рядом с ними вдруг закричала:
– Коля! Коленька! Коленька!
А Коля, большой, широкий, круглолицый, смущенно оглядывал толпу и густым басом говорил:
– Ну Нина, Нина, не шуми, некрасиво, люди смотрят.
Как будто это сейчас было важно – люди смотрят. Никто на них и не смотрел. Юра взглянул на миг и сразу опять стал смотреть на папу. А папа заторопился. Поцеловал маму, потом Юру и пошел от них. Вещевой мешок болтался, стукал папу по спине.
Женский плач, крик. А над всем – громкий, пронзительный голос, неизвестно чей:
– Возвращайся живой! Возвращайся живой!
Как будто незнакомая женщина, не видная в толпе, кричала это всем, каждому, кто уходил.
И в эту минуту Юра вдруг осознал, что не все вернутся. Никто не знает, кому суждено прийти, кому – нет. Но уже известно: придут не все. И тяжелая тоска сдавила сердце.
* * *
Борис сидит на скамейке в сквере, ему не хочется идти домой. Дома теперь не так, как было раньше, и он сидит в сквере.
Скоро весна, и воробьи, веселые, распушившие серые перья, прыгают у самой скамейки, ничуть не боятся Бориса.
Бежит мимо скамейки маленький ребенок, не поймешь, мальчик или девочка, красный комбинезон, и ребенок похож на стручок перца.
– Бабушка! Смотри, что я нашел!
Все-таки мальчик.
– Я пуговичку нашел! Пуговичку!
«Хорошо быть маленьким, – вдруг подумал Борис. – Нашел дурацкую пуговичку – и рад. Никаких забот, никаких огорчений». Совсем недавно Борису так хотелось быть большим, а теперь захотелось быть маленьким. И от этого стало еще грустнее.
И Муравьев совсем забыл про него. Сколько времени не виделись, хоть бы спохватился – где, мол, Борис? Почему его давно не видно? Нет, у всех свои дела, Муравьев где-нибудь бегает. Может быть, пытается найти подход к злому старику. Или еще какие-нибудь проблемы появились. Неразгаданные тайны, нерешенные вопросы... Им хорошо, они все вместе – Костя, Валерка, Муравьев и красивая Катаюмова. Хоть она и задевает Муравьева, а все равно им всем хорошо вместе. А тут сидишь один, как в пустыне, и никому не нужен на всем свете.








