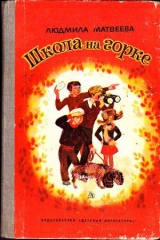
Текст книги "Школа на горке"
Автор книги: Людмила Матвеева
Жанр:
Детская проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 12 страниц)
Борис поежился: кажется, будет дождь. Воробьи, убедившись, что он их ничем не угостит, улетели к другим скамейкам.
– Борис! Наконец-то я тебя нашел! Куда ты делся-то?
Перед ним стоял Муравьев.
– Я тебя ищу, ищу. У нас каждый день пять уроков, иду к тебе – а вас уже отпустили.
Борис смотрел на Муравьева: такой же, как всегда, – торопится, говорит быстро, как будто боится куда-то опоздать. Как будто где-то, не здесь, его ждут очень важные дела.
И все-таки от присутствия Муравьева, оттого, что он искал Бориса, от самого голоса Муравьева стало Борису чуть легче. Наверное, что там ни говори, а когда тебе плохо, лучше, чтобы был ты не один. Чтобы кто-то вот так подошел, нашумел, заторопился, затормошил тебя.
– Как ты живешь, Борис?
Борис опять помрачнел. Как ответить на такой вопрос? Рассказывать правду Борис не собирается ни одному человеку, даже самому Муравьеву.
– Чего-то ты какой-то странный, Борис. Ты что?
«Все равно не скажу», – думает Борис. И тут же, неожиданно для самого себя, начинает рассказывать Муравьеву свою беду. Он рассказывает все по порядку – и про чужую женщину на остановке, и про объявление на столбе.
Муравьев слушает, не перебивая. Он сидит рядом с Борисом, никуда не спешит больше, долго сидит. Потом Муравьев говорит:
– Плохо. Но ты не убивайся, понял?
Борис ничего не ответил.
– Теперь бери свой портфель, и пошли ко мне. Пошли, пошли. Холодина, у меня руки совсем окоченели.
* * *
Утром Юра провожал маму, эшелон с эвакуированными уходил на Урал. Мама, маленькая, беспомощная, все время хватала Юру за руку:
– Ты только пиши. Главное – не потерять связь. Пиши, слышишь?
И когда поезд тронулся, нагруженный до отказа людьми, чемоданами, корзинами, перинами, Юра еще слышал мамин голос:
– Пиши, Юра!
А куда писать, было неизвестно, потому что никто не знал, куда их везут – не то в Свердловск, не то в Челябинск, не то под Челябинск.
Юра вернулся домой. Июльское солнце светило в комнату, валялся на столе мамин белый платок с кистями, теплый платок, зря мама не взяла его.
Мама уехала, а он остался. Потому что он взрослый.
Пыль вертелась в солнечном луче. Юра подошел к пианино, крышка была закрыта со дня начала войны. Не ходили больше к маме ученицы, всем стало не до уроков музыки.
На черной лакированной крышке Юра вывел пальцем слово «мама».
Тетя Дуся заглянула в комнату:
– Юра, я в ночную. Уйдешь – дверь проверяй, ворам война – не война. – Она постояла немного, убрала белый теплый платок в шкаф. – А знаешь, на заводе говорят, твой отец мог в одну минуту бронь получить. Инженерам, как он, бронь дают. А он не захотел. Вот так. Письма нет от него?
– Нет, тетя Дуся. – Юра стер ладонью буквы с пианино.
– Пыль у тебя. Ты дом соблюдай. Дом есть дом, прибери.
Она ушла.
Юра сидел в пустой комнате, думал: «Посижу немного, потом разогрею кашу, мама оставила, – поем. А потом?» Потом неизвестно. Впервые в жизни ему было нечего делать. Он ждал: завтра, может быть, придет повестка. Он ждал каждый день, почти все из их класса уже ушли. Девочки уехали в эвакуацию. А Севрюга забежал проститься. Стриженый, подобранный, военная форма сидела на нем так, как будто он носил ее всю жизнь.
– Не горюй, и тебя возьмут. Пока.
Юра не знал, что они видятся в последний раз.
Мама уезжала тяжело. Она все не могла решить, правильно ли поступает, ехать – не ехать. Похудела. И Юра все слышал ее слова:
«Пиши. Только одно слово – жив. Мне больше ничего не надо, жив, и все. Обещаешь?»
Юра кивал, кивал. Конечно, он будет писать каждый день. Разве это трудно – писать каждый день?
Юра еще раз оглядел комнату, вдруг ставшую большой. На окне темная штора, сделанная из плотной бумаги – светомаскировка. Пианино у стены. До войны тетя Дуся говорила: «У вас пианино, вы богатые». А недавно сказала маме: «У меня родня в деревне, я богатая. Картошки дадут, сала».
Юра поел холодной пшенной каши прямо из кастрюли и вышел во двор. Пустой двор тоже показался большим. Никого. Только незнакомая пожилая женщина в валенках, несмотря на жару, шла ему навстречу.
– Послушай, ты из какой квартиры? Из четвертой? Тебе, значит, несу. – И протянула ему серенький листочек. Повестка. – Распишись вот здесь, что вручила. Мне еще много разносить, до вечера не управлюсь. – Она зашагала своими валенками по теплому асфальту.
Завтра к школе, с утра, с вещами.
А вещи уже приготовлены, только в мешок сложить.
Теперь не надо будет ждать. Его позвали воевать, и в каждую минуту будет ясно, что ему надо делать.
Юра вышел на горячую Первую Мещанскую. Спешить было некуда. Брел не торопясь, сквозь подошвы парусиновых туфель чувствовал тепло асфальта. Летел пух с тополей. И вдруг Юру будто ударило током. Он остановился, даже подался чуть назад. На остановке трамвая стояла девушка. Белые волосы занавешивали часть лба и бровь. Смуглая щека, светлые, очень светлые глаза. Лиля. Это была Лиля. Взрослая, очень красивая. Она ждала трамвая. На остановке было много народу, она стояла как-то отдельно от всех. Лиля. Красные сосны, синяя речка, голубой дым от самовара. Девочка в синем сарафанчике. Взрослая девушка медленным движением руки поправляет прическу. Рука легкая, мягкое движение вверх, пальцы тронули светлые волосы, рука снова тихо опустилась вдоль синей юбки.
Сейчас он подойдет к ней. Надо только набраться решимости. Она, конечно, не помнит его. Разве может человек помнить столько лет? Но он же ее не забыл. Да, но это потому, что она – Лиля, необыкновенная девочка. Смуглая щека, сумочка в руке. Совсем взрослая. Надо окликнуть ее сейчас, немедленно. Но голос пропал. Как во сне – хочешь крикнуть и не можешь. Хочешь шагнуть – ноги не слушаются.
Показался красный трамвай. Сейчас она уедет! Навсегда!


* * *
Муравьев привел Бориса к себе.
Борису сразу понравилось у Муравьева. На полках за стеклом стояло много книг, у окна в клетке прыгал пестрый попугай. Он покосился на Бориса желтым круглым глазом и хрипло спросил:
– Дурак?
– Сам ты дурак, – ответил Борис.
Муравьев на кухне погремел посудой и позвал:
– Борис, иди чай пить!
Они напились чаю с колбасой, Борис согрелся и немного повеселел. В комнате попугай кричал: «Ура! Ура!» Муравьев мыл чашки, а Борис вытирал их длинным белым полотенцем. И постепенно ему стало казаться, что не так уж все безнадежно плохо. Может быть, все еще обойдется. Папа любит его, своего сына Бориса. Конечно, любит. Вчера вечером папа нажал пальцем Борису на нос и сказал: «Динь! Барин дома? Гармонь готова?» Забытые слова, так папа говорил, когда Борис был совсем маленьким. Папа не забыл, значит, старую игру. Когда человек тебе не нужен, ты не станешь вспоминать какую-то старую давнюю игру и нажимать ему на нос...
Муравьев убрал посуду в шкафчик, они пошли в комнату, и Муравьев включил проигрыватель. Алла Пугачева запела песенку «Даром преподаватели время со мною тратили». Откуда Муравьев мог узнать, что Борис очень любит эту песню? Нет, Муравьев самый настоящий друг, в чем в чем, а в этом Борису повезло. Мог ведь он и не познакомиться с Муравьевым, а вот познакомился.
– Скоро дед придет, – говорит Муравьев. – Дед у меня особенный! Сам увидишь.
Борису так нравится в этом славном доме, где играет музыка, где кувыркается на своей жердочке попугай. Но ему хорошо вдвоем с Муравьевым, а дед – это еще неизвестно. Совсем другое дело, когда приходят взрослые. Они всегда задают много разных вопросов. Обязательно почему-то хотят знать, кем ты хочешь быть и кого ты больше любишь – маму или папу. Самый дурацкий вопрос на свете – кого ты больше любишь. Борис, правда, давно, еще в детском саду, приспособился отвечать на этот вопрос. «Маму», – говорит Борис. Тот, кто спросил, удовлетворенно кивает. Какой хороший мальчик, так прямо и четко ответил: «Маму». И тут Борис добавляет: «И папу». А потом с удовольствием смотрит на растерянное лицо того, кто спрашивал.
Но сейчас Борису совсем уж не до этого. Может быть, уйти, пока не пришел дед Муравьева?
– Ты такого деда в жизни не видел, – говорит Муравьев и чистит апельсин. – Видишь в коридоре хоккейную клюшку? Думаешь, чья?
– Твоя, наверное, – пожимает плечами Борис.
– Ничего подобного! Моя на балконе лежит. А эта – деда! Он и в хоккей умеет, и на лыжах, и плавает – не догонишь. Понял, какой дед?
Борис кивает и решает побыть еще немного. Муравьев протягивает ему половину апельсина, а от своей половины отламывает дольку и просовывает в клетку попугаю.
– Ура! – орет попугай. – Привет! Дурак!
Борис смеется. Он не смеялся уже давно, а сегодня смеется.
Муравьев показывает попугаю кулак, но попугай продолжает каркающим голосом выкрикивать:
– Ура! Привет! Дурак! Привет!
– Три слова всего знает, а беседует. Дед его очень любит, вот и привез сюда. А вообще-то он у деда с бабушкой живет, на Дмитровском шоссе. Меня, понимаешь, на деда оставили на три года.
– Почему?
– Отец и мать уехали в Бельгию, они переводчики, там работают. А дед ко мне переехал, но жить совершенно не мешает. Ты много знаешь взрослых, которые жить не мешают?
Борис вспоминает маму, папу, учительницу Галину Николаевну, вспоминает воспитательницу их детского сада Зою Сергеевну. Он думает, но не знает, кого бы назвать.
– Молчишь? Вот так вот.
– А Варвара Герасимовна?
Муравьев кивает:
– Верно, Варвара Герасимовна все понимает. Она про тебя спрашивала на днях. Она спросила: «Муравьев, почему Борис не приходит больше на группу «Поиск»?
– А ты?
– А я сказал – придет. И ребята все спрашивали: «Где Борис?»
Борис вздыхает. Вспоминает, как его не хотели сначала принимать в группу «Поиск», как ему хотелось, чтобы они его приняли, хотя они – пятиклассники, а он только в первом классе. А теперь они приняли, а он не ходит. Для каждого дела нужно, наверное, подходящее настроение. А когда нет настроения, то и идти никуда не хочется. И все равно интересно, как там музей.
– Муравьев, а ты отдал в музей свою пулеметную ленту?
Муравьев покрутил головой:
– Нет, не отдал. – И почему-то нахмурился.
– Тогда знаешь что? Покажи мне эту ленту, а, Муравьев? Я никогда в жизни не видел пулеметной ленты.
– Не могу.
– Ну почему? Я же только посмотрю. Хочешь, даже в руки брать не буду. Только глазами погляжу.
– Не проси. Давай лучше в шашки сыграем. Или в поддавки, во что хочешь.
Муравьев берет с полки доску, расставляет шашки. Борис думает: «Что-то здесь не так. Почему Муравьев не хочет дать ему посмотреть на эту самую пулеметную ленту? Что ей от этого сделается, ленте?»
– Ну что ты на меня так смотришь? «Покажи, покажи»... Нет у меня никакой ленты. Нету, и все! – Муравьев расстроился, и Борис уже сам жалеет, что заговорил об этой несчастной пулеметной ленте. Ему и без ленты было хорошо сидеть с Муравьевым. – Нет ее и никогда не было. Понял теперь?
– Нет, – честно признается Борис. – Ты же сам говорил: «Принесу». И все ребята говорили: «Принеси». А теперь, значит, ее нет? И никогда не было? Но ты же говорил...
– Наврал, – Муравьев разводит руками, будто и сам удивляется, зачем он наврал.
– Наврал, – как попугай, повторяет Борис. – А как же теперь, Муравьев?
– Вот и я не знаю, как же теперь. Они человека мучают – принеси, принеси. А где же я возьму ее?
Борису стало очень жалко Муравьева. У человека нет никакой пулеметной ленты, а они, не разобравшись, в чем дело, все время дергают его: принеси, принеси.
– Понимаешь, я и сам-то не знаю, зачем наврал. Один человек все время насмехается, я взял и сказал: «Нашел в походе старую пулеметную ленту. Могу принести для музея».
Борису представляются лица: спокойное лицо Кости, серьезные глаза, внимательные и требовательные. Насмешливое лицо Катаюмовой, уголки рта всегда загнуты вверх, она вот-вот рассмеется. Немного сонное Валеркино лицо, глаза полуприкрыты, щеки круглые. И живые, ясные и веселые молодые глаза под седыми волосами – лицо Варвары Герасимовны.
– Понимаешь, Борис, я думал, что они забудут. Мало ли люди забывают? Ну раз напомнили – человек не несет ленту, ну два, ну три – и отстали. А они все время помнят. Особенно... ну, в общем, один человек. Как будто помнить больше не о чем. Все только немного позабудут этот человек возьмет и напомнит. И обязательно при всех.
– Да, даже не придумаю, что же делать. Слушай, Муравьев, а может, взять и сознаться?
– Никогда в жизни! И точка! – Муравьев даже забегал по комнате.
Попугай, глядя на него, тоже разволновался и крикнул:
– Привет! Ура!
Муравьев отмахнулся от него, снова сел.
– Давай в шашки играть. – Муравьев зажал в каждом кулаке по шашке – белую и черную: – Выбирай.
Борис выбрал, оказалась белая.
– Тебе начинать. Ходи.
– Я маме на работу позвоню, – спохватился Борис через некоторое время, – а то она будет беспокоиться, я всегда после школы ей звоню.
Он пошел к тумбочке, на которой стоял телефон. Но Муравьев сказал:
– У нас телефон уже несколько дней сломан, надо из автомата звонить.
– Сломан?
– Я сам его сломал. Пришлось, понимаешь.
С Муравьевым никогда не знаешь, чего ждать.
– Сам? Зачем сломал?
– «Зачем, зачем»! Директор Регина Геннадьевна сказала – деду позвоню. Только этого мне не хватало. Ну, пришлось там, в телефоне, одну штуку отвернуть. Понял теперь?
– Понял. А зачем она хочет твоему дедушке звонить?
– Вот и я говорю – зачем? Разве ты не заметил? С первой минуты придирается. Я еще не успел переступить школьный порог, а Регина Геннадьевна: «Муравьев! Муравьев!» В школе, заметь, Борис, тысяча учеников, а может, и больше. Неужели всегда виноват один Муравьев? Ну разбил я этот аквариум, я же не отказываюсь – разбил. Но, во-первых, нечаянно совсем. Во-вторых, я же этих аксолотлей или как их там, я их всех до одного спас, они теперь в кастрюле сидят и прекрасно себя чувствуют, плавают и ручками размахивают. Кастрюлю из-под сосисок буфетчица тетя Соня дала. А Регина Геннадьевна ругала меня, ругала. Я думал, поругает – и пойду. А она еще и деду хочет звонить из-за этих аксолотлей. Я понимаю, охрана природы. Но человек-то все равно важнее! Правда?
– Конечно, важнее. «Человек – это звучит гордо». Так в библиотеке на стене написано.
Когда они спускались по лестнице, чтобы позвонить из автомата, им навстречу поднимался высокий человек с седыми кудрями. Он был без шапки, хотя на улице только пахло весной, а ветер дул холодный и пронизывающий. Мама утром сказала:
«Борис! Завяжи уши у шапки и надень шарф».
Человек увидел их на лестнице и остановился. От него пахло ветром и свежей улицей.
– Дед! Это Борис, я тебе говорил.
– Очень приятно, – сказал дед и пожал Борису руку большой широкой ладонью. – Возвращайтесь, я пряников купил. Телефон нам исправили? – Он уже поднялся на несколько ступенек.
– Нет, дед, не исправили. Безобразие какое! – сказал Муравьев.
В автомате Борис набрал номер.
– Мама, я у Муравьева. Ты не беспокойся.
– Никаких Муравьевых. Сейчас же иди домой, слышишь?
Борис понял, что лучше не спорить, попрощался с Муравьевым и пошел к себе.
* * *
Сейчас подойдет трамвай, Лиля сядет и уедет. Скорее всего, он никогда больше не увидит ее.
– Лиля!
Юра сам не узнал своего голоса. Никогда еще он так не волновался.
Она обернулась, светлые, широко-расставленные глаза смотрят на Юру. Она не узнает его. Конечно, столько лет прошло.
– Лиля, здравствуй.
Трамвай подошел, она шагнула к вагону, потом к Юре, остановилась.
– Не уезжай, Лиля. Послушай, мы с тобой давно не виделись. Но это же неважно. Мы знакомы уже шесть лет. Что ты на меня так смотришь?
Она ничего не говорит, немного наклонила голову и смотрит исподлобья. А в глазах вопрос.
Трамвай ушел, они идут по улице. Лиля идет рядом с ним. А вдруг это снится? Нет, идет живая Лиля. Изменилась, конечно. Но глаза все те же – светлые, прозрачные, в них вопрос. И молчит – такая же молчаливая, как в детстве? Или стесняется.
– Лиля, я часто вспоминал тебя, очень часто. Деревня Пеньки, помнишь? У вас на даче был самовар. И гамак. А ты собирала шишки около нашего лагеря. С тобой была еще одна девочка, двоюродная сестра, не помню, как ее звали.
– Клава, – говорит Лиля.
И сразу все возвращается. Радость и близость. Не виделись долго, но это, наверное, не самое главное – сколько не видеться. Самое главное – что пропала отчужденность, вернулась Лиля, та Лиля, о которой он не забывал все это время.
Они шли вдоль трамвайной линии и прошли уже две остановки. Снова подошел трамвай. Лиля вопросительно посмотрела на Юру, он понял, что она торопится.
– Лиля, подожди следующего. Не уезжай. Мне завтра – с вещами.
– А мне сегодня, – как-то легко сказала она. Как будто в этом не было ничего особенного.
Лиля уходит на фронт. Девочка из летней сказки.
– Почему? – глупо спрашивает он и сам понимает, что вопрос глупый. – Почему – тебе?
– Я окончила школу связисток, вчера был последний экзамен. А сегодня нас увозят.
– Во сколько?
Найти и сразу потерять! Светлые волосы развевает ветерок, дующий из переулка. И тополь шумит листьями. А Лиля сегодня – сегодня! – уедет воевать. Лиля – туда, где опасно.
– Ночью, в двенадцать тридцать. С Киевского.
– Я пойду тебя провожать, – говорит он твердо, – я подарю тебе цветы.
Она посмотрела ему в лицо, улыбнулась. Так улыбается только один человек на земле – Лиля. Ее улыбка освещает не только лицо, но и все вокруг.
– Цветы. Где же ты возьмешь цветы?
Мимо них прошли четыре девушки в пилотках, в гимнастерках, в темных юбках и тяжелых сапогах. Они несли длинный серебристо-серый аэростат. Он плыл над их головами, а девушки из службы противовоздушной обороны держали его за толстые веревочные петли.
– Мы в армии служим, а парни по улицам с блондинками гуляют! Несправедливо, девочки! – крикнула самая маленькая, кургузенькая девушка и первая засмеялась.
И остальные три засмеялись. Юра смутился, а Лиля вдруг взяла его за руку. Теплая, мягкая, узкая ладонь Лили.
– Я подарю ей цветы! – крикнул вслед уплывающему по Мещанской аэростату Юра.
Они не ответили. Увели своего серебряного слона.
– Где же ты возьмешь цветы, Юра?
Он не знал, где продают цветы, и не знал, продают ли их во время войны. Чужое открытое окно на первом этаже. Горшок с зеленым кустиком, листья, похожие на кленовые – зубчиками.
В окно выглянула старуха:
– Вам чего?
– Цветок ваш понравился, – сказал Юра. – Подарите нам цветок.
Старуха смотрела сурово. Оглядела Лилю, Юру, опять Лилю.
«Не даст», – подумал Юра.
– Бери, – махнула рукой старуха.
Юра схватил горшок.
Прошли несколько шагов, он протянул горшок ей:
– Дарю тебе, Лиля, цветы. Сказал, подарю – и дарю. Ты мне всегда верь.
Это было сказано очень серьезно, это было так важно: «Ты мне верь».
И она почувствовала важность этих слов, сказанных не только про чахлый цветок с бледными листьями, похожими на кленовые, на тонком стебельке.
– Выпросил, – Лиля покачала головой, – нехорошо.
– Мне он нужнее.
Она прижала коричневый горшок к груди, листья щекотали ее щеку.
Они долго ходили по городу и носили с собой цветок.
В незнакомом переулке Лиля подняла с земли кусок известки, написала на темно-красной двери:
«Здесь будет наша встреча».
Сколько раз потом он прочтет эту надпись! Буквы ровные, как на школьной доске...
Они остановились. Один раз Лиля наклонилась, понюхала листья.
– Ничем они не пахнут, просто зелеными листьями.
Она про цветок.
– Они пахнут солнцем, и еще летом, и еще нашей встречей.
Он про ее волосы.
Поняла она или нет?
– Вон на втором этаже мое окно.
Неужели уйдет? Ему стало страшно.
– Лиля, тебя ждут дома?
– Нет, все уехали. Я только поднимусь за вещмешком.
Она легко побежала по лестнице, он ждал, читал слова:
«Здесь будет наша встреча». Если бы она написала, когда будет эта встреча! Но ни один человек на всей большой земле не мог этого сказать.
Ее дом двухэтажный, облупилась белая краска, местами осыпалась штукатурка. Окна, как у всех москвичей, перекрещены бумажными лентами – чтобы не разлетались стекла, если во время бомбежки воздушной волной выдавит окно. Обычный московский дом. И не так далеко от его дома. Почему же они не встретились раньше? Ходили по одним улицам, ездили в одних трамваях, смотрели на одни вывески. А встретились только сегодня, на один день. И этот день уже кончается.
Остывал город, голубоватые пыльные сумерки заполнили переулок, стало прохладно. И к вечеру почему-то громче становятся звонки трамваев, гудки машин. И на теплой красной двери буквы: «Здесь будет наша встреча».
Лиля вышла в сером пальто, на плече висел вещевой мешок, такой же, как у папы. Но у папы были широкие плечи, и мешок казался небольшим. А Лилин мешок показался Юре гораздо больше. Худенькая, слабая, беззащитная девочка. Большие, очень светлые глаза, легкие белые волосы.
– Форму нам выдадут в эшелоне. Как ты думаешь, пойдет мне военная форма?
– Я помню тебя в синем сарафане. А когда ты плавала в реке, сарафан вешала на корягу, которая торчала на берегу.
– Помню. И шишки помню. А ты сидел на дереве и смотрел вниз, думал, что тебя не видно. А я тебя сразу заметила, а Клава не заметила. Я сказала: «Мальчик, помоги нам шишки собирать». Помнишь?
– А я чуть с дерева не свалился от счастья, что ты меня позвала.
Она смеется, закидывает назад голову. Шея у Лили тонкая, жалобная.
Ее мешок висит у Юры на спине.
Вот и вокзал. На всех путях стояли эшелоны – длинные, темные. Где-то в глубине вокзала радио играло «Интернационал» – полночь. На открытых платформах – орудия под брезентом. Горы ящиков, наверное, снаряды.
Лиля стоит рядом с ним, такая тоненькая, как луч.
– Юра, куда тебе писать?
Он не знал, какой у него с завтрашнего дня будет адрес. Она не знала, какой у нее.
– Напиши на мою московскую квартиру, пришли номер своей полевой почты. Мне соседка перешлет. Слышишь, Лиля?
Только сейчас, когда она спросила, куда писать, они начали расставаться. До этой минуты была встреча, а теперь пришло прощание.
Как быстро прошел этот день!
Паровозы гудели, шли колонны бойцов с винтовками. Автоматы появились позже. Молчаливые солдаты шли к эшелонам.
– Пойду. – Лиля сжала Юрину руку, другой рукой он прижимал к животу горшок с цветком.
Она побежала от него, вдруг остановилась, метнулась обратно. Подошла вплотную, поднялась на цыпочки и поцеловала Юру. Побежала снова, крикнула из темноты:
– Обязательно напишу! А ты обязательно ответишь!
Снова побежала.
– Юра! Меня по-настоящему зовут Хильда! Я эстонка! Хильда Эпп! Пиши!
Она исчезла в темном коридоре между составами, мелькнуло в темноте серое пальтишко. А Юра стоял с цветком.
Гудели паровозы, длинно, печально.
* * *
Муравьев входит в булочную и сразу забывает и про булку, и про четвертушку бородинского, которые ему велел купить дед. В булочной, совсем недалеко от Муравьева – сделать шаг, и очутишься рядом, – стоит человек в кожаном пальто и темной шляпе. Он стоит спиной к Муравьеву. Муравьев в первую минуту думает: «Он!» – а в следующую минуту думает: «Не он! Мало ли на свете похожих людей? И похожих пальто много». А потом опять все-таки думает: «Он!» Человек в кожаном пальто покупает хлеб и кладет его в сумку. И тут Муравьев окончательно решает: «Он», потому что человек оборачивается, и Муравьев сразу немного отпрыгивает в сторону.
Старик смотрит на Муравьева в упор.
Потом щурит глаза, хочет что-то вспомнить. Потом перестает щуриться, слегка кивает сам себе – вспомнил. А Муравьев стоит как пригвожденный.
Старик говорит:
– Ну?
– А что – ну? Что я такого сделал-то?
– Вот я и хочу понять, что ты делаешь, чего тебе надо.
Конечно, Муравьев мог бы сейчас выскочить из булочной и попросту удрать. Но что-то удерживает его. Старик выходит из булочной и зовет:
– Ну-ка, ну-ка, пойди сюда.
Они вместе выходят на улицу, старик ведет Муравьева мимо больших домов, мимо почты, аптеки, книжного магазина. Конечно, можно вырвать руку и удрать от этого злого старика, потому что кто его знает, что у него на уме. Но Муравьев продолжает идти с ним. Почему? А потому, что человеку всегда свойственно надеяться. И Муравьев тоже надеется. Он надеется, что злой старик окажется не таким уж злым, если его не злить. И тогда Муравьев сможет узнать, зачем он прислал им всем загадочные письма. Почему пообещал дать планшет, а потом не дал. Что значит Г.З.В. А если Муравьев все это узнает, тогда начнется совсем другая жизнь. И некоторые люди перестанут считать Муравьева каким-то лишним человеком, который только на то и способен, что вытворять всякие глупости.
– Объясняй все толком, – велит злой старик. – Зачем за мной ходишь по пятам? Зачем в дом ко мне ломился? Зачем лазил на мое окно? Зачем дружков подсылал?
Старик спрашивает сердито, а Муравьев хочет все ему объяснить по порядку. Если человека не дергать, а объяснить ему все толково и спокойно, человек перестанет сердиться и возмущаться.
Муравьев хочет все объяснить толково, а произносит вот что:
– Никого я не подсылал, они пошли сами. Разве я могу их послать, они меня и не послушают. А тут вы написали четыре письма про планшет. Ну, я вас и нашел, случайно, конечно. Одна кассирша из булочной сто лет здесь работает и всех в нашем районе знает. Ну, я и стал за вами ходить. И хотел по-хорошему – взять планшет и уйти. А вы кричите на всю улицу.
И тут старик взрывается.
– Что значит – взять и уйти?! Чужую вещь! Знаешь, как это называется?
Он остановился недалеко от своего дома, размахивает руками.
– Да вы бы сами мне его отдали! Вы же сами письма написали! – стараясь его перекричать, вопит Муравьев. – Вас же никто не заставлял писать! Вы сами!
– Письма! Выдумка! Вранье! Кассирша из булочной! Сумасшедший дом!
Муравьев видит, что дело совсем плохо. Очень уж разъярился злой старик. Таким злым Муравьев его еще не видел. Надо уходить, ничего не поделаешь. И все-таки, будто кто-то тянет Муравьева за язык, он улавливает секунду, когда старик сделал короткую передышку, чтобы откашляться, и произносит:
– А планшет? Может, отдадите? Зачем он вам-то?
Тут со стариком начинает твориться что-то совсем неимоверное: он трясет кулаками, он топает ногами, он кидает на землю шляпу.
– Уходи сейчас же отсюда! Пока цел! И больше чтоб не видел тебя!
Мимо проходит старуха, останавливается, качает головой.
– Как не стыдно доводить старого человека до такого состояния? Совсем бездушная пошла молодежь. Это твой дедушка?
Муравьев понял, что надо уходить. Он махнул рукой и пошел. В эту минуту Муравьев решил, что никогда больше не пойдет к злому старику. Даже к этому домику близко не подойдет. Одни неприятности. А неприятностей у Муравьева и так хватает.
* * *
Утром тетя Дуся крикнула под дверью:
– Юра! Не проспи!
– Не сплю, тетя Дуся.
Через три часа ему надо быть на сборном пункте. Вот и он пойдет на войну. Только провожать никто не будет, так уж получилось.
На стуле приготовлен рюкзак, с которым ходил в походы. Мыльница, зубной порошок, карандаш, тетрадь. Он будет писать Лиле. Конечно, можно было взять тонкую тетрадку, ведь война скоро кончится. Но в его ящике, где еще лежали учебники, тетрадки, линейка, в ящике, который он так и не успел разобрать, все тонкие тетрадки были исписанные – по алгебре, по немецкому, сочинения по литературе. «Евгений Онегин – лишний человек». Нашлась толстая тетрадка в клеенчатой черной обложке. Ладно, пусть будет толстая. Он не знал, что и десяти толстых тетрадей не хватило бы ему, такая долгая предстояла война.
Еще есть немного времени, сейчас Юра поставит чайник. И вдруг он увидел на столе цветок в горшке, тот самый, Лилин цветок. Значит, сейчас Юра уедет, запрет дверь, бросит здесь Лилин цветок? Он не мог так поступить. Быстро встал, схватил мешок, взял осторожно цветок и вышел во двор.
– Валентина! Ты дома?
– Открыто, Юра!
В комнате на табуретке стояла керосинка, Валентина пекла оладьи. Пахло чадом. Бабка Михална сидела в углу и вязала серый длинный носок.
– С цветком пришел, кавалер.
– Юра! Цветок принес! – радостно улыбается Валентина. – Ой, сожгла! – Валентина погасила керосинку.

Юра говорит, стоя на пороге:
– Слушай внимательно, Валентина. Этот цветок я оставлю тебе на хранение. Сейчас я ухожу с вещами. Ты будешь поливать цветок, ухаживать за ним. Пожалуйста, береги его. Это очень важно: погибнет цветок, – значит, случится большая беда. – И про себя добавил: «С ней, с Лилей».
Валентина замахала руками:
– Выдумываешь! Как у тебя язык поворачивается! Цветы, которые поливают, тоже вянут. Это же цветок! Балда!
И тут же засуетилась:
– Ой, Юра! С вещами! Прямо сейчас? Садись, Юра, поешь оладьев.
– Будешь поливать или нет? Говори прямо, Валентина.
– Да буду, буду.
Он поставил горшок на окно, теплый ветер из форточки шевелил слабые листья. Какие-то они неяркие, бледные, эти листики.
Он допил чай.
– Как он хоть называется, этот цветок? Не знаешь, Валентина?
– Не знаю. А где ты его взял?
Любопытная она, Валентина. В детстве была любопытная и такой осталась.
* * *
Юра сразу узнал это место: маленькие трогательные домики под красными и зелеными крышами, выбитая ногами спортивная площадка. Столбы, на которые натягивали волейбольную сетку. Отполированный ладонями железный турник. Длинные столы под навесом – столовая. Дощатая трибуна – с нее старший вожатый говорил речи на линейке; пока он говорил, комары успевали искусать голые ноги.
Здесь был пионерский лагерь. Тот самый, рядом с деревней Пеньки. Тот самый, где пять лет назад Юра в первый раз увидел Лилю. Вот там, под соснами, она расхаживала в синем сарафанчике, двенадцатилетняя девочка с длинными ногами, длинными руками и сама длинная, гибкая, как ветка.
– Эй, курсант! Чего задумался? Первая рота строится уже!
Курсант. Их привезли сюда, чтобы учить на курсах лейтенантов. Они и сами толком не знали, сколько будут учиться. Кто говорил, три месяца, а кто говорил – четыре.
– Опаздываете в строй. Делаю вам замечание.
Юра становится в строй. Не спеши и не отставай, не выделяйся – где все, там и ты. Армия – не школа на горке, старшине Чемоданову, сурово смотрящему из-под насупленных бровей не скажешь: «Я больше не буду».
Их старая линейка продлена до самой столовой. Курсантов гораздо больше, чем было пионеров в лагере. И стоят они в строю, стриженные наголо, в одинаковой форме. От этого они похожи друг на друга. А раньше здесь сверкали голые коленки, разноцветные платья и рубашки, загорелые руки, румяные лица. И там, за зеленым забором, в котором Юра знал каждую оторванную доску, каждую дыру, в которую можно было выскользнуть, там, чуть ближе к лесу, жила на даче девочка с длинными светлыми волосами, легкими, как ковыль, который папа привез однажды из командировки. Она ходила купаться вниз по тропке. Она качалась в гамаке, собирала ромашки на опушке, плела венки и надевала на свою пушистую голову.
– Как ты койку заправляешь? Разве так койку заправляют? Последний раз показываю! Подушка должна быть взбита пузырем, одеяло натянуто барабаном. Понял?








