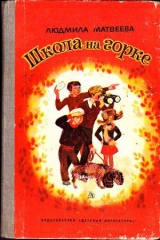
Текст книги "Школа на горке"
Автор книги: Людмила Матвеева
Жанр:
Детская проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 12 страниц)
Борис сразу узнал этот голос, обернулся – за ним стоял Муравьев. Он запыхался, видно, прибежал только что.
– А я его и не боюсь ни капли, – сказал Борис и отодвинулся немного поближе к Муравьеву.
– Ты все понял, Хлямин? – еще раз спросил серьезный Костя.
– Понял, пусти.
Костя отпустил, Хлямин быстро ушел. Тут зазвенел звонок, все стали расходиться по классам. Муравьев сказал Борису:
– Ты чего пришел? Подождешь меня?
– Смотри, что я принес. – У Бориса горело лицо, счастливые глаза сияли. – На, посмотри. – Борис протягивал Муравьеву сверток.
– Что там?
– Нет, ты разверни, разверни! – Борис подпрыгивал от нетерпения.
Они стояли вдвоем у окна, Муравьев положил сверток на подоконник, снял бумагу, на подоконник со звоном выскользнула длинная тяжелая пулеметная лента.
– Лента, – растерянно произнес Муравьев, от волнения у него вместо крика получился шепот. – Лента. Борис! Самая настоящая.
– Лента к пулемету системы «максим», – говорит Борис, стараясь сохранить солидность. – Вот сюда вставлялись патроны.
– Борис! Ну, это, знаешь... Где ты ее достал?
Муравьев перебирает пальцами ленту, гладит ее. Изъеденные ржавчиной гнезда для патронов, темно-бурый металл. Где побывала эта лента? Где люди, стрелявшие из пулемета «максим»?
– Муравьев! Звонок давно был! – Учительница литературы Вера Петровна стоит у двери класса, держит под мышкой журнал, сердито смотрит на Муравьева. – Неужели тебе требуется особое приглашение, Муравьев? Вечно ты, Муравьев!
– Иду, Вер Петровна! —Муравьев сказал это таким радостным голосом, что очки Веры Петровны от удивления чуть не поползли на лоб. – Борис, подожди меня, у нас последний урок, – сказал Муравьев, убегая в класс.
Борис остается в коридоре третьего этажа. Он теперь никого не боится, он спокойно заворачивает ленту в бумагу и ждет Муравьева. До чего же обрадовался Муравьев! А Борис доволен, кажется, еще больше...

* * *
Борис сидел на корточках, прислонившись спиной к стене, и терпеливо ждал, когда выйдет Муравьев. Время тянулось медленно, Борису надоело ждать, ему хотелось поскорее вместе с Муравьевым нести в исторический кабинет пулеметную ленту. Он представил себе, как все удивятся. Катаюмова скажет: «Ах, неужели это пулеметная лента? Как я восхищаюсь Муравьевым». А Борис и виду не подаст, что он имеет к этой ленте какое-то отношение. Муравьев обещал, Муравьев и принес. Потому что Муравьев такой человек – он зря не скажет. И Костя с большим уважением посмотрит на Муравьева и скажет: «Муравьев очень серьезный человек», а если уж Костя кого-нибудь назовет серьезным, значит, нет похвалы выше. И Валерка потрогает ленту и присвистнет, а потом скажет: «Ну ты, Муравьев, даешь». Да, Валерка, пожалуй, именно так и скажет, это в его характере. А самое главное – Варвара Герасимовна. Она увидит ленту, обрадуется и скажет: «Муравьев, я всегда верила в тебя. Теперь у нас, ребята, настоящий музей, в нем есть такой ценный экспонат – настоящая, совершенно подлинная пулеметная лента. А чья это заслуга? Ну конечно, Муравьева, лучшего нашего разведчика из группы «Поиск». Давайте все скажем ему спасибо и пожмем его мужественную руку». Вот что скажет Варвара Герасимовна. А может быть, учительница хоть чуть-чуть догадается, что и человек, который скромно помалкивает в сторонке, тоже имеет кое-какие заслуги в этом деле с лентой? Борису в глубине души, конечно, хочется, чтобы Варвара Герасимовна все-таки почувствовала, что это так. Но при этом Борис и виду не подаст – он промолчит с достоинством настоящего друга. Вся эта картина, которую Борис вообразил, чрезвычайно ему нравится, и он снова и снова представляет себе, как все будет.
Когда зазвенел звонок, Муравьев первым выскочил из своего пятого «А». Он в ту же минуту оказался около Бориса.
– Пошли, Борис.
– Держи, – Борис отдал Муравьеву ленту.
В кабинете истории была одна Варвара Герасимовна, она проверяла контрольные.
– Подождем, пока наши соберутся, – сказал Муравьев Борису и прикрыл дверь кабинета истории. Варвара Герасимовна их не заметила, она перелистывала тетради, помечала что-то на полях красной ручкой. – Они все придут, сегодня как раз четверг, – добавил Муравьев.
Борис сразу понял, что Муравьеву хочется отдать пулеметную ленту при всех, а не только одной учительнице.
Они отошли в сторону и стали ждать. Первой в кабинет истории прошла Катаюмова. Она увидела Муравьева с Борисом и сказала вредным голосом:
– А вы опять шепчетесь? У нас сегодня собирается группа «Поиск», вам что, нужно особое приглашение?
Муравьев не успел ничего ответить, Катаюмова уже закрыла за собой дверь. Костя с Валеркой шли следом, Костя сказал:
– Муравьев, пошли, чего вы там стоите в стороне?
Валерка подмигнул Борису. Борис заулыбался.
Муравьев сказал:
– Мы сейчас придем.
И вот они входят в кабинет истории. Все сидят на своих местах Катаюмова перед Варварой Герасимовной, Костя у карты Древней Руси, по которой скачут черные всадники. А Валерка, по привычке, на последней парте. Борис садится. А Муравьев продолжает стоять, лицо у него торжественное. Он держит газетный сверток так, что всем его видно, с любого места.
– Садись, Муравьев, что же ты стоишь? —спрашивает Варвара Герасимовна.
– Что у тебя в бумаге? – спрашивает Валерка.
– Мясорубка опять, – замечает Катаюмова.
Все смеются, и Борис думает:
«Смейтесь, смейтесь, скоро вы перестанете смеяться, раскроете рты от изумления и восторга».
– Это не мясорубка, – говорит Муравьев очень спокойно. – Это знаете что? Пулеметная лента. – И он разворачивает сверток.
Лента выскальзывает на стол, все вскакивают, подходят к столу, берут ленту в руки. Варвара Герасимовна тоже подходит, отложив контрольные. И тоже берет ленту, и она свисает тяжело, позванивает, качаясь на руке учительницы.
– Подумать только, – наконец произносит Катаюмова, – теперь у нас есть новый экспонат. А я была уверена, что Муравьев врет.
– Ну зачем так? – останавливает ее Варвара Герасимовна. – Муравьев обещал принести ленту, и в конце концов Муравьев принес ее. А ты несправедлива к Муравьеву.
– Теперь напишем табличку, – говорит Костя: – «Лента пулеметная». Да, Варвара Герасимовна?
– Конечно. И припишем, что ленту подарил музею Муравьев, ученик пятого класса.
– Ну, Муравьев, ты даешь! – в полном восторге произнес Валерка.
Борис сидел молча. И хотя каждый сказал не совсем то, что предполагал Борис, и никто не замер от восхищения, все равно ему было очень приятно. Потому что на столе лежала настоящая пулеметная лента. А около стола стоял и улыбался, хотя старался быть невозмутимым, его друг Муравьев.
И даже когда Катаюмова говорит: «Каждый может достать пулеметную ленту, подумаешь!», даже тогда Борис продолжает радоваться. Потому что никто не слушает ехидную Катаюмову, а все хвалят Муравьева.
– Где бы нам теперь планшет добыть? – говорит Костя, когда все вдоволь налюбовались прекрасной ржавой, самой настоящей пулеметной лентой. – Нам бы все-таки отыскать того, кто письма присылал. Вот тогда был бы «Поиск» как поиск.
– А мы найдем, мы уже почти нашли, – вдруг говорит Муравьев.
– Кто – мы? – спрашивает Варвара Герасимовна, и все замолкли, уставились на Муравьева.
– Как – кто? Я и Борис. Мы уже почти знаем, кто такой Г.З.В., – очень уверенно говорит Муравьев.
Борис ерзает на своем стуле. Что он такое несет, Муравьев?
Какого Г.З.В. они знают? Ничего похожего! Но Муравьев, на которого из-за радости с лентой нашло самое настоящее вдохновение, продолжает:
– Просто не люблю говорить раньше времени. Все расскажем потом.
– Когда – потом? – сердится Катаюмова. – Нечестно заводить отдельные тайны. Все хотят знать!
– Мало ли что хотят, – вдруг безжалостно смотрит на Катаюмову Муравьев. – Через неделю все узнаешь, Катаюмова.
– Через неделю? – Она встряхивает своей красивой головой. – А сам опять будешь целый год за нос водить?
Варвара Герасимовна говорит спокойно:
– У нас, я считаю, нет оснований не верить Муравьеву. – И она кивает на пулеметную ленту: – Борис, убери экспонат в шкаф, вон в тот, пожалуйста.
Борис берет ленту, кладет ее на полку, закрывает стеклянную дверцу. За стеклом лента выглядит еще лучше: она поблескивает таинственно, и ржавчина не так заметна.
* * *
Машина едет по полю, где совсем недавно шел бой. Развороченная воронками земля, подбитые танки. Можно ли привыкнуть к войне? Даже теперь, после трех лет фронта, Юра считает, что нельзя. Воюют, выполняя свой долг.
Грузовик тяжело переваливается на каждой рытвине, скрипит расшатанный кузов. Юра сидит в кабине рядом с шофером.
Когда машина наклоняется влево, Юра наваливается плечом на водителя. А он, голубоглазый, обветренный, очень молодой, говорит:
– Товарищ лейтенант, вы из Москвы? Из самой-самой Москвы?
– Да. А как ты догадался?
– А сам не знаю. По разговору, наверное. Я сам из Курской области.
Помолчали. Сосредоточенно смотрит парень на дорогу. Поехали лесом, машина подпрыгивает на корнях старых деревьев, выступающих из земли.
– У нас в Курской области река Сейм, не слыхали? Прозрачная река, вода в ней холодная, а по берегам клен растет, сосна красная. Моя деревня на высоком берегу, далеко видно. И летают над рекой стрекозы – голубые, зеленые. А в заливе цапли рыбу ловят.
Юра сам не знает, почему именно ему, этому совсем незнакомому парню из Курской области, стал он рассказывать про Лилю. Почему именно в тот день явилась острая потребность поделиться? Долго держал все в себе, а тут вдруг заговорил.
– В детстве увидел девочку и полюбил. Думаешь – детство, глупость? Нет, любовь в любом возрасте – большое чувство. И к кому когда она придет, никто не знает. Полюбил, потом долго не виделись, но не забыл ее, Лилю. А был мальчишкой, найти не сумел, не решился – так и жил, вспоминая. И вот встретил на улице. Взрослая, красивая. Я ее сразу узнал. А потом и она меня вспомнила.
Машина пошла медленно, еле-еле.
– Ты что так медленно едешь? Давай скорее, меня ждут в части.
– Рассказывайте, товарищ лейтенант, рассказывайте.
Водитель смотрит умоляюще, а машину ведет еще медленнее.
И Юра перестает настаивать. Он рассказывает про цветок, который зацвел малиновыми колокольчиками. Письма возвращаются с почтамта. Глупо, конечно, писать ей на почтамт – где почтамт, а где фронт. И она на фронте с первых месяцев войны. А на заколоченной двери надпись: «Здесь будет наша встреча».
– Ну, товарищ лейтенант, дальше-то что было?
Медленно ползет по лесной дороге машина, водитель даже шею вытянул в Юрину сторону, так внимательно слушает, ловит каждое слово.
– Да поезжай ты быстрее. В другой раз доскажу, что ты?
– А вдруг меня убьют? Или вас? Нет уж, рассказывайте сейчас.
И Юра вдруг понял, что его история – его надежда, его Лиля, его письма, – все это может быть важным не только для него. От его надежды идет, может быть, свет надежды, который вдруг оказался так нужен этому парню с реки Сейм, где летают синие и зеленые стрекозы, а вода прозрачная и холодная, потому что быстрая. А может быть, парень просто любит всякие истории? Или ждет, что все завершится счастливым концом?
Юра рассказывает, в его рассказе перемешалось два образа – девочка в синем сарафане, собирающая тихим летним вечером теплые шишки под соснами, и девушка, окончившая курсы связисток, бегущая к воинскому эшелону по темным путям вокзала.
«Юра! Я напишу! – Он слышит ее голос. – И ты напиши. Юра!»
Он пишет, а от нее за все годы ни одного письма.
– Вот и все, – говорит Юра. – Как раз сегодня три года, как расстались, двадцать седьмое июля.
Юра замолчал. Нет счастливого конца.
– Напишет, – очень уверенно говорит шофер, сдвигает пилотку на одну бровь, включает полный газ.
Машина рванулась вперед, как будто прыгнула. Но, проехав совсем немного, резко остановилась: на дороге стоял другой грузовик, водитель сидел на подножке своей машины, махнул им – «стойте».
Когда они остановились, пожилой шофер чужой машины сказал:
– Не ездите по этой дороге, там, впереди, взрыв только что был, прямо свету конец. На самой дороге снаряд рванулся, воронка такая, какой я за всю войну не видал.
Их машина поехала лесом, в объезд. Молчали. Потом водитель сказал:
– Товарищ лейтенант ваша Лиля нас спасла.
Юра удивленно посмотрел, не понял. Потом сообразил: если бы он не рассказывал о Лиле, они бы ехали на полной скорости и как раз оказались бы там, где разорвался снаряд. Лиля спасла.
Вечером он напишет ей: «Лиля, ты спасла меня. А себя? Где ты? Отзовись».
* * *
В блиндаже уютно горит свечка, горячий стеарин стекает в пустую консервную банку из-под американской тушенки. В углу на еловых лапах, укрывшись плащ-палаткой, спит капитан Киселев.
Раздается грохот, сыплется земля с потолка на письмо. Юра стряхивает с листка мусор и читает письмо. Днем принесли ему письмо, а прочесть было некогда.
– Гремит, – говорит Киселев, – гроза, наверное.
Юра понимает, что капитан говорит во сне. Бой гремит недалеко, а не гроза. Снится, наверное, капитану, мирная летняя гроза, лиловая туча, изрезанная голубыми молниями. До войны мама считала, что гроза – это опасно. И еще были разные опасности. Не промочи ноги, Юра. Не пей сырой воды, Юра. Смотри не вспотей, а то простудишься. И еще: не ешь немытое яблоко, может заболеть живот. Мирные, милые мамины страхи. Посмотрела бы она теперь на своего сына. Небритый – не успел перед боем. С красными глазами – две ночи без сна. С сединой, пробившейся так рано. С большими руками, в больших сапогах, широкоплечий человек.
А ему так бы хотелось увидеть сейчас маму! Он только здесь, на фронте, понял, что такое мама. Самый любящий тебя на всем свете человек – это мама. Смешные ее заботы, пустяковые тревоги, раздражавшие тебя страхи – все это была любовь к тебе. И постоянная о тебе забота. О тебе, а не о себе.
Отец написал ему недавно:
«Мы с тобой солдаты, нам достается война. А маме нашей всех труднее: ей достаются тревога, беспокойство, ожидание. Пиши чаще, сынок».
А сегодня Юра получил письмо от Варвары Герасимовны.
«Милый Юра! Все у меня хорошо, живу в своей комнате, сын мой Павлик чувствует себя лучше, почти здоров. Завод дал дров. Кто-то ходил на завод, хлопотал за нас, а кто, так и не знаю. Но благодарна всем сердцем.
Работаю в нашей школе. Знаешь, без школы жить не могу. Только вот школы теперь разделили на мужские и женские. Наша – женская...»
Юра представил себе: по дорожке вверх поднимаются к школе одни девочки. Странная картина. В классах одни девочки. На переменах в коридорах тихо, чинно – девочки прогуливаются парами. Хотя – какие девочки, а то, может быть, и бегают и шумят.
«Юра! Помнишь географа? Он ушел в ополчение нашего Ростокинского района, и скоро письма перестали приходить. Пропал без вести. Два года с лишним мы ничего не знали. Теперь выяснилось – попали они в окружение, их прятали колхозники. Но немцы нашли, угнали на работу в Германию. На этом след пока теряется».
Вспомнился географ. Лысина сияет. Скрипучий голос, въедливый взгляд. Он был глубоко убежден, что каждый обязан знать про Дарданеллы, про Канин Нос. Ну никак не прожить человеку без Канина Носа. Чудак. А может быть, и правда не прожить? Кто знает так уж точно, без чего можно прожить, а без чего нельзя?
Теперь этот человек, которого Юра не может вспомнить без указки, пропал без вести. Невозможно вообразить, как учитель держит в руках оружие. Как шагает в строю. Он всегда немного сутулился. Ходил как-то боком, сам себе наступал на ноги.
Теперь Юре кажется, что географ был его любимым учителем. Планер достал для школы. Учил ребят летать. Не вспоминается, как терзал его географ своими контурными картами. А вспоминается серый планер в небе, острые крылья в синем небе. Зеленая горка, школа блестит окнами. А планер кружит, парит над всем.
* * *
Когда Борис и Муравьев оказались одни на улице, Борис хотел спросить: «Зачем ты, Муравьев, опять наобещал всем то, чего мы сделать не можем? Не успели кончить эту историю с лентой, а ты опять». Все это Борис хотел произнести, когда они будут с Муравьевым одни. Но он посмотрел на обескураженное, виноватое лицо Муравьева и ничего не сказал. Конечно, Муравьев старше Бориса и вообще очень умный. Но сегодня он сделал глупость: бухнул ребятам и Варваре Герасимовне про Г.З.В., и что теперь делать, совсем неизвестно. Где его искать, этого Г.З.В.? Зачем он написал всем письма? Чего он хотел? Чтобы его искали? Но его ищут и не могут найти уже почти полгода.
– Сам не знаю, как получилось, – вздохнув, бормочет Муравьев. – У меня всегда так – из меня обещание вылетает, а потом только я успеваю подумать: что это я такое пообещал?
Муравьев расстраивается, ругает себя, и Борису, как всегда в таких случаях, становится жалко Муравьева.
– Ладно, ты не переживай. Может, мы его и найдем. Не на Луне же он, правда? Где-нибудь есть этот Г.З.В. А мыто с тобой как возьмемся, так и отыщем.
Они идут мимо бульвара. Снег совсем растаял, по черному сырому асфальту, которым залита аллея, прогуливаются люди с собаками. Звонкими голосами кричат маленькие дети.
Борис и Муравьев садятся на скамейку, и Муравьев говорит:
– Теперь, Борис, ты расскажи все-таки, где ты раздобыл пулеметную ленту. Это же совершенно невероятное дело – достать самую настоящую ленту. А ты достал.
– Ничего особенного, – отвечает Борис. Ему так хорошо оттого, что Муравьев сказал именно эти слова! И он некоторое время сидит молча рядом с Муравьевым, а потом рассказывает о том, как они с Анютой ходили к той женщине из общества «Знание», как все ей объяснили про музей, как женщина отдала им ленту.
– Это знаешь, Муравьев, кто все придумал?
– Кто?
– Не знаешь. Анюта, вот кто.
– Ну да! Та маленькая девчонка?
– Какая же маленькая? Она уже в первом классе учится.
Проходят мимо скамейки разные люди, одни спешат, другие прогуливаются. Одни с собаками, другие сами по себе.
И вдруг недалеко от скамейки раздается мужской голос:
– Сильва! Ко мне! Иди рядом!
Борис и Муравьев одновременно вздрагивают. По дорожке чинно шагает Сильва, золотистые уши мотаются в такт шагам. Кудрявый короткий хвост довольно виляет. А рядом с собакой идет совершенно незнакомый пожилой человек. Синий тренировочный костюм с белой полоской на воротнике и белыми лампасами на брюках. В руке – снятый с Сильвы поводок, блестит на закате лысая круглая голова.
– Сильва! Ты будешь слушаться? А то пойдем домой!
Собака послушно пошла рядом с его ногой.
– Он, – прошептал Муравьев. – Анютин сосед приехал.
– Ага, приехал. Собаку отнял.
Борис сразу подумал, что Анюте, наверное, было грустно отдавать Сильву хозяину. Но Анюта, наверное, даже виду не подала – вернула, и все. Такой уж она самолюбивый и гордый человек – Анюта.
– Давай подойдем к нему, – говорит Муравьев.
– Не знаю даже, – нерешительно мнется Борис. – Что мы ему скажем-то?
– Скажем, что у нас музей. Скажем, что нам нужны экспонаты. Давай подойдем, ну чего ты?
Муравьев уже встал и переминается от нетерпения с ноги на ногу. Борис тоже поднимается со скамейки. Они догоняют лысого хозяина Сильвы.
– Скажите, пожалуйста, вы уже вернулись? – Это Муравьев, не зная, как начать, задал первый вопрос.
– Да, представьте себе, – отвечает человек, нисколько не удивляясь, что они к нему пристали с вопросами. – Впрочем, это вы могли заметить.
– Ну да, мы заметили. Смотрим – Сильва идет и ведет вас. То есть наоборот, вы ведете Сильву, конечно.
Старик стоял перед ними, Сильва скромно сидела у его ноги. Старик смотрел иронически на Муравьева, на Бориса и опять на Муравьева.
– Ну, что же вы, друзья, хотите мне сказать? Я весь внимание.
Муравьев хотел все объяснить спокойно и толково. А получилось немного бестолково;
– Понимаете, у нас музей и группа «Поиск», чтобы искать. Там есть котелок и фотография и еще письмо, только буквы стерлись почти совсем. Но это не мы нашли, а совсем другие люди. А мы нашли – пока только пулеметную ленту, очень хорошую, самую подлинную и настоящую. Но – всего одну ленту. А тут как раз вас встретили.
Старый человек опустился на скамейку и задумался о чем-то. Муравьев и Борис стояли рядом и ждали. Нетерпеливому Муравьеву стало казаться, что человек вообще забыл об их существовании, так долго он молчал и думал. И Борису тоже стало неловко: что же они тут стоят, если он не хочет с ними разговаривать?
Но вдруг Сильва потянула хозяина за брюки с лампасами, он поднял голову и сказал:
– Жаль, что ты не умеешь ничего объяснить толком, путаешь, сбиваешься, совсем заморочил мне голову. Должен сказать честно: такой недостаток в людях я переношу с трудом. Я ценю стройность, логику, порядок.
Муравьев виновато вздыхал. Но что он может поделать, если иногда, в ответственные минуты, слова вылетают у него не по очереди, а как придется, толкая друг друга, и, как всегда, когда лезут без очереди, создавалась сутолока и бестолковщина.
Борис выступил вперед.
Он сказал:
– Это Муравьев.
Борис хотел объяснить свою мысль: «Это Муравьев, человек необыкновенный, почти выдающийся. И поэтому к нему надо быть снисходительным. Да, он иногда говорит так, что не поймешь. Но не это же главное в Муравьеве! Если присмотреться к Муравьеву, получше узнать Муравьева, понять Муравьева, то окажется, что этот недостаток вовсе не такой уж недостаток, а вообще пустяк. Потому что все остальные качества Муравьева настолько прекрасны и высоки, что не приходится обращать внимания на всякие мелочи». Вот такая сложная мысль была в голове у Бориса. Но выразить ее словами он не сумел. И поэтому повторил еще раз, погромче:
– Это Муравьев!
– Как Муравьев! – вдруг закричал сосед. – Неужели Муравьев?
Он вдруг страшно разволновался, схватил Муравьева за плечи, стал вертеть его, поворачивать лицом к свету, рассматривать и восклицать то радостно: «Муравьев!», то недоверчиво: «Муравьев?», то восторженно: «Муравьев!!»
А почему он так делал, Борис не понимал, и Муравьев не понимал. А сосед ничего не объяснял, а только все радовался и удивлялся, как будто произошло какое-то невероятное событие.
– Нет, вы только подумайте – Муравьев! Ну конечно же, Муравьев! И как я сразу не догадался, что это Муравьев!
Сильва обежала круг по газону и снова остановилась около хозяина, а он все продолжал кричать, всплескивал руками, тряс своей круглой большой, совершенно голой головой.
Потом он немного успокоился, но объяснять все равно ничего не стал, а нагнулся, прицепил поводок к Сильвиному ошейнику и сказал:
– Сейчас мы пойдем ко мне, это совсем близко. Нам надо поговорить. Думаю, что и для музея, о котором ты, Муравьев, так красочно рассказывал, кое-что найдется.
Так они и шли по бульвару – впереди Сильва, туго натянув поводок, за ней сосед, еле поспевая и отдуваясь, а за ними рысью Муравьев и Борис.
* * *
Когда Юра повел бойцов в атаку, размышлять было некогда. Враг был рядом, его надо было смести, выгнать с этой высотки, покрытой молодой светлой травкой и желтыми зайчиками мать-и-мачехи.
– За мной! – закричал старший лейтенант самым громким голосом. Когда-то, в далекие-далекие времена, он кричал так, когда играли в войну, и за ним неслись по длинному двору Перс, Леонидка, Валентина, которую тянуло в мальчишечьи игры. – За мной!
Он ринулся вперед, не оборачиваясь, он знал, что солдаты бегут следом, не отставая. И каждый из них был частью одного порыва и одного азартного желания – победить.
Пуля пробила грудь, но Юра не заметил. Просто что-то толкнуло, но враг был уже совсем рядом, и старший лейтенант продолжал бежать вперед. Земля была сырой и скользкой.
– Вперед!
Он слышал за спиной топот ног, дыхание. Атака не длится долго, атака – это рывок. Вперед!
Вдруг поскользнулся, упал. Такая досада! Перед самым подножием высоты. Хотел подняться – не смог. Стал сразу неловким, бессильным. На груди промокла шинель. Неужели упал в лужу? Мазнул ладонью – кровь. Только тогда и понял – ранен. Бойцы неслись вперед.
– Ребята! Командира ранило!
Кто-то склонился над ним, а он не узнал – кто. И не помнил, где он. Казалось, летит по своему двору, а пальто накинуто на плечи и застегнуто на одну верхнюю пуговицу, чтобы развевалось на бегу, как бурка. Вперед! За мной! В атаку!
И топают ноги по весенней земле, бегут солдаты. Атака – это рывок без раздумий, нельзя медлить. Вперед!
– Вперед! – кричит Юра.
Кажется ему, что он кричит, а сам даже не прошептал – подумал только.
Очнулся в медсанбате. Брезентовая стенка палатки, носилки, стонут раненые. А где-то недалеко, за стенкой палатки, девушка поет: «Темная ночь, только пули свистят по степи, только ветер гудит в проводах, тускло звезды мерцают». Играет баян. Рядом с Юрой на носилках пожилой солдат повернулся на бок, охнул от боли и сказал:
– Концерт. Артисты приехали.
Значит, это не сестричка поет, артисты приехали...
Маленькая медсестра с мелкими кудряшками из-под пилотки склоняется над ним:
– Потерпи, миленький. Попей. Сейчас доктор придет.
Белые кудряшки выбились из-под пилотки, светлые глаза, прозрачные, прохладные.
– Лиля! Лиля, я знал, что ты найдешься. Я знал, что ты жива. Цветы не завяли тогда, поняла?
Она молчит, прозрачные глаза смотрят прямо на него. Грудь болит, но так хорошо лежать, не двигаться, смотреть в эти глаза. Он не слышит, как она говорит:
– Я не Лиля, миленький. Меня Ниной зовут, миленький. Подожди, сейчас доктор придет.
«И поэтому знаю, со мной ничего не случится», – поет ясный легкий голос.
– Большая потеря крови, – сказал уверенный голос рядом с Юрой, – в госпиталь отправляйте.
Юра пришел в себя и увидел над головой белый потолок. Повернул голову – розовая стена, окно, повернул в другую сторону – кровать, белая подушка, серое одеяло. Человек смотрит на Юру, улыбается.
– Неужели в тыл отправили? – пробормотал Юра.
Человек смеется:
– Слышите, что он сказал? «Неужели, говорит, в тыл отправили?» Слушай, старший лейтенант, важное сообщение. Нет больше тыла, и фронта тоже нет. Вчера кончилась война! Победа, старший лейтенант!
Кончилась война! Юра попытался подняться, зашумело в ушах, позеленело в глазах, лег опять. Кончилась война. Осознать это было трудно. Когда его ранили, бои шли на территории Германии, и было ясно, что скоро конец. Его ждали, конца войны. Ждали четыре года. А пришел он внезапно, весной сорок пятого. И понять, что войны нет, было трудно.
– Что ты! – говорил усатый. – Ребята в воздух палили из автоматов. Чуть окна не повылетали в нашем госпитале. Да ты успокойся, побледнел сильно. Теперь чего бледнеть? Теперь – все! Кто живой, тот живой!
Из угла палаты сказал молодой голос:
– Это вы хорошо сказали: кто живой, тот живой. У меня мама военврач, я так беспокоюсь.
– Все! Теперь беспокойства кончились. Вернемся домой, будет мир. Это понимать надо – мир будет на всей земле!
Юра лежал, шумела палата. Ему казалось, что усатый, который так радуется, очень хороший человек.
Вошла сестра – белый халат с маленьким красным крестиком, вышитым на кармане у груди.
– Почему шумите, седьмая палата? Плохо кому-нибудь?
– Все прекрасно, сестричка! Старший лейтенант очнулся! Победу проспал!
Она, постукивая каблуками, подходит к Юриной кровати. Светлые брови, бледные щеки.
– С победой, товарищ старший лейтенант. Как вы себя чувствуете?
– Хорошо, сестра, спасибо. И вас с победой, сестра. Поверить не могу – войне конец.
Она улыбается:
– А вам как раз вчера, в самый День Победы, письмо принесли, товарищ старший лейтенант.
Что она сказала? Письмо? Она сказала, что ему принесли письмо. Неужели письмо? Разве бывает на свете такое счастье?
– Где письмо?
– У меня в ящике, там, в коридоре. Я принесу.
И она медленно, очень медленно, как кажется Юре, идет к двери. Стучат каблуки. По пути она поправляет кому-то подушку. У двери останавливается, оборачивается и говорит:
– Оно пришло к вам в часть, а нам переслали. Я принесла, а вы без сознания. Я спрятала и жду. Думаю: придет же он когда-нибудь в себя, правда же? Наш хирург – лучший на весь фронт. Вот вы и очнулись. Полагается вообще-то плясать, когда письмо. Но вам прощается.
Она еще долго что-то весело говорит. Откуда ей знать, что он сейчас испытывает. Сколько лет он ждет этого письма. Как оно для него важно, это письмо. А сестричка щебечет.
Юру начинает бить дрожь, жуткая слабость сковывает руки, ноги, плечи. А если бы не слабость, встал бы, побежал сам за этим письмом. Письмо. Поверить трудно и не верить нельзя. Вместе с победой пришло оно – ничто на свете не случайно. Он ни секунды не сомневается – конечно, это письмо от нее, от Лили. Мало ли, почему она не писала раньше. Могла быть заброшена в тыл врага – она же связистка. Сколько раз за эти годы он представлял себе лес, партизанские землянки, в одной сидит Лиля с наушниками, пищит рация, идут сигналы через фронт. А письма через фронт идти не могут. А еще он сто раз представлял себе, как она ранена, контужена, попала в плен. А о самом худшем он старался не думать.
– Сейчас принесу, – наконец говорит сестра и продолжает стоять, кокетливо улыбается усатому, а сама все стоит у порога.
– Спляшет, спляшет, – говорит усатый, – вот поправится немного. Неси, сестричка, письмо. Видишь, терпение у него кончается.
– Иду, иду. А почерк красивый, аккуратный, сразу видно – женский. – Сестра игриво грозит пальчиком.
Потом она выходит в коридор, цокают, удаляясь, ее шаги.
* * *
В комнате, куда они вошли, пахнет краской.
– Ремонт недавно делали, перед самым моим отъездом. Никак не выветрится. – Сосед распахивает окно, с улицы сразу доносятся голоса мальчишек, удары по мячу: где-то близко играют в футбол.
– Садитесь.
Они усаживаются рядом на диван, а он – напротив.
Некоторое время они сидят молча. Потом сосед говорит:
– Как же я сразу не догадался, что ты Муравьев? Мог бы и догадаться. Старею. А твоя как фамилия?
Борис говорит фамилию. Вообще-то странный какой-то человек.
– Нет, тебя не знаю. А тебя знаю прекрасно. Потому что ты Муравьев.
– Откуда вы меня знаете-то? – спрашивает Муравьев настороженно. Он и сам уже не рад, что ввязался в эту историю.
– Как – откуда? Как это – откуда? Знаю очень даже хорошо. И характер твой представляю себе неплохо. Терпения у тебя маловато. Верно? Ну, верно или нет?
Он спрашивает так весело и настойчиво, как будто покажет сейчас какой-то занятный фокус.
– Верно. Терпения мало, это все говорят.
– Вот видишь! А еще ты вечно попадаешь в разные истории, и тебе часто влетает в школе. Так или нет?
Борис вспоминает, как Регина Геннадьевна требует, чтобы Муравьев привел деда, и Муравьев тоже вспоминает об этом. Он кивает и признается:
– Бывает. А кто вам сказал? Откуда вы узнали?
Муравьев очень хочет догадаться. Может быть, Борис рассказал о нем Анюте, а маленькая Анюта – своему соседу? Муравьев смотрит на Бориса, но у Бориса такой обалдевший вид от всех этих загадок, что Муравьев сразу отбрасывает это предположение. Борис ни при чем, он сейчас и сам сбит с толку не меньше, чем Муравьев.








