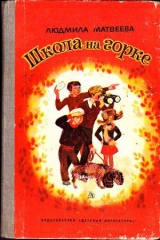
Текст книги "Школа на горке"
Автор книги: Людмила Матвеева
Жанр:
Детская проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 12 страниц)
– Что, озадачены? – смеется сосед. Его небольшие глаза блестят от радости, а чему он рад, пока непонятно.
– Вы гипнотизер! – догадывается Борис. – Я по телевизору видел, они умеют все на расстоянии угадывать.
– Нет, я не гипнотизер, – смеется сосед, – и не телепат, и не маг, и не фокусник. Я знаете кто? Я учитель, старый учитель, мне семьдесят два скоро. И вашего брата умею видеть насквозь. Не так уж это сложно. А тут с Муравьевым еще одно обстоятельство есть, тоже, в общем, важное.
– Какое обстоятельство? – спрашивает Муравьев.
– Какое обстоятельство? – спрашивает и Борис.
Учитель молчит, смотрит на них весело, наслаждаясь откровенно их нетерпением. У Бориса, он чувствует это, от нетерпения и любопытства зачесались ладони.
– Видите ли, если все рассказывать, надо долго рассказывать, – говорит учитель очень знакомую фразу, которую иногда говорит Муравьев, Борис слышал это высказывание не раз. Но от Муравьева! Откуда это может знать старый учитель? А учитель, переждав еще немного, добавляет: – А так нечего и рассказывать.
Борис вытаращил глаза:
– Как вы сказали? Если рассказывать, надо долго рассказывать. Да? Так вы сказали? А так нечего и рассказывать? Слышишь, Муравьев?
Муравьев отвечает еле слышно, от волнения, от впечатлений сегодняшнего дня он растерялся.
– Слышу. Если рассказывать, надо долго рассказывать. Да, это очень интересно...
– Итак, на сегодня разговор закончим, – говорит учитель.
Они поднимаются. В комнату влетает Сильва с тапкой в зубах. Она треплет тапку, успевает облизать руки Борису, брюки Муравьева немного пожевать и снова умчаться под стол.
– Сильва, будь добра, пойди на место, – вежливо и твердо произносит учитель.
И вдруг Борис замечает одну вещь, от которой его сразу бросает в жар, потом в озноб и снова в жар. На шкафу, под самым потолком, стоит большой, величиной с самый крупный арбуз, глобус. Он на черной лакированной ножке. Борису кажется, что глобус медленно и плавно вращается, плывут перед глазами Индийский океан, Африка, Австралия.
– Глобус! – произносит Борис.
И Муравьев тоже говорит:
– Глобус.
А учитель в этот момент говорит самую непонятную фразу из всех сказанных за этот невероятный день. Он говорит:
– Ну, это кому глобус, а кому Михаил Андреевич. Будем знакомы, мои дорогие.
Потом они прощаются и уходят. Радостный лай Сильвы провожает их из-за захлопнутой двери.
– «Кому глобус, а кому Михаил Андреевич», – тупо повторяет Муравьев. – «Кому глобус, а кому Михаил Андреевич». Подожди, Борис, Борис, подожди. Что-то начинает проясняться.
– Да, он сказал: «Кому глобус, а кому Михаил Андреевич». Ты что-нибудь понял, да, Муравьев?
– Погоди, погоди. А какие слова были сказаны тогда под окном? Помнишь, ты стоял и ел печенье и слышал.
– Сейчас я вспомню! – Борис минуту шевелит губами, повторяет что-то про себя, потом произносит:
– «Главное – чтобы никто не узнал о глобусе. Но я верю, ты умеешь хранить тайну».
– «Чтобы никто не узнал о глобусе». А мы узнали – вот он, глобус, стоит на шкафу. Так? Муравьев все равно узнает. Все до конца. Только мне интересно, и даже очень, кто был там под окном. Голос-то был какой – мужской? Женский? Детский?
– Сиплый. Я потому и не понял. А теперь-то ты разберешься, правда, Муравьев?
На лестнице послышались шаги, сверху спускалась Анюта.
– Анюта! – обрадовался Борис. – Здравствуй, Анюта.
– Меня мама заставила тепло одеться, а от этого руки не поворачиваются.
Анюта снимает шапку, толстый шарф, куртку и запихивает все это по очереди за батарею. А сама остается в свитере и брюках.
– На теннис иду. А вы опять кого-нибудь ищете?
– Беги на свой теннис, опоздаешь, – сказал Муравьев.
– Уже почти нашли, – ответил Анюте Борис.
– А ну вас, какие-то вы очень секретные. Ничего не поймешь у вас.
Она побежала по лестнице вниз быстро-быстро. Снизу раздался ее голос:
– Ищут, ищут, не найдут – носом в лужу попадут.
Дверь подъезда хлопнула.
– Какая вредная девчонка! – сказал Муравьев.
– Она не вредная, она веселая, – ответил Борис.
– Пошли, Борис, по домам. Я должен как следует все обдумать. И давай пока никому ничего не скажем. Договорились?
* * *
Юра держит письмо. Он очень долго держит его в руке и молчит. В палате очень тихо.
Как только он взял в руки конверт, он сразу понял, что письмо не от Лили. Холодная тоска навалилась на него еще до того, как он прочел фиолетовые строчки. Обычный листок из блокнота с мелкими зубчиками по краям. А в нем судьба.
«Здравствуйте, Юра! Вы меня не знаете, но я решила вам написать, потому что в кармане Лилиной гимнастерки был ваш адрес. Значит, она хотела, чтобы вы знали о ней. Лиля погибла в самом начале войны, в июле сорок первого года. Ее забросили в тыл к немцам вместе с десантниками. Мы, ее родные, долго не знали о ее гибели. Тяжело писать, и потому кончаю письмо. Двоюродная сестра Клава».
Лиля погибла. Лиля погибла. Давно, четыре года назад. Он любил ее, а ее уже не было в живых. Он писал ей письма, а они уходили в пустоту. Может ли это быть? Лиля – и вдруг погибла. Значит, никогда – никогда, самое безнадежное слово из всех слов, – он не увидит ее. А как же цветок, его живые красные колокольчики? А надпись: «Здесь будет наша встреча»? Как же это так? Этого не может быть. Ошибка, бывают же такие ошибки! Он много раз слышал про ошибки: думали, что человек убит, а он жив, вернулся, в орденах и даже не ранен. Бывают ошибки. Так хочется надеяться на это. Но в сердце пустота, нет надежды. Он знает, чувствует, что это не ошибка.
Письмо написала Клава, двоюродная сестра Лили.
Две девочки под красными соснами. Закат над речкой, вода бежит внизу, журчит у черной коряги. Вода не светлая, как всегда, а малиновая, на закате. Светлые волосы девочки падают ей на лицо, она поднимает тонкую руку, отводит волосы, смотрит, как садится солнце за темный лес. Надо собрать шишки для самовара. «Мальчик, помоги нам, пожалуйста». Синий сарафанчик. Защитная гимнастерка. Наушники. Упала – и светлые волосы смешались с высокой июльской травой.
– Лейтенант, выпей воды... А я говорю, выпей. – Рядом с его кроватью сестра. – Как же я тебе письмо-то отдала, не подумала? Ты же слабый совсем еще. Я думала – радость. Не спорь, пей.
Зубы стучат о край стакана. Лежит на одеяле письмо, листочек из блокнота.
* * *
Юра приехал в Москву осенью.
Мама и папа встречали его на вокзале. Мама показалась Юре совсем маленькой. Отец поседел, на пиджаке медаль «За оборону Севастополя».
– Вырос, – сказал отец.
– Похудел, – озабоченно сказала мама.
Комната совсем такая же. Это странно. Все на свете теперь другое – сам Юра другой, все вокруг изменилось на целую войну. А здесь ярко блестит пианино, старенький диван слегка продавлен, и от этого он еще уютнее. Кровать под белым покрывалом. Занавеска на окне колышется от ветра. И желтые листья звездами лежат за окном – на скамейке, на земле.
Тетя Дуся входит к ним без стука:
– Юра! Приехал! Живой, слава богу. Орден! Ну надо же – молчали. Орден Красной Звезды у Юры, а я его вот таким помню. – Она показывает совсем немного от пола. – Вот такусеньким.
Тетя Дуся подвигает себе стул, садится.
– Перса убили, слыхал?
– Да, мне Валентина писала, тетя Дуся.
– Ах, Валентина. Хорошая девка выросла, красивая. А бабка Михална померла прошлой зимой, сын ее так и не приехал. Где его мотает, окаянного?
Мама накрывает на стол, папа режет хлеб. Так было всегда – папа режет хлеб, мама расставляет тарелки, кладет приборы, приносит из буфета солонку, красную масленку, похожую на помидор. И на крышке – зеленая ручка в виде хвостика. Вот, оказывается, по чему можно соскучиться – занавески, масленка, желтый клен за окном.
Мама не спускает глаз с Юры и льет молоко мимо чашки, на синюю скатерть.
Какое у мамы лицо – счастливое, светлое и грустное. Почему грустит мама? Потому, что была страшная война. И потому, что сын стал взрослым. И потому, что так много сил ушло на ожидание. И еще потому, что она чувствует без слов и объяснений, что сын пережил горе. Матерям не надо объяснять все словами.
– Пообедайте с нами, – говорит папа тете Дусе.
– Сыта. Пойду во двор, похвалюсь перед соседками. Юра приехал с орденом!
И Юра вдруг чувствует, что тетя Дуся не просто соседка по квартире, а близкий человек, почти родня.
И тут к стеклу приплюснулся нос.
– Валентина!
* * *
Борис остановился посреди двора и стоит, смотрит по сторонам. Это не его двор, но сейчас в Москве почти все дворы проходные, а значит, общие. И нет ничего особенного, что человек захотел постоять во дворе, через который проходил его путь из школы к дому. Мало ли, почему он стоит, этот человек. Может быть, он устал все время идти и решил отдохнуть?
Борис стоит и смотрит вокруг. У самой стены белого дома, в котором живет Анюта, пробилась острая низенькая трава. И листья на тополе распустились, они пахнут клеем и весной.
Вот через двор идут Лена с бабушкой. Лена, как обычно, держит бабушку под руку, они шагают медленно, степенно, о чем-то негромко разговаривают.
– Борис! Ты что тут стоишь? – спрашивает Лена, проходя со своей бабушкой мимо Бориса.
Он отворачивается и не отвечает.
– Невоспитанный мальчик, – говорит бабушка. – Скажу учительнице, чтобы в будущем году не сажала тебя с ним. Разве мало в классе хороших детей?
– Меня посадила Галина Николаевна на него влиять. Боюсь, и во втором классе придется влиять.
Они прошли, а Борис сказал сам себе:
– Я и сам с тобой не сяду.
Пробежала по двору рыжая собака.
Борис радостно метнулся к ней:
– Сильва!
Но это была другая собака, незнакомая. Она залаяла на Бориса, как на чужого.
Из-за угла появилась Анюта.
Анюта кинула портфель на землю, села на него и подперла кулаками щеки.
– Я тебя давно не видел, Анюта.
– Я тебя тоже давно не видела. Что ж тут такого?
– Нашли вы того человека? Ну, который письма прислал.
– Нет еще. Но скоро найдем.
– Откуда ты знаешь, что скоро?
– Так мне кажется. И Муравьев сказал, а я Муравьеву верю. Фантазия – это не вранье. Понимаешь?
– Понимаю. А у него фантазия? У Муравьева?
– Немного совсем. А другие думают, что он врет. Он никогда не врет, Муравьев.
– А наш сосед сказал, что ты и Муравьев замечательные личности. Почему он так сказал, я не поняла.
– Сосед? Не знаю, почему он так сказал. Но вообще-то он разбирается.
Она еще немного посидела на своем портфеле. Борис стоял рядом и смотрел на Анюту. Глаза у нее карие, яркие, Щеки вымазаны мороженым, а сквозь мороженое пробивается румянец. Такая замечательная Анюта, что Борис стоял бы около нее и смотрел хоть сто лет.
– Пойду. Мне с Сильвой гулять. Мы ее выводим по очереди: сосед утром, я днем, а вечером опять он, потому что поздно меня мама не пускает.
– А можно я вас с Сильвой подожду? И вместе с вами погуляю?
Борис ждет, что она скажет. Анюта смотрит на него молча некоторое время, потом говорит почти величественно, как королева:
– Ладно.
Они носились вместе с Сильвой по всем дворам, по бульвару.
Это был очень счастливый день.
Муравьев сидит на кухне и ест сосиски с зеленым горошком. Он специально сегодня сварил сосиски и разогрел горошек, потому что это любимая еда деда. А дед что-то задумчивый ходит в последнее время. И тренировку по теннису в четверг пропустил.
Сегодня дед поел совсем мало, отодвинул тарелку и ушел из кухни.
– Дед, вкусно?
– Очень.
– Дед, сыграем в шахматы?
– Не могу. В школу приглашен. Был бы ты человеком, не вызывали бы, сидели бы сейчас мы с тобой в теплой дружественной обстановке, играли бы в шахматы. Я вот все десять классов кончил, ни разу ни родителей, ни тем более деда в школу не вызывали.
– То было когда? Совсем другое время, – отвечает Муравьев, домывая тарелки.
На душе у Муравьева скребут кошки. Он вообще считает, что семья и школа должны быть по отдельности. Нельзя смешивать одно с другим. Потому что в школе человек один, а дома другой. И совершенно не обязательно, чтобы его семья знала, как там в школе у него. Только нервы сами себе портят эти взрослые. Муравьев был спокоен, пока был сломан телефон. Но не уследил, и дед пригласил монтера, пока Муравьев был в школе. И тут же Регина Геннадьевна дозвонилась деду. Тоже, между прочим, нехорошо так делать. Зачем было звонить? Неужели нельзя было отвлечься, забыть, заняться чем-нибудь другим? Разве мало дел у директора школы? Регина Геннадьевна сама однажды сказала:
«У меня миллион дел, а ты, Муравьев, заставляешь тратить на тебя нервные клетки каждый день». – А он совсем не заставляет. А теперь дело совсем плохо. Сейчас дед пойдет, ему Регина Геннадьевна все расскажет. И про аквариум, где жили эти, с ручками. И про воздушного змея, которого он запустил вчера на перемене и гонял с ним долго, пока не прошел весь урок русского языка. Но змей-то запутался в дереве, не мог же Муравьев вот так взять и бросить его. Про все скажет директор, ничего не забудет. Муравьев, например, не любит, когда у людей такая уж хорошая память. Регина Геннадьевна помнит даже то, что Муравьев вытворял в четвертом классе и третьем. Он и сам-то давно про это забыл. А она помнит. Как котенка на урок принес. А ведь его, котеночка, не с кем было оставить. Он один дома скучал и плакал. Нет, школа есть школа, не приноси. Первого сентября Муравьев забрался на кирпичную стену. Верно, забрался, он не отказывается. Но почему забрался? Чтобы лучше видеть и слышать торжественную обстановку, в которой начинался учебный год. Он и посидел на этой кирпичной стене совсем недолго. Стоит ли об этом говорить? И давно это было – осенью, а теперь уж скоро весна...
Дед надевает праздничный пиджак, причесывает перед зеркалом в ванной свои седые волосы.
И вдруг дед говорит:
– Пошли.
Этого Муравьев никак не ожидал. Зачем ему-то идти? Он сегодня уже был в школе, целых пять уроков отсидел. Четверку за контрольную по математике подучил. Зачем опять идти?
– Мне-то зачем идти, дед? Я уже там был, во сколько – пять уроков целых.
– Как это – зачем? Что же, я там один краснеть должен? Нет уж, дорогой мой внук, пошли вместе.
Дед крепко держит внука за руку, они идут к школе.
Вот она, школа, стоит себе на горке. Темные окна блестят, а в кабинете директора на первом этаже горит свет.
Дед решительно стучит в дверь, и Муравьев понимает, что дед побаивается.
– Войдите! – громко говорит Регина Геннадьевна.
* * *
Юра и Варвара Герасимовна сидят в пустом классе.
Четыре года они не виделись.
– Варвара Герасимовна, как я рад вас видеть! Я так хотел прийти сюда, в школу. Знаете, там очень часто вспоминал школу. Свой дом и свою школу.
Учительница очень пристально смотрит на Юру. Сидит перед ней взрослый человек, совсем не похожий на того мальчика, который был ее учеником. И все-таки чем-то похожий. Не уходит от человека его детство, что бы ни произошло с ним в жизни, с этим человеком.
– Леночка вернулась из эвакуации. Севрюга погиб. Слышал?
– Да, Валентина сказала мне.
– Валентина хороший, верный человек. Сашенька на фронте замуж вышла.
– А вы как, Варвара Герасимовна? Как вы?
– А я тебе и рассказываю про себя. Разве ты не чувствуешь? Чем живу, о том и рассказываю. Я счастливый человек, Юра. Муж с фронта вернулся живой. Живой! Сын здоров. Ученики помнят.
– Правда, счастье. А что слышно о географе? Как он?
– Не знаешь?
Глаза у нее загораются, она рада, что пришел ее ученик, что помнит ее. Значит, он не бывший ученик, а все еще ученик. Она нужна ему, значит, она до сих пор его учительница.
– Михаил Андреевич оказался в Германии на военном заводе. Представь себе: идет война, наши солдаты сражаются на фронте, а там, на заводе, пленные должны делать снаряды и этими снарядами враги будут стрелять в наших. Вдумайся только, что это такое. Мирный, тихий наш географ. Подумать страшно. Он у станка, а над ним – конвоир с автоматом.
В дверь класса, где они сидят, просовывается голова с косичками:
– Варвара Герасимовна!.. Ой, здрасте, извините.
– Что, Марина?
Учительница смотрит на девочку, а Юра по ее взгляду видит, что Варвара Герасимовна любит эту Марину. И какое-то ревнивое чувство кольнуло его. Его школа и его учительница, постаревшая, поседевшая. Их столько связывает. А хозяйка здесь, в его школе, – маленькая Марина, которая и не знает его, и нет ей до него никакого дела.
– Варвара Герасимовна! Репетиция будет? Девочки спрашивают.
– Скажи, Марина, чтобы шли домой. Завтра порепетируем. И напомни Люсе, что я хочу видеть ее маму. Пожалуйста.
Марина убежала.
– «Гамлета» ставим с девчонками. Конечно, дикость, принц Гамлет – Ира Аракелян. А что делать в женской школе? Подбирает косы под большой берет и играет за милую душу. Накал страстей.
– Тихони они у вас, ни шума, ни скандала?
– Ну, это как сказать, – смеется она. – С ними тоже не скучно, с этими тихонями. И ссорятся, и с уроков бегают, и списывают, и подсказывают. Полный набор. Обычные девочки. Но честно скажу, без мальчишек школа – не школа. Все-таки вы были яркими личностями.
– Да уж.
– Перед самой войной Михаил Андреевич рассказал мне историю с контурной картой. Помнишь, Валентина тебе нарисовала?
– Разве она?
– А кто же? Конечно, она. Неужели ты не догадался? Она сделала в тот день две карты, себе и тебе.
– А он, значит, видел, Михаил Андреевич?
– Не знаю, видел или нет. Думаю, что просто догадался. По твоему лицу, по ее – это же не очень трудно, Юра. Лицо для хорошего учителя открыто. Даже и теперь вижу по твоему лицу многое.
– А что вы видите, Варвара Герасимовна?
– Ну, вижу, что ты пережил большое горе. Ты не говоришь, я не спрашиваю. Но вижу.
Юра тускнеет, в сердце опять просыпается боль, она щемит, давит. Именно в сердце.
– Расскажите дальше про Михаила Андреевича.
– Дальше? Слушай, Юра. Наш тихий, скромный географ создает там подпольную антифашистскую организацию. Становится одним из ее руководителей. Снаряды идут на фронт бракованные. Фашисты ищут и не могут найти виновных. И это продолжается до самой нашей победы. Годы этот человек ходит по краю пропасти. Его жизнь висит на волоске. И он не покоряется обстоятельствам. Он борется.
Юра пытается представить себе географа среди врагов. Мужественный, осторожный, неуловимый боец. Пытается увидеть его и не может. Все время видится ему лысый, смешной и строгий учитель, очень штатский человек.
– Знаешь, Юра, у него ведь нет семьи, он один всегда. Такой закоренелый холостяк.
– Теперь-то он где? В Москве?
– Скоро приедет. Пишет, что мечтает вернуться в школу и преподавать географию. Знаешь, там, в подполье, у него было смешное прозвище. Как думаешь, какое?
– Прозвище? Не знаю, Варвара Герасимовна. Мы-то потихоньку звали его Глобусом. Из-за лысины. Ну, и потому, что он географ.
– Вот-вот! И там, в Германии, он так назывался – Глобус!
...Они еще долго сидят в пустой школе. Ребята давно ушли, отзвенели все звонки, кончились уроки.
Юре видится, будто класс не пустой. У окна на первой парте сидит Сашенька, тоненькая, нежная, с пепельной косой, перекинутой на грудь. В среднем ряду, на третьей парте, – Севрюга. Большой мастер шпаргалок, он писал их таким мелким почерком, что весь курс химии умещался у него в сжатом кулаке. Медведь, тяжелый, сонный и такой добрый человек, что в буфете никогда не успевал коржик купить – всех пропускал вперед себя.
А за той вон партой, у двери, сидел он, Юра. И рядом с ним – Валентина, девочка, живущая своим умом.
И почему-то ему сегодня кажется в этом классе, наполненном синими сумерками, что где-то здесь, за этими партами, была с ними еще одна девочка – светлые легкие волосы, прозрачные большие глаза, тонкие, беспомощные руки с тонкими пальцами...
* * *
Дед и Муравьев входят в кабинет директора школы Регины Геннадьевны. Она перестает писать отчет по успеваемости и смотрит на них.
Вот они стоят перед ней. Дед в парадном пиджаке, в отутюженных брюках, в ярко начищенных ботинках. И внук, который старается держаться немного позади деда, чтобы хоть чуть-чуть прикрыла его эта широкая спина в парадном пиджаке.
– Очень хорошо, что вы пришли.
Муравьев смотрит на директора и знает: сейчас здесь будет сказано обо всем. И ему от этого так тоскливо, что он начинает мечтать о том, чего на самом деле не бывает. Впрочем, почему не бывает? Вдруг кто-то за окном закричит страшным голосом: «Пожар!» И тогда Регина Геннадьевна, и дед, и, конечно, Муравьев ринутся вон из этого кабинета. Они будут дружно тушить пожар, забыв о разногласиях, которые были между ними. И Муравьев проявит чудеса героизма: он вынесет из огня Регину Геннадьевну, которая угорит в дыму и, конечно, потеряет сознание, будет совсем без памяти. Но смелый Муравьев спасет ее. И тогда главный пожарник пожмет ему руку, а Регина Геннадьевна скажет совсем слабым голосом:
«Это мальчик из нашей школы. Мы все им гордимся. И вы, товарищ дед, тоже можете гордиться таким внуком!»
...Или наводнение. Муравьев плывет прямо по коридору первого этажа, залитому водой, он загребает одной рукой, а в другой мужественно спасает чучело щуки или банку с этими самыми аксолотлями. И, выйдя благополучно на сушу где-нибудь в районе раздевалки, директор жмет его мокрую мужественную руку и говорит:
«Вы можете гордиться своим внуком. Вся наша школа теперь будет гордиться им, нашим смелым Муравьевым».
...Или землетрясение. Небольшое, всего баллов пять. Качается люстра в директорском кабинете, летят со стола Регины Геннадьевны сводки и отчеты. А на том месте, где стоит сейчас Муравьев, проваливается пол. Один миг – и Муравьева в кабинете нет. А где же Муравьев? Куда же он провалился? А вот провалился! Дед сразу побежит его искать.
«Вы меня извините, товарищ директор, но мой внук мне дороже всего. Пусть он немного непослушный и иногда позволяет себе всякие фокусы, но теперь дело не в этом! Он исчез! Я должен его найти! Скорее, скорее давайте искать мальчика!»
Все эти прекрасные мечты проносятся в голове быстро, за это время Регина Геннадьевна успевает только сказать деду:
– Садитесь, пожалуйста.
Она указывает деду на стул, а Муравьеву она сесть не предлагает. Взгляд Регины Геннадьевны не предвещает ничего хорошего.
И вот она уже вдохнула побольше воздуха, чтобы начать говорить. Сейчас она скажет и про кирпичную стену, и про теннисный мяч, который совершенно нечаянно на математике отлетел в окно и расколотил стекло. Она расскажет обо всем. Это совершенно ясно. А чудеса можно придумывать сколько угодно. Но в жизни чудес не бывает...
И, как только Муравьев так подумал, чудо случилось.
Регина Геннадьевна успела произнести только:
– Я хочу вам сказать...
И в это время в дверь энергично постучали. Стук был четкий и нетерпеливый.
– Можно к вам?
На пороге кабинета директора стоял человек, увидев которого Муравьев закрыл глаза и подумал: «Теперь уж совсем все кончено». На пороге стоял злой старик собственной персоной.
Как он попал сюда? Почему именно в этот самый час, когда Муравьеву это было особенно некстати?
Старик был в своем неизменном кожаном пальто, он опирался на толстую палку, вид у него был очень свирепый. Муравьев понял, что теперь он погиб. Погиб навсегда. Злой старик, конечно, пришел жаловаться на Муравьева. Сейчас он все расскажет.
Когда все, перед кем ты провинился, объединяются против тебя, когда все они в одно и то же время оказываются в одном и том же месте, то тут твое дело совсем плохо.
Муравьев стоял молча, втянув голову в плечи. Его лицо выражало при этом укоризну: «Вы взрослые, а я ребенок. Что вы все на одного-то налетаете?»
И тут случилось то, чего никак нельзя было ожидать. Случилось такое, о чем Муравьев будет помнить очень долго, может быть, всю жизнь.
Злой старик вдруг закричал громким голосом:
– Юра! Юра!
Он кинулся к деду. А дед кинулся к злому старику. Они, совершенно забыв о директоре Регине Геннадьевне и о Муравьеве, стали обниматься, хлопать друг друга по плечам. Потом злой старик всхлипнул, и дед тоже достал платок и стал вытирать лицо.
– Сколько лет не виделись! – сказал злой старик.
– Тридцать пять, вот сколько! С самого госпиталя!
– Вася! Вася!
– Юра! Юра!
Они мотали своими седыми головами. Они вертели друг друга за плечи, чтобы получше рассмотреть.
– Поговорить надо, пошли ко мне, – сказал дед.
Регина Геннадьевна сердито постучала ключами по столу, но они ее не услышали. Ни дед, ни злой старик даже не обернулись.
– А помнишь, как ты победу проспал? Помнишь?
– Помню. А помнишь, какие у тебя были усы? Ты мне первый про победу сказал. А как ты живешь?
– А ты как живешь?
– Пошли?
– Пошли.
И они идут к двери, продолжая хлопать друг друга по спинам.
А Регина Геннадьевна говорит:
– Товарищи! Одну минуту.
Но ее голос звучит неуверенно. Они ее не слышат, они уже ушли.
И Муравьев выскальзывает вслед за ними из кабинета.
Они сидели на кухне, дед и злой старик. И каждая фраза начиналась с одного и того же: «А помнишь?»
Дед сказал:
– Это мой внук, познакомьтесь.
И злой старик подал Муравьеву руку:
– Натрускин, очень приятно.
Он ни слова не сказал о том, что они с Муравьевым встречаются не в первый, раз. И Муравьев тоже сказал:
– Муравьев, очень приятно.
– Он у меня хороший парень, – сказал дед, – в основном.
Потом Муравьев пошел спать, а они говорили почти до утра.
И дед запел свою любимую военную песню: «Горит свечи огарочек...» А старик Натрускин стал подпевать.
– Это подумать только – тридцать пять лет прошло, пролетело, – сказал Натрускин. – Как ты жил, Юра?
Дед помолчал, помолчал, потом ответил медленно:
– Жил, одним словом. Учился в университете на химическом, работал много. Жена, дети, внуки. Сын с невесткой сейчас в Бельгии, я – с внуком, а жена дома. Болеет что-то последнее время моя Валентина, ноги подводят. Старое ранение.
– Помню, девочка из вашего двора. Она писала тебе тогда каждый день, весь госпиталь знал: «Муравьеву опять письмо».
– Валентина. Самый большой друг с самого детства. Я и не знал сначала, какая она, Валентина. Понимаешь, Лиля – одно, а Валентина – другое. Она все понимает – и боль, и память, любой груз с ней легче. А девчонкой была – любила говорить: «Я своим умом живу с шести лет». Самостоятельный человек, Валентина.
Они опять помолчали. Потом Натрускин сказал:
– Помнишь сестру из госпиталя, Зину? Беленькая, кудрявая? Помнишь?
– Как же, помню. Она, по-моему, на тебя все поглядывала.
– Поглядывала. И я на нее загляделся. Так мы с ней и не расставались с самой Германии.
– И сейчас вместе? —спрашивает дед.
– Нет, Юра, не вместе. Умерла Зина два года назад. Детей у нас не было, и живу я один.
– Да, целая жизнь прошла. А зачем ты, Василий, в школу приходил? Меня вызвали внука ругать. А ты зачем пришел?
– Я пришел одну вещь отдать. Теперь уж завтра передам внуку твоему. Завтра воскресенье. Сегодня уже. Смотри, светло совсем.
...Утром, когда Муравьев просыпается, он слышит голоса:
– А помнишь?..
– Помню. А ты помнишь?..
Потом они все вместе завтракают. И тут Натрускин выходит в переднюю, достает из кармана своего кожаного пальто сверток и передает его Муравьеву:
– Возьми. Это я у себя разыскал для школьного музея.
Муравьев разворачивает сверток. Перед ним солдатская пилотка. Выгоревшая пилотка со звездочкой.
– Годится для вашего музея? – спрашивает Натрускин.
– Еще бы!
Муравьев вертит в руках пилотку. С красной звездочки облупилась эмаль. Пилотка пахнет нафталином; Муравьев гладит пилотку ладонями, потом надевает на себя.
– Сын полка, – говорит дед. – Послушай, мой обожаемый внук, откуда Натрускину известно про ваш школьный музей? Чувствую некоторую неувязку.
– Ну, дед, если рассказывать, надо долго рассказывать. А так нечего и рассказывать.
– Ну-ну, – покладисто отзывается дед; Муравьеву кажется, что в глазах у деда мелькает какой-то веселый зайчик. – Василий, нарежем еще колбасы? И чайку погорячее, а?
Они пьют по третьему стакану чая.
В это время раздается звонок в дверь.
– Кто это с утра пораньше?
– Почта, наверное.
Муравьев бежит открывать.
Это не почта. В квартиру входят Катаюмова, за ней Костя, Валерка, Борис с Сильвой на поводке.
Сильва сразу хватает в зубы тапочек и начинает яростно трепать его.
– Бессовестный! – говорит Катаюмова прямо с порога. – Врун нечестный! Мы ищем, мы мучаемся, а он над нами смеется!
– Ты чего, чего? – Муравьев отступает от них. – Когда я вам врал-то?
– Кто письма написал? Думаешь, не знаем? – налетает Катаюмова.
Валерка говорит:
– Собака все понимает. Она записку понюхала и прямо к твоему дому привела. Собаку не обманешь. Признавайся, Муравьев, чего уж. Разыграл нас с этим Г.З.В.
– Мы теперь знаем всё, – говорит Костя. – Пишущая машинка – вон она стоит, на столе.
– Ну и что? – Муравьев совсем растерялся. – Мало ли пишущих машинок стоит на столах? При чем здесь я?
Они стоят в коридоре, только Сильва, учуяв запах колбасы, пошла на кухню. Там смолк разговор, тихо на кухне.
Костя говорит веско:
– Вот как мы тебя нашли. Мастерскую пишущих машинок на проспекте нашли? Там моя мама работает. И она мне сказала: «Ваш Муравьев эти письма печатал. А машинка была недавно в починке. И адрес на квитанции». А ты все отпираешься.
– Бессовестный! – говорит Катаюмова. – Говори сейчас же, что это все ты писал. Еще про планшет наврал...
Борис заступается:
– Фантазия – не вранье. Не знаешь, а говоришь.
Муравьев совсем сбит с толку. И тут в коридор выходит дед.
– Будем знакомы: Муравьев, – говорит дед спокойно и каждому жмет руку. – Вы молодцы. Нашли меня все-таки, а я уж думал, не догадаетесь.
– Вас? – произносит Костя. – Мы вас не искали. Вот Муравьев, мы его нашли.
– Внука? А чего его искать? Он же, насколько я понимаю, и так каждый день с вами.
– А нам сказали в комбинате «Сто услуг», что Муравьев, – бормочет Катаюмова.
– Ну правильно. Я Муравьев, Юрий Александрович Муравьев. И он, мой внук, тоже Юрий Александрович Муравьев. А письма вам написал я. И раз вы меня нашли, планшет ваш.
И дед выносит из комнаты старый кожаный планшет на тонком ремешке. У планшета прозрачная стенка, там лежит старая военная карта. И на ней красные стрелы – боевые пометки. И они берут планшет осторожно, каждый по очереди. Костя и Валерка, Катаюмова и Борис. А Муравьев говорит:
– Почему же ты мне ни разу его не показывал, дед?
– Так уж получилось. Он был у меня на той квартире. А потом мне хотелось, чтобы мы с вами поиграли в разведку. Просто принести и отдать не так интересно. Группу-то свою вы как назвали?
– «Поиск», – первым отвечает Костя.
– Ну, вот видите. Назвали, – значит, надо соответствовать. Пошли на кухню чай пить. Ставь, Юра, снова чайник. Проходите, проходите. Не стесняйтесь. Это мой друг по военным временам Натрускин, вместе в госпитале лежали.
– Ой! – ахает Катаюмова. – Злой старик!
Муравьев дергает ее за рукав:
– Сама ты злая.







