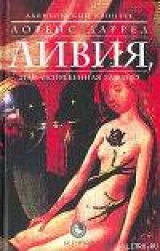
Текст книги "ЛИВИЯ, или Погребенная заживо"
Автор книги: Лоренс Даррелл
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 17 страниц)
Ночь за ночью он ворочался на шершавой простыне, изнемогая от бессонницы и неотвязных мыслей. Он прокручивал в уме свою жизнь, и она разматывалась, будто лента непрерывных горестей, в обратном направлении, от настоящего к смерти отца и к грустным школьным дням. (В его характеристиках всегда писали: «Мог бы достичь большего, если бы поменьше мечтал».) Единственным утешением Феликса стали книги, а потом он начал изображать горячий интерес к католицизму, потому что так ему удалось завести друзей, и было чем убить время. Он чувствовал, что если не найдет себе полноценного занятия, невыносимое бремя скуки и тоски доведет его до сумасшествия, он заболеет, как тогда это называли, «мозговой горячкой». Всякий раз, подумав об этом, он неслышно шептал: «О Господи, только не это». Боже упаси, надо с кем-нибудь разговаривать! Когда Феликс получил сообщение Блэнфорда – о том, что тот летом будет жить неподалеку от Авиньона, к глазам его подступили слезы, он не смог сдержать короткого рыдания. Словно камень упал с души.
Все эти долгие одинокие ночи Феликс ощущал себя почти так же, как сам город – все в прошлом и ничего в настоящем. Интересно, известно ли Галену о гостях, знаком ли Блэнфорд со стариком? Узнать негде! Галену никогда даже в голову не приходило сообщать о своих частых отъездах и приездах, но он точно несколько месяцев в году обязательно проводил в полуразрушенном шато, который, как предполагал Феликс, не восстанавливал исключительно из скупости. Он объездил всю Европу, следуя вдоль ниточек паутины, которую сплел благодаря богатству, играя в банковские и политические игры. И повсюду его сопровождал негр Макс, слуга и шофер, который при определенном освещении был не просто коричневым, а темно-фиолетовым, а также немой (буквально) секретарь. Гален сам выбрал его, со смехом откомментировав, что тот умеет отдавать приказания и добиваться их исполнения. Секретарю не требовалось слов, достаточно было кивка.
И еще, куда бы Гален ни ехал, туда же отправлялся Вомбат, восседая на мягкой бархатной зеленой подушке с монограммой в виде короны. Его родословная давала ему такое право, ибо Вомбат воистину был императором теперешнего странного, довольно унылого дядиного дома, дома, оставшегося без присмотра матери Феликса. Макс обожал хозяйского кота, носил его очень почтительно, словно камергер – королевский ночной горшок. А полуослепший, к тому же страдавший астмой Вомбат нрава был дикого: если протянуть к нему руку или сказать «кис-кис», он, сразу же ощерившись, шипел или угрожающе горбил спину. Гален выпивал иногда вечером пару бокалов вина, и это настраивало его на сентиментальный лад – тогда он сообщал Максу, что, мол, кот – его единственный друг, ведь все остальные любят не его, а его деньги. Только Вомбат любит его по-настоящему. Но стоило ему протянуть к зверю руку, как у того раздувалась шея и выгибалась спина, словно у кобры, с шипением раскрывающей свой капюшон: дескать, не приставай, старый!
Увы, о Феликсе Гален почти не вспоминал, хотя на каждое Рождество присылал ему дешевенькую открытку с изображением падуба и малиновки. Подпись всегда была его собственной, но адрес на конверте написан корявым почерком секретаря. Итак, летом – пыль, ветер, шум, порошок от блох и ритуальные шествия грязнуль-монахинь и священников; зимой – гололед и стужа, и обмелевшая река, воды втрое меньше, чем летом. Le cafard,[78]78
Тоска (фр.).
[Закрыть] одним словом, лютая тоска, хуже не бывает. У него не было сомнений, что когда-нибудь из-за ночных шатаний его случай назовут «прогулочной» паранойей.
Открытку Блэнфорда он положил на стол, как драгоценный талисман; наклонился пониже, еще раз прочитал, сделал несколько глубоких вздохов, чтобы справиться с волнением. Потом он запер маленький стенной сейф, где лежали длинные блоки марок и шесть незаполненных паспортов, и вышел в сад, с мягким щелчком захлопнув дверь. До чего же он ее ненавидел, и этот вечно заедающий замок! Дверь была стеклянной, состояла из четырех квадратных витражей с очень волнующими сюжетами; когда на них падали солнечные лучи, начиналась настоящая вакханалия цветов. И если кто-то в эти часы шел по холлу, лицо его делалось то ярко-желтым, то кроваво-красным, то синим, то зеленым, то мертвенно-бледным. Такие сугубо театральные световые эффекты обычно здорово пугали несчастных посетителей.
Феликс поднял воротник пальто, повесил на руку трость, надел перчатки и начал свой неспешный мученический ночной променад.
Луна клонилась к западу, в сторону зубчатых крепостных стен; едва завернув за угол скотобойни, где всю ночь звенела проточная вода, словно это был общественный писсуар, он увидел знакомого маленького фонарщика, вышагивавшего прямо перед ним со своим, похожим на пастушеский, посохом, которым гасил уличные светильники – город мог позволить себе удобные и чистые электрические лампочки всего лишь на нескольких улицах. С эгоистическим сожалением Феликс подумал, что ему будет очень грустно, когда все улицы засияют электричеством, ведь маленькие фонарщики не только помогали сориентироваться во времени (огни гасили ровно в два часа), но скрашивали своим присутствием его унылые прогулки – хоть какое-то общество… Феликс огибал дымчато-серые стены с зубчатыми крышами. К этому времени даже цыгане уходили в свои шатры, а они были самыми неугомонными гуляками, успел заметить Феликс; а он все шел и шел за маленьким фонарщиком, который шагал почти беззвучно и останавливался лишь затем, чтобы погасить огонь в очередном фонаре. Казалось, он срывает головки пылающих цветов, одну за другой; и сразу наступала фиолетовая ночь, полная теней и четко очерченных силуэтов. На улице Сен-Шарль Феликс мысленно пожелал спокойной ночи своему знакомому и резко свернул вправо – в сторону ворот Сен-Шарль, которые в этом месте протаранили массивную глухую городскую стену. Здесь была, скажем так, авансцена бастиона – пыльный terrain vague,[79]79
Пустырь (фр.).
[Закрыть] кое-где утыканный высокими платанами с едва проклюнувшимися зелеными листочками. Пустырь был почти не освещенный, отличное местечко для темных делишек, можно без хлопот перерезать горло прохожему, устроить драку или прилечь в обнимку со шлюхой. Цыганам оно тотчас приглянулось, и они разбили тут свой лагерь, несмотря на блюстителей порядка, которые время от времени приказывали им убираться. Но цыгане плевать хотели на приказы. Сейчас костры уже догорали, так как все разбрелись по своим повозкам, за занавесками слабо мерцали ночные огни. Кое-какие огоньки можно было разглядеть в шатрах и самодельных укрытиях, там эти люди лежали вповалку, тесно прижавшись друг к другу, как новорожденные котята, чтобы проще было согреться. Феликс и завидовал им, и боялся их, и как только дробь его шагов утихла (когда он вышел за ворота), рука инстинктивно потянулась в карман за электрическим фонариком, хотя до сих пор Феликс пользовался им только при крайней необходимости.
Цыганские костры почти погасли, и даже ослы с собаками как будто спали. Но вот из шатра поменьше вышла девушка, разбуженная его шагами, она возникла словно из земли, и неуверенно направилась к нему, тоненьким голоском клянча милостыню. Девушка двигалась, словно прелестный котенок, широко зевая и вытянув перед собой сухощавые руки. На вид ей было не больше шестнадцати, а яркие залатанные лохмотья придавали ей сходство с Пьеро. На пригожем личике отражалась уверенность в собственной неотразимости, обычная для цыганок. Феликс почувствовал острое желание, в голове у него помутилось… Сине-черные тени от мощных равелинов сгущались в непроницаемую надежную тьму. Почему бы ему не затащить эту пташку в одно из черных укрытий и не запустить холеные консульские коготки в податливую смуглую плоть? Стоит пообещать ей денег, и она тут же согласится.
Увы! Оставалось одно «но» – деньги! Сколько она потребует за свои ласки? Этого он не знал. Зато точно знал, что у него не хватит смелости, нет, не хватит, нарушить все границы, определенные хорошим воспитанием. Чудовищное отчаяние охватило Феликса, когда он отмахнулся от этой искусительницы. Торопливо проходя мимо, он почувствовал, как она хищно вцепилась в его рукав. Босые ножки ступали по земле совершенно бесшумно. Ну и ударила бы его, а после бы изнасиловала – с уничижительной невозмутимой гордостью, пока он будет валяться без чувств… тогда, по крайней мере, его не будет мучить стыд за столь циничный разврат. А как насчет платы за гонорею, которая почти наверняка будет ему обеспечена? Лечение будет дорогим, да еще болезненным. Это он знал точно, поскольку однажды провожал перепуганного приятеля-студента в больницу на Грик-стрит. Бедняга расплачивался за грехи своего двадцать первого дня рождения, проведенного по традиции в «Мешке гвоздей». Из сочувствия Феликс несколько раз ходил с приятелем на первые радикальные «процедуры» и наблюдал за этими кошмарными манипуляциями со страхом и отвращением. Даже само помещение внушало ужас: длинные, с мраморными стенами кабинки с унитазами, тихое урчание воды, ряды высоко закрепленных белых емкостей с длинными тонкими трубками – клизмы… Неужели это единственный способ лечить нечистую болезнь? Вливают в несколько этапов марганцовку (жидкость Конди), которой пациент должен писать, со всей силы. Потом – очистительные процедуры на весьма чувствительной слизистой оболочке внутри уретры, где скапливается инфекция. Хирург засовывает маленький, похожий на металлический зонтик, катетер в член и постепенно открывает его наподобие зонтика, расширяя вход. Это чтобы разъединить пораженные участки – для дальнейшей обработки. Настоящая пытка. Разок такое увидишь, будешь помнить всю жизнь.
Достаточно было воспоминания о муках приятеля, и Феликс почувствовал, будто на спине его выросли крылья, нет, он ни за что не станет связываться с цыганкой. Ускорив шаг, он свернул в сторону прелестного вокзала, окруженного черными пальмами. Поначалу цыганочка, видимо, не хотела отступать, но победила зевота, и, с чувством плюнув ему вслед, она направилась к шатрам. Последний поезд уже ушел, первый утренний еще очень нескоро. Где-то у невидимых причалов послышалось звяканье молочных бидонов, которые заранее переставляли в темноте в ожидании утренних телег. Вокзальный буфет тоже оказался запертым в этот час, но одинокая лампочка – без абажура – продолжала гореть. Приникнув к замерзшему окну, Феликс видел, как старый крестьянин и его жена моют стаканы и подносы и метут обшарпанными соломенными метелками пол, выложенный плитками. Ему очень хотелось выпить грога, но ведь не откроют, пока первый поезд клацаньем и скрипом не покончит со здешней тишиной. Фиакры как стояли, так и стоят перед главным входом под часами, стрелки которых уже три месяца показывали двадцать минут третьего. Неужели их никогда не починят? Замерли, будто истуканы, кучера, завернувшись в старые одеяла, да и лошади тоже вроде бы спали – стоя.
Ворота Сен-Рош, ворота Сен-Шарль, ворота Республики – через эти можно попасть прямо в центр города, на пульсирующую жизнью маленькую площадь, вокруг которой сосредоточились все самые важные объекты – мэрия, красивый старый театр, памятник погибшим с позорными, но очаровательными оловянными львами и размахивающей флагом Марианной… До чего же детально он изучил все эти почти карикатурные символы; теперь он был не глазеющим в восхищении туристом, вдохновленным романтической историей города, а одним из сорока тысяч его жителей, его душа уже почти забальзамировалась в унынии авиньонской тишины, мрачных соборов, магазинчиков и кафе с закрытыми на ночь ставнями. Самым ужасным было то, что здешний вариант считался наилучшим из тех, на какие мог рассчитывать молоденький консул, если, конечно, ему не обломится назначение в столицу или крупные города, вроде Марселя, Лиона, Рима… Многолетнее послушание во всяких глухоманях, вроде теперешней, возможно, вознаградится постом генерального консула, хотя и это будет вне основного фарватера дипломатии – ибо «настоящие» дипломаты – особая раса, свой профсоюз, закрытый круг.
Повернувшись спиной к вокзалу, Феликс направился к массивным воротам Республики и вошел внутрь крепости. Летом он обычно брел в противоположном направлении, к подвесному мосту, соединявшему город с островом; место это было довольно зловещим, там ужасно темно, хоть глаз выколи, мало ли кто подкрадется сзади. И вообще, в такую холоднющую и ветреную погоду он всегда предпочитал двигаться против часовой стрелки, чтобы прятаться от стихии за древними стенами. Он двинулся к маленькой часовне Серых Кающихся Грешников, неловко притулившейся к старому руслу с неутомимыми огромными водяными колесами, от которых постоянно доносятся плеск воды и свист. Одолев Сен-Маняньен, попадаешь на внушающую ужас улицу Бон-Мартине[80]80
Бон-Мартине – фр. Bon martinet – многохвостная плетка, которой в старину пугали детей. (Прим. ред.)
[Закрыть] (название всегда вызывало у него некое смятение, хотя он и сам не мог понять, что именно так его волновало: позднее Блэнфорд нашел завалившийся в дальний угол памяти фрагмент головоломки). Улица была совсем короткой, но до того темной и узкой, что прохожие, буквально протискиваясь вдоль домов, молили Бога отвести от них руку злодея с ножом или удавкой. А заканчивалась она – и уже можно было видеть свет в конце этого весьма темного туннеля – прямо над каналами; этой частью города владели кожевники и красильщики, и, несмотря на то, что здешние ремесла остались, скорее, в прошлом, водяные колеса, которым под силу было сдвинуть и пароход, крутились днем и ночью.
Здесь тьма обретала фактуру мокрого бархата; Феликс остановился, как всегда, перед часовней и шепотом процитировал невидимую надпись над входом. Обыкновенно он доставал фонарик, чтобы прочесть все имеющиеся надписи. Здесь было владение Серых Грешников – Черные располагались в другом конце города. Он толкнул дверь часовенки, и она со скрипом отворилась. Иногда ему хотелось посидеть минутку-другую на скамье, в полном мраке. На стене был электрический звонок с именем священника – так сказать, дежурного духовного отца, который в любую минуту готов выслушать исповедь. Однажды ночью Феликс «опозорился», именно так он бы выразился, если бы вздумал с кем-нибудь пооткровенничать. Почувствовав себя особенно несчастным, он пришел сюда помолиться; но как только он опустился на скамью и уставился на темную жуткую статую, которая должна была бы пробудить неизведанные доселе чувства, душа его чуть было не отлетела, он едва не задохнулся. Ему показалось, что он сходит с ума, вот тогда ему стало ясно, что означает выражение «бороться с черным ангелом». Правда, это скорее напоминало схватку Лаокоона с морскими змеями, из мощных скользких объятий которых тот так и не смог вырваться… В часовне больше никого не было, эхом отдавалось в тишине тяжелое судорожное дыхание Феликса. Наконец, он не выдержал: встал и подошел к звонку. Под звонком на карточке было напечатано имя дежурного священника – Менард. Феликс нажал на кнопку, и его охватил ужас. Что же он натворил! Замогильный звон колокольчика медленно замирал в недрах часовни, но никто не отзывался. Феликс же продолжал прислушиваться, чувствуя себя полным идиотом и разом забыв про муки одиночества. Призывать священника в два часа ночи – это же неприлично! А что если бы его в самом деле мучили сомнения, касающиеся веры? Кризис на религиозной почве… Тогда ни один священник ни единым словом не укорил бы его из-за позднего часа – как врач, которого среди ночи разбудил бы умирающий. И все-таки Феликс чувствовал себя безответственным кретином, явившимся в церковь в неподобающее время. Как бы то ни было, ответом на его отчаянный зов была тишина. Он чуть склонил голову набок. Снаружи, на темной улице кошачья парочка завела свою жуткую любовную песнь. Где же он может быть, здешний священник? Феликс чувствовал себя не просто дураком, но преступником, не достойным внимания и сочувствия из-за своего эгоистического поведения. Развернувшись, он бросился к двери и распахнул ее. Снаружи продолжала шипеть вода, поскрипывали неугомонные водяные колеса. Феликс бесшумно затворил дверь и прижался лбом к холодной дубовой панели, так как его охватил жар. И в этот момент раздались шаркающие шаги и щелканье ключа в исповедальне. В конце концов священник отозвался на его призывы. Феликса вновь обуяли стыд и ужас. Он выскочил в уличный мрак, оставив священника с его часовней темноте и тишине. Дурацкое представление! После ему было очень непросто в этом покаяться, но не священнику, а Блэнфорду, который вскоре стал его спутником в ночных походах, когда они отправлялись на поиски Ливии. Именно тут, рядом с часовней, Блэнфорд распутал клубок смутных ассоциаций, делавших улицу Бон-Мартине столь незабываемой и значительной. Маркиз де Сад!
– Для меня этот город знаменателен прежде всего вот чем. Двумя фигурами из авиньонского, так сказать, бестиария, которые символизируют грандиозность размаха человеческих страстей и пороков. Две полярные точки. Я имею в виду Лауру Петрарки, который придумал совершенную романтическую любовь, и маркиза де Сада, который плеткой загнал эту любовь обратно в несчастное детство. Вот уж в самом деле парочка ангелов-хранителей!
Феликс упрямо шагал к следующему бастиону, к угрюмым воротам Тьер, откуда он и начал пересекать по диагонали спящий город. Пару раз ему попадались существа, неподвластные дреме, как и он. Например, старик на велосипеде, проезжавший мимо, но до того медленно, что, казалось, он отправился в путь давным-давно – возможно, еще в эпоху плейстоцена. Его велосипед подпрыгивал на булыжной мостовой, но совершенно бесшумно. А сам старик не смотрел ни направо, ни налево – может быть, спал? Но вдруг он закашлялся, и у Феликса душа убежала в пятки. Маленькая зеленая площадь Бон-Пастер дремала среди платанов, под которыми жители ближних домов оставляли детские коляски, велосипеды, тележки, их скоро заставят трудиться, едва откроется рынок. Еще с другого конца улицы он заметил проблески света в похожем на пещеру железном укрытии, где стояли три трамвая. В пять часов их визг перебудит всех горожан – ибо маршруты трамваев проходят повсюду. Другого общественного транспорта тут не было – два больших тряских автобуса были нововведением, и их отдали туристам; они коротали ночь у отеля «Крийон», и в десять повезут своих пассажиров осматривать Эг-Морт[81]81
Эг-Морт – приморский город, известный своими памятниками средневековой архитектуры.
[Закрыть] и Камарг.[82]82
Камарг – заповедник в дельте реки Роны, состоящий из островов, мелководных участков, солончаковых лугов, болот. Место массовых зимовок многих птиц.
[Закрыть] Смутная фигура с фонарем и канистрой бензина двигалась между сонными трамваями, пора было готовить их к рабочему дню. Рассвет пока был только предчувствием, он еще не коснулся очищенного мистралем, усеянного звездами неба – едва заметный отсвет грядущего пробуждения; но уже кто-то тронул тонкую струну в необозримом далеке, и эхо донесло этот звук, ибо птицы, обитавшие в кронах деревьев, укрывавших своей сенью чудный старый рынок, принялись топорщить крылья, расправлять хвосты и пробовать голос. В «Клиник Боек» он увидел огонек под кофейником – в спиртовке. В банке «Фуа» ночной сторож, зябко поведя плечами, впустил двух пухлых старушек – это уборщицы. Поблизости кто-то невидимый насвистывал мотив популярного танго и вдруг умолк, словно смутившись.
В этот час Катрфаж наконец засыпал в отеле «Принц», не выключив света – он не выносил темноты. Что бы делал Феликс, если бы не мысль о несчастном Катрфаже, о бедняге Катрфаже, который тоже бодрствовал всю ночь среди сорока тысяч населения, один-одинешенек, как и сам Феликс? Эта мысль согревала, с ней не так мучительно было слоняться по городу. Худенький юноша, сам того не ведая, стал товарищем консула по несчастью. Нищий ученый тоже был рабом лорда Галена. Катрфаж напоминал сонного ворона в своем порыжевшем черном tablier,[83]83
Фартук (фр.).
[Закрыть] который надевал, когда работал; об этот фартук он, прервавшись, вытирал стальное перышко; он копировал итальянскую скоропись, столь же прекрасную, как арабская вязь или китайские иероглифы. Однако зачем Галену понадобились таланты бедного ученого, умеющего расшифровывать и копировать средневековые манускрипты, какое-то время оставалось тайной…
Этот смуглый истощенный юноша много чего пережил, прежде чем оказался тут, в плохо освещенном номере «Принца». Замурованный в гостиничных стенах, он с рабским усердием корпел над прожектами лорда Галена. Когда-то он служил в Церкви – был пономарем, а потом викарием, однако с ним приключился какой-то скандал, по маленькой деревушке поползли, как водится, злые сплетни. Приход у него отобрали и лишили сана, совершенно несправедливо, считал он. От его истовой веры не осталось и следа, ее сменило всепоглощающее чувство безнадежности, свойственное человеку, потерпевшему крах. Как будто мрак, обступавший узенькое поле христианских доктрин, прорвался сквозь преграды и завладел его душой. «Одержим бесами» – в какой-то мере это было верное определение, ибо теперь он был убежден в том, что Бога не существует, что атеизм – единственно достойная позиция для разумного человека, такого, как он. Всю свою юность он потратил на поклонение какому-то Мумбо-Юмбо.[84]84
Идол некоторых западно-африканских племен.
[Закрыть] Охваченный горьким разочарованием – ведь подобное прозрение не сделало его счастливым – он стал изучать Зло, причем с той же целеустремленностью, с какой прежде посвящал себя ортодоксальному благочестию. Выбранная дорога вела его по невидимым ступеням вниз, к нумерологии, темным тайнам и символам, к сумрачным пределам алхимии и астрологии. Заодно он изучил обыкновенную, без всякого налета демонизма, математику и стал, к собственному удивлению, неплохим специалистом. Это была случайность, но весьма удачная случайность, позволившая получить работу в фирме лорда Галена, в отделе «Общие направления»; где лорд собрал четырех молодых математиков, они анализировали графики прогнозов, предсказывали, как дальше будут вести себя шкалы индексов. Над большими и красивыми графиками Гален проводил иногда вечера напролет, гадая, что продавать, что покупать. Статистическая группа предоставляла ему примерную картину состояния его капитала и, хотя там были кое-какие погрешности, но обычно его сотрудники многое угадывали верно. Именно у Галена Катрфаж нашел то, что его устраивало; с ним считались, скажем так. Поскольку он боялся темноты и не мог заснуть до рассвета, то работал в основном по ночам. Сгорбившись над старенькой чертежной доской в унылом кабинете, он утыкался длинным носом в бумаги. У него был вид сонного ворона. Ногти он обкусывал до самого мяса, пальцы были вечно в чернилах, брюки – обтрепанные в тех местах, где он стягивал их прищепками, прежде чем сесть на велосипед. Крошечные черные мышиные глазки сердито блестели и были полны нетерпения. Сухой кашель и постоянно державшаяся температура предрекали туберкулез; да и вся его конституция свидетельствована о том, что у него poitrinaire,[85]85
Слабая грудь, чахотка (фр.).
[Закрыть] и как-то его даже отправили в санаторий, где ему делали так называемое «поддувание». Все напрасно, туберкулез не отступал.
Предательский кашель, который порою вынуждал его сгибаться пополам, так его истязал, что на глаза навертывались слезы, однако совершенно не влиял на качество работы, несмотря на поистине убийственную скуку того, чем ему приходилось заниматься.
Завершая ночную вылазку, юный консул всегда делал небольшой крюк, чтобы постоять под освещенным окном; вдохнуть, так сказать, немного мужества и страсти этого неутомимого раба. В эти минуты в нем бушевали разные чувства, которые он испытывал к дяде – ненависть, обожание, изумление, – поднимаясь и опускаясь в его душе, подобно морским волнам. Да, он ненавидел Галена; нет, потому что как же можно ненавидеть такого человека? Гален бывал очень обаятельным, чудаки и самодуры часто такими бывают. Каждый день он пару раундов боксировал со своим фиолетовым негром, пыхтя и сморкаясь, вытирал перчаткой нос – с видом бывалого профессионала. Его противник и в самом деле был когда-то профессиональным боксером, он легко порхал по рингу (сооруженному в саду), как мотылек, твердо зная, что не должен бить хозяина – иначе Гален мгновенно скончается. Вот они и разыгрывали нелепую пантомиму, причем черный боксер постоянно задевал спиной канаты. На негре были зашнурованные ботинки из тонкой кожи и разукрашенная перевязь с ярко сверкающими медалями. Время от времени он делал вид, будто наносит удар – именно делал вид, – останавливая кулак возле маленького подбородка своего соперника. Сам же Гален, вероятно, метил в луну, настолько его удары были неточными. Негр уворачивался, но иногда позволял ударить себя в фиолетовый лоб, издавая при этом глухое рычание, означавшее восхищение.
Одно удовольствие было наблюдать за Максом! Негр просто не способен был двигаться неуклюже, каждое движение напоминало танцевальное па. Даже это его притворное метание по рингу со свирепой, как у разъяренной гориллы, гримасой – даже оно было легким, словно ветерок, изменчивым, неуловимым, случайным; это порхание было своевольным и непредсказуемым, как порхание белой капустницы среди цветов. Однако каждый жест был тщательно просчитан, даже когда его руки висели, словно рукава пиджака на вешалке. Невозможно было предугадать, когда он вскинет руку для удара, нацеленного точно, как жало пчелы. И еще он постоянно что-то напевал себе под нос, нежные мелодии, в основном, блюзы. Иногда Макс давал совет своему партнеру: «Дышите глыбже, сэ-э-э-р», – а потом, покачав головой, добавлял: «Ишь как умаялись». И Гален послушно старался дышать «глыбже». После двух раундов почти бездыханный старикан поворачивался к «публике» (чаще всего ею был бедняга Феликс), и говорил: «Видал? Вот в чем секрет моего железного здоровья».
Вставал Гален очень рано и велел везти его на вокзал – смотреть, как первый поезд отбывал в Париж; подобный ритуал он проделывал всю жизнь, в каких бы краях ни оказывался. Гален был помешан на поездах. Запах угля и бензина, толчея на платформе, возгласы пассажиров, носильщики с тяжеленными чемоданами – весь этот неописуемый хаос и одновременно идеально отлаженный порядок – каждый раз пьянили его, будоражили кровь и душу. А прощания! Жизнь во всей ее полноте, все разнообразие жизненных ситуаций можно было увидеть, глядя на прощавшихся любовников, друзей, супругов, на прощание с детьми и любимыми собаками. Щелканье закрываемых дверей, поцелуи, пронзительные свистки, красный флажок и ровный шум двигателей, исторгающих белые плюмажи в голубое небо, – вся эта кутерьма до сих пор вызывала у него слезы. Вероятно, это один из тех жестоких парадоксов, на которые так щедра судьба, ведь железная дорога ассоциировалась с единственной трагедией в жизни Галена – необъяснимым исчезновением его дочери, совсем еще девочки. Гален потратил целое состояние, чтобы найти ее или хотя бы разгадать тайну ее исчезновения. Вероятно, такое случается каждый день, если судить по газетам, которые какое-то время на все лады обсуждают трагедию, а потом теряют к ней интерес… Пятнадцать школьниц под присмотром двух монашек из парижского монастыря Пресвятого Сердца отправились из Сидкота на воскресную экскурсию в Лондон. Когда они прибыли на вокзал Ватерлоо, одной девочки не досчитались – дочери Галена. Можно представить, сколько версий было рассмотрено для объяснения этого невероятного факта. Выпала из поезда? Нет. Убежала? Поезд шел без остановок. Одноклассницы сказали, что на полпути она вышла из купе, чтобы пойти в уборную. И больше не появилась. Гален был вне себя от ужаса и никак не мог поверить в то, что произошло. Все окрестности были тщательно прочесаны по приказу едва не обезумевшего от горя отца. Прошли годы, но боль не утихла; в комнате Галена было множество фотографий дочери и разрисованных ее рукой Рождественских открыток. При одном упоминании ее имени он не мог сдержать слез. Однажды в Лондоне он излил душу своему подчиненному Катрфажу, как раз в то время основательно изучавшему алхимию. Сам того не сознавая, Гален хотел показать, что и он не железный, что память о дочери не дает ему покоя, ему хотелось завоевать сочувствие этого мальчика с обкусанными ногтями, такого замкнутого и неразговорчивого. К его удивлению Катрфаж вынул маятник с кольцом и попросил карту Лондона и Суррея,[86]86
Суррей – графство на юго-востоке Англии.
[Закрыть] чтобы этим священным орудием исследовать маршрут того фатального путешествия и, может быть, найти разгадку.
Как зачарованный, Гален следил за колебаниями маятника, зажатого в тонких пальцах. Наконец Катрфаж произнес голосом, не допускавшим возражений: «Ее вообще не было в поезде, детям велели солгать. Монашки хотели скрыть свою оплошность. Еще на вокзале ее увела с собой цыганка». Гален даже пошатнулся – от радости и надежды. Неужели она все еще жива? В сущности, во всех викторианских романах именно цыгане были повинны в пропаже детей, да и взрослых тоже. «Она жива? – спросил он с тревогой. – И где ее искать?» Однако этого Катрфаж не знал – или сказал, что не знает. На самом деле, ему не хотелось заходить слишком далеко, поскольку он устроил демонстрацию, чтобы добиться власти над смешным воинственным человечком. И его замысел удался. Гален теперь часто заходил к нему поболтать, и неизбежно разговор сводился к одному и тому же: где находится Сабина. Старик начал тщательное изучение всех цыганских таборов, была создана особая, наподобие звездной, карта их перемещений по Европе. Он разослал на поиски своих агентов, снабдив их фотографией Сабины. На ежегодном сборище всех цыган его агенты поджидали их повозки в Сен-Мари-дела-Мер. Своему французскому служащему Гален уже приписывал сверхъестественные способности – этот поистине бесценный мальчик в один прекрасный день, возможно, отыщет ключ к разгадке, узнает, где его дитя! Их дружба становилась все более тесной, и однажды Гален предложил Катрфажу новую работу, секретную, – ту, которую он не мог больше никому доверить. Катрфаж, как бы дико это ни звучало, теперь охотился за спрятанными сокровищами, пытаясь напасть на их след в грудах весьма противоречивых старинных документов, так или иначе связанных с тамплиерами и их ересью.
Иногда Феликс останавливался чуть поодаль от приветливо сиявшего желтого квадрата света, падавшего из окна искателя сокровищ. И тогда он оказывался на площади, где когда-то стояла виселица, и представлял на ней себя; как его освещает скудный свет луны; как его труп раскачивает резкий ветер, как гремят при каждом порыве кандалы… Лентяй и трус, если это можно квалифицировать как преступление. И бестолковый, к тому же. Не то что Катрфаж. Тот, несмотря на очевидную юношескую неопытность, а также на неистовое стремление постичь великие эзотерические тайны, сохранял замечательное, сугубо французское чувство меры, не забывая про собственные интересы. Только благодаря его предприимчивости Феликс получил возможность изредка пользоваться «Моррисом», благо, которое они с Катрфажем делили вполне по-дружески. Этот трудяга попросил у Галена какую-нибудь машинку для поездок по Провансу, ведь ему необходимо изучать всякую древность и руины, и по ходу дела консультироваться с местными знатоками. Ездил он и впрямь довольно много, но зато в перерывах между экспедициями «Моррис» доблестно служил консульству, где его миссия была совсем иной. Феликс объезжал красивые окрестности (впрочем, почти их не замечая), переполненный одиночеством, стараясь заглушить его великолепной едой и роскошными здешними винами; хоть Авиньон и уступал Лиону в богатстве и разнообразии кухни, тем не менее в округе было чем полакомиться. Даже в этих, самых бедных своих уголках, французские кулинарные доблести казались неистощимыми человеку, выросшему на незатейливом английском меню.








