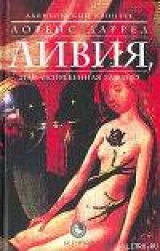
Текст книги "ЛИВИЯ, или Погребенная заживо"
Автор книги: Лоренс Даррелл
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 17 страниц)
Лоренс Даррел
ЛИВИЯ, или Погребенная заживо
Глава первая
Сплошное молчание
Именем Пса-Отца, Пса-Сына
и Пса-Святого Духа,[1]1
Здесь «еретический» перевертыш слова бог: вместо английского «god» (Бог Отец, Бог Сын, Бог Святой дух) написано «dog». (Здесь и далее, не оговоренные особо, примечания переводчика)
[Закрыть] Аминь.Здесь начинается второй урок.
* * *
Что если путь проходит посередине между
абсолютным произволом и абсолютной
предопределенностью?
* * *
Смешение пяти красок гибельно для глаз.
Китайская пословица
Весть о смерти Ту настигла Блэнфорда, когда он практически постоянно жил в ее доме в Сассексе, наблюдая, как первый зимний снежок падает с черного неба на еще более черные леса, с неба, в котором давным-давно погас желтый закат. Я написал «практически», потому что его версия наверняка окажется другой – ради последующих поколений и отчасти из-за стилистических пристрастий. Кресло с высокой спинкой спасало его от сквозняков, которые, несмотря на зыбкое пламя в камине от дубовых поленьев, свободно гуляли по старомодной, с высоким потолком комнате и сужающейся конусом галерее для музыкантов. Рядом на ковре лежали костыли. Ставя на пол телефон с лебединой шеей, он почувствовал, как отозвалась в нем нежданная весть: словно шум в громадной тропической раковине – гул бьющихся о белый песок волн на другом краю земли. Ту уже никогда не сможет прочесть (вот он, писательский эгоизм!) огромный новый кусок, который он добавил к своей книге – роман о другом романисте по фамилии Сатклифф, о человеке, который стал почти реальным и для него, и для Ту, таким же, каким он, Блэнфорд, был для самого себя. Вытащив из рукава носовой платок, Блэнфорд приложил его к сухим губам – сухим из-за сигары, которую он вечно мусолил во рту во время работы. Потом, пошатываясь, подошел к зеркалу, висевшему над книжным шкафом, и довольно долго рассматривал себя. Зазвонил, захлебываясь, телефон, и как всегда, когда звонят издалека, возникло ощущение, что кровь вот-вот отхлынет от сердца. Писатель не сводил взгляда с аппарата, представляя, что он – это Ту, которая смотрит на него самого. Вот, значит, что она видела, что она всегда видела! Полное совпадение взглядов, мысль к мысли – так у них всегда было. Неожиданно Блэнфорду пришло в голову, что повсюду здесь – книги покойной. С подчеркнутыми словами, с коротенькими записями. Она все еще тут!
Ему почудилось, будто из-за ее смерти и его собственный образ неожиданно стал иным, преобразился… умерла… кошмарная новость, смириться с ней было невозможно. Господи, им еще так много надо было сказать друг другу – а остались лишь обрезанные нити, обрывки незаконченных разговоров. Отныне и поговорить-то по-настоящему не с кем. Писатель поморщился и вздохнул. Что ж, теперь придется все страстные и плодотворные диалоги вести исключительно с самим собой. Все утро он играл на старой фисгармонии, радуясь, что голова и пальцы все еще отлично ему служат. Ничего нет лучше музыки в пустом доме. Потом зазвонил телефон. И теперь он думает о Ту. Никакого, в сущности, смысла. Стоит умереть, как тебя укладывают в землю и ты попросту растворяешься в ней. На некоторое время остаются кое-какие памятки – туфли, платья, не пригодившиеся номера телефонов на листочках почтовой бумаги. Как будто человек вдруг возжаждал предельной простоты, изначальной первозданности.
С заледеневшего озера доносилось щебетание катавшихся на коньках детей. Изредка слышался визг попавшего под конек камешка. Интересно, мелькнуло в голове у Блэнфорда, а как придуманный им Сатклифф воспринял бы печальную весть? Почему бы этому персонажу не поскулить в романе под стать противному псу? Прошлой ночью, лежа в постели, Блэнфорд прочитал несколько страниц любимого римского поэта Ту, и у него появилось ощущение, что она лежит рядом. На ум пришли несколько фраз: «Ровные ритмы латинского стиха, словно эхо ее сердца. Я слышу ее тихий голос, сотворяющий слова». В комнате летали мухи, появившиеся от тепла. Эти неугомонные черные точки, сбиваясь в кучки, напоминали азбуку Брайля. Звенящие детские голоса снаружи почти не задевали сознания. Ну а что толку от книг, если они не служат пристанищем для роящихся внутри сожалений? Вдруг заболела спина – позвоночник затвердел, как флагшток. Стареющий герой войны с набитым свинцом позвоночником.
Скорее бы настал и его черед. Отныне на него можно повесить табличку «Не пригоден для транспортировки» или того проще: «Невостребованный багаж» – и бросить его в трюм или в могилу. Мысленно он издал громкий вопль, вопль одиночества, но наяву не прозвучало ни единого звука. Это был пронзительный космический вопль одинокой планеты, которая, кружась, летела в космосе. В Италии Ту нравилось ходить по дому обнаженной, и у нее не возникало чувства вины, когда она громко скандировала шестнадцатый псалом. Однажды она сказала: «Как это ни ужасно, но жизнь не принимает ничью сторону».
Итак, тот Сатклифф, которого Блэнфорд придумал для своего романа «Месье», в ранней версии застрелил свое отражение в зеркале. «Мне ничего другого не оставалось, – объяснил он Блэнфорду. – Или он, или я». Писатель Блэнфорд вдруг ощутил себя до предела сжатой версией малого эпоса. Заживо погребенным! Костыли натирали ему подмышки. Он стонал и чертыхался, волоча себя туда-сюда по комнате.
* * *
Искусство почти не дает утешения. У Блэнфорда в душе постоянно гнездился страх, что его слишком уж личным сочинениям не достичь понимания читателя. Напыщенный и чахлый, сегодняшний продукт – скудный, как слюна или сперма, вот оно, следствие слишком рьяного приучения к горшку, которым когда-то мучила его мать-чистюля. В итоге – проза только о самом себе и такие же стихи, типичные для современного, страдающего запорами художника. В обыденной жизни это самодовлеющее нежелание контактировать с окружающим миром, подчинять себя, с кем-то делиться, в конечном счете может привести к кататонии! Среди «острых» больных в клинике «Летерхед» был один кататоник[2]2
Страдающий психическим расстройством, сопровождающимся мышечным спазмом.
[Закрыть] в сумеречном состоянии, которого можно было подвесить за воротник – на крюке для мясной туши он медленно покачивался, приняв позу эмбриона. Похожий на летучую мышь, он смотрел свои амниотические[3]3
Амниоты – высшие позвоночные животные, у которых на ранних стадиях развития образуются зародышевые оболочки.
[Закрыть] сны, убаюканный колыханием воображаемой утробной жидкости. Вот все, что осталось от когда-то хорошего поэта. Всю свою осознанную жизнь он страдал творческим запором, отказывался делиться тем, что его переполняло, вот и довольствуется теперь «жизнью» в кавычках. Блэнфорд протянул руку и коснулся первого варианта своего романа «Месье». Эту рукопись он подарил Ту, и она отдала ее в переплет. Интересно, где в его воображаемой жизни, которая на самом деле и была его реальной жизнью, следует находиться Сатклиффу? Так бы хотелось поболтать с ним. В последний раз до него дошли слухи, что Сатклифф в Оксфорде и прославился работой над исследованиями своего друга, касающимися ереси тамплиеров. Последней весточкой от него была загадочная открытка: «Оксфордского преподавателя легко отличить от прочих благодаря убирающейся крайней плоти».
* * *
Блэнфорд отважился снова вернуться мыслями к Ту и вдруг почувствовал жар, как при высокой температуре. Задыхаясь, он поднялся и с трудом открыл большое окно – от потолка до пола, – впустив облако снежинок и холодный ветер. Высунув голову, он смотрел на лужайку сквозь клубы пара, сразу сгустившиеся у рта. Театральным жестом прихватив немного снега, Блэнфорд потер виски, после чего вернулся на свое место возле камина и к своим мыслям. Вот и Кейд с чайным подносом бочком скользнул в комнату и, не говоря ни слова, сервировал стол, при этом с его желтой, типично пуританской физиономии не сходило выражение страстной сосредоточенности, какое можно увидеть на лицах лишь очень глупых, но хитрых людей. И еще он был преисполнен смиренной гордости, ибо на предплечьях его был распластан новый лечебный корсет, который наконец-то прислали, подогнав по размеру, из мастерской. Блэнфорд очень надеялся, что, благодаря этому приспособлению, он когда-нибудь совсем избавится от костылей. С его губ слетело радостное восклицание, когда Кейд, бесстрастный, как мандарин, снял с него старенькую твидовую куртку (с кожаными заплатами на локтях), самую его любимую, и стал прилаживать жилет из мягкой серой резины и невидимых стальных пластин.
– Поднимайтесь, сэр, – в конце концов произнес Кейд.
И писатель, недоверчиво улыбнувшись, подчинился; да-да, теперь он может ходить по комнате, передвигаться на собственных ногах, хоть и медленно. Вот уж чудо так чудо. Однако поначалу жилет разрешалось носить не больше часа в день, чтобы тело привыкало к этому жесткому каркасу.
– Чудесно, – громко произнес Блэнфорд.
Несколько секунд Кейд внимательно следил за ним, потом, кивнув, занялся своими делами, Блэнфорд же, чувствуя себя заново родившимся, стоял, прислонившись к каминной полке и глядел на валявшиеся на полу костыли. Кейду не понять, что значило для него это новое приспособление. Слуга был похож на проныру из плебеев, каким и был на самом деле. Блэнфорд с любопытством смотрел, как он перемещается по комнате, вытряхивает пепельницы, наполняет водой блюдце на батарее, меняет воду в вазе с оранжерейными цветами.
– Кейд, – сказал Блэнфорд, – Констанс умерла.
Слуга бесстрастно кивнул.
– Знаю, сэр. Я взял трубку в коридоре.
Вот так. В этом весь Кейд. Покончив с уборкой, он так же молча, опять бочком покинул комнату.
Из угля – бриллиант,
Жемчуга – из песка.
Любой процесс причиняет боль, а мы часть процесса. До чего же химерны утешения искусства – основополагающий страх смерти неодолим; страшно быть втянутым громадной раковиной, словно какое-то насекомое, в cloaca maxima[4]4
Великая помойная яма (лат.).
[Закрыть] смерти, anus mundi![5]5
Здесь: задница мира (лат.).
[Закрыть] Сатклифф писал о нем, скорее, он сам писал о себе, будучи в образе героя Сатклиффа, присвоив смешную фамилию Блошфорд, в романе «Месье»: «Женщины были для него всего-навсего продажными тварями. Нет, он не заблуждался на их счет; о нет! Он видел их насквозь, по крайней мере, ему так казалось. То есть он не просто заблуждался, а был дурак дураком».
Блэнфорд задумался. Интересно, Констанс и ее сестра Ливия тоже такие же? Одна блондинка, другая брюнетка. Одна с «бархатной» тайной, другая с клювом лебедя?
В какой из книг ему попались на глаза эти строчки, подчеркнутые Констанс? В эту минуту опять захлебнулся звоном телефон, и Блэнфорд сразу понял, кто звонит – это мог быть только созданный им Сатклифф. Наверно, ему телепатически передалась весть о Констанс (Ту). Лишь теперь Блэнфорд осознал, что весь день ждал этого звонка.
Пренебрегши принятым «алло», он сразу же спросил своего confrêre, semblable и frêre:[7]7
Соратника, себе подобного и брата (фр.).
[Закрыть]
– Вы знаете о Ту?
В ответ голос Сатклиффа, пробившийся сквозь сильный насморк и дрожащий от горя, отозвался:
– Боже мой, Блэнфорд, что же теперь с нами будет?
– Мы будем и дальше терзаться из-за собственной бездарности; и дальше попробуем убеждать людей в том, что не совсем бездарны. Мне тоже плохо, Робин, хотя я не ожидал от себя ничего подобного. Меня слишком часто посещали мысли о смерти, и мне казалось, что я держу в послушании гиппогрифа;[8]8
Крылатый конь (греч. миф).
[Закрыть] и, разумеется, как все, я втайне был уверен, что умру первым. Наверно, Констанс тоже на это рассчитывала.
– Из-за вас моя жизнь остановилась, когда умерла Пиа, – с упреком и печалью произнес Сатклифф, после чего громко высморкался. – На какое-то время я занял себя основательным переписыванием книги Тоби о тамплиерах: кое-где позолотил, придал высокопарности, чтобы немного облагородить стиль этого вечно пьяного наставника юных душ. Но он теперь знаменит, а меня обуяла жажда перемен, хочется новых впечатлений. Тобиасу принадлежит Кресло в Истории, которого он домогался. Почему не Диван? Он будет жить в откровенном страхе, во весь голос разглагольствуя перед молодым поколением наркоманов-душителей о поистине резиновой чиновничьей «кормушке», которая может растягиваться бесконечно. – Он невесело хохотнул. – А как же я? Неужели вы не придумаете ничего, чтобы я избежал Ловушки?
– Робин, вы умерли, – ответил Блэнфорд. – Помните конец «Месье»?
– Верните меня обратно, – с пафосом произнес Сатклифф, – а там посмотрим.
– Что сталось с великой поэмой и с книгой «Tu Quoque»?[9]9
Ты тоже (лат.). (Часть выражения: «И ты, Брут!»)
[Закрыть] – резко спросил Блэнфорд.
– Прежде чем закончить, мне надо было немного оправиться после смерти Пиа. Ловко вы придумали соединить в ней Констанс и Ливию, а я всегда сомневался в том, что сумею точно ее описать, просто потому что был ослеплен любовью. Мне не хватало жестокости. Да еще я не знал, как быть с Трэш, ее чернокожей возлюбленной. Наверно, ваша история лучше моей, во всяком случае, печальней. Не знаю. Но смерть Ту, бедняжки Констанс, должна быть воспета елизаветинцем.
Почему-то Блэнфорда это рассердило, и он холодно проговорил:
– И правда, почему бы не сочинить поэму «Соленые слезы Сатклиффа над могилой Ту»?
– Почему бы и нет? – отозвался его коллега, его раб. – Или, скажем, в стиле семнадцатого столетия: «Рыдания Сатклиффа»?
– Поэзии, – уже гораздо тише произнес Блэнфорд, словно разговаривая с самим собой, – которую порождает исключительно печаль; но поэзия в стиле «юмбо», что-то вроде супермаркета, подходит для всей семьи. Очень удобно. Робби, вам нельзя оставаться в Оксфорде, очень уж тоскливо. Давайте я отправлю вас в Италию?
– Еще один роман? Почему бы и нет? – Однако голос Сатклиффа звучал не очень уверенно. – Мне кажется, пора и вам что-то написать. На сей раз правдивую историю вашей любви, нашей любви, посвятив ее Констанс и, конечно же, Ливии, несмотря на все, что она сделала вам, нам, мне. Постарайтесь, если это не слишком болезненно для вас.
Еще бы не болезненно. Такое горе!
Блэнфорд долго не отвечал, и тогда Сатклифф проговорил, своим обычным светским легкомысленным тоном:
– Весной я ездил в Париж с девушкой, похожей на Пиа-Констанс-Ливию. Так там буквально к каждому слову приставляли архи. Наверно, это все равно, что у нас супер. Вот так, архи это, архи то. Мне пришло в голову, что я могу назвать себя архирогоносцем, как вам? Я даже дошел до того, что стал думать о себе как об идеальном архирогоносцесветя-щемся.
– Н-но я рассказал о нас правду, п-пусть по-своему, – запинаясь произнес Блэнфорд. – Ливия вытащила меня из пропасти отрешенности. Мне всегда требовалась незатейливая, как перышко, девушка; ну а Ливии, оказывается, нужно было спариваться с негритянкой. Проклятье!
– Ага! Вы любили ее. Мы оба ее любили. Но вы солгали, наделив ее женственностью сестры. Вы сделали ее женственной, а надо было сделать мужественной, активной, так сказать.
После паузы, во время которой в головах у обоих писателей с бешеной скоростью проносились мысли о книге (Блэнфорд называл ее «Месье», а Сатклифф – «Князь тьмы»), их то и дело замиравшая беседа продолжалась. Одинокие люди имеют полное право разговаривать сами с собой, тогда почему бы одинокому писателю не поспорить с одним из своих творений, тем более, с коллегой? – спросил себя Блэнфорд.
– Охотимся на личности, которые пребывают еще в стадии куколки! Насколько я понимаю, Ливия оказалась…
Сатклифф застонал.
– Да, парнишкой, который подносил порох канониру, из-за нее разгорелось адское пламя, – от боли чуть не срываясь на крик, закончил Блэнфорд, потому что ее красота больно ранила его, дразнила, сводила с ума.
– Да. Это пересохший источник, – согласился Сатклифф, – огонь не зальет. В сущности, кто такая Ливия, что она такое?
Мы хором эту детку восхваляли.
О чары совершенства! Накинув тогу,
Она прилежно постигала йогу,
А ты. Кювье[10]10
Кювье, Жорж (1769–1832) – французский зоолог, в частности, ввел в зоологию понятие «тип». (Прим. ред.)
[Закрыть] наш по вопросам страсти нежной,Все парня в ней высматривал прилежно,
Заполучив и плоть ее и разум.
Она – по доброте – любила без отказа,
Но после, втайне от супруга,
Искала член длинней – по всей округе.
– Робин, хватит, – вскричал Блэнфорд, у которого голова пошла кругом от горя, едва он представил темноволосую головку Ливии рядом на подушке.
Сатклифф мрачно засмеялся и продолжил пытку своими экспромтами.
Люблю я вопреки желанью, Желаю вопреки страданью!
А ведь Сатклифф прав, все началось в Женеве – в одно из унылых женевских воскресений. Стояли холода; какими-то неприкаянными и опухшими казались двоящиеся под выморочным светом заснеженной луны швейцарцы. Он покрепче закрыл глаза, чтобы слышать взволнованную перекличку звезд и лучше представить, как обедал в «Баварии», не в силах забыть ее лицо, оно нежно сияло перед его мысленным взором, пока он заглатывал похожих на плоды жожобы непременных огромных устриц. Уф! Какое убожество! Набоков, a moi![12]12
Ко мне! (фр.). (В смысле: «выручай!»)
[Закрыть] В отелях жизнь была оклеена обоями из вздохов. На другой день озеро, белые лестницы в рай – в солнечных пятнах. «Завтра из Венеции приезжает моя сестра Ливия. Она очень хочет познакомиться с вами».
Это была Констанс, созданная для настоящей любви, как виолончель для музыки, а на некоторых нотах и в определенном настроении – глубина виолы. Прошло много времени, прежде чем оба поняли, насколько весомы слова, которыми они обменялись; их смысл был воспринят и осознан на другом уровне, гораздо более тонком, чем обыкновенная речь. Сестры совсем недавно унаследовали полуразрушенный шато Ту-Герц (вот откуда взялось прозвище Констанс), рядом с деревней Тюбэн в Воклюзе. Неподалеку от города, который хранил столько дорогих воспоминаний.
На этом месте Сатклифф вновь грубо вторгся в размышления Блэнфорда, с сопением поправив много раз чиненные очки.
– У Ливии было нечто, восхищавшее вас – этот любовный жар в крови; она заслужила, чтобы ее запечатлели в стиле, который стоило бы назвать метареализмом – я имею в виду ее приверженность Осирису, части тела которого были разбросаны по всему Средиземноморью.[13]13
Согласно одному из мифов египетский бог Осирис был после гибели рассечен на 14 кусков. Убийца (его собственный брат Сет) разбросал их по всему Египту. (Прим. ред.)
[Закрыть] Хватит, Блэнфорд, хватит порноэксцентрики. Лично я охотился за прозаической фразой, в которой было бы больше мускулов, заметьте, приятель, не жира, а мускулов.
– Роб, запомните, – возразил Блэнфорд, – все, что вы пишете обо мне, крайне сомнительно – во всяком случае, спорно. Вообще-то, я вас придумал.
– Или я вас, а? Кто курица, кто яйцо?
– Суть в том, что в те времена мы плохо знали себя; не умели наслаждаться своей молодостью, как это здорово – просто валяться в траве и уплетать вишни. Бархатное английское лето юности, густая трава, стук крикетных мячей, примета восхитительно долго тянущихся летних каникул между учебными годами. Далекие удары, когда кто-нибудь загонял мяч на границу площадки, в высокую траву, над которой вечно моросил мелкий дождик из сверчков, но она оставалась сухой. Мы спали в лоне вечного лета.
– Однажды Ту сказала, что природа избавляет ее от половой дисфункции, принуждая к стерильной любви – с биологической точки зрения недозволенной. Какой смысл в нашей вере в свободную волю? Она считала нас лунатиками, загнанными в поток неодолимого сладострастия. Слабое утешение, – громко произнес Блэнфорд, – для трусоватого Робина Сатклиффа, который торчит в замызганном домишке, и глуша себя алкоголем, движется к цели – к прыжку с моста. Его Хароном была кривобокая смуглая карга с вороньим клювом, которая могла угодить любому вкусу.
– Наверно, так, – вздохнул Роб. – Повязка на глаза, хлыст, наручники – надо было побольше всего этого засунуть в книгу, а не полагаться на вас. Свои грязные комнаты она сдавала даже не на день, а на час. Там я искал Пиа, как вы искали Ливию, когда нашли ее в постели этой маленькой горбуньи с фисташковыми глазами.
Блэнфорд поморщился, вспомнив хриплый натужный смех между сигаретными затяжками и приступами кашля. Она сказала о Ливии: «Une fille qui drague les hommes et saute les gouines».[14]14
Эта женщина охотится на мужчин и бросается на женщин.
[Закрыть] И он ударил ее по лицу нитяными перчатками. А Сатклиффу твердо сказал:
– Это ваш долг – показать, как Ливия опустилась до уровня бедной Пиа.
– Пиа dolorosa,[15]15
Скорбящая (лат.).
[Закрыть] – ответил Сатклифф. – Одной книги тут никак не хватит, да?
– Скажем так, просматривая кривые будущего, я увидел классический вариант квадрата с точками по углам и с пятой точкой посредине. Квинтет. Пять романов, написанных в четко выверенном эллиптическом[16]16
Имеется в виду стиль, при котором не проговариваются некоторые части предложений, но их легко домыслить. Это придает тексту большую живость и компактность. (Прим. ред.)
[Закрыть] стиле, в данном случае самом целесообразном. Складываться в серию, будто это костяшки домино, они не должны, пусть даже они будут перекликаться, как эхо, объединять их будет только принадлежность к одной группе крови – пять панно, для которых ваш скрипучий старичок «Месье» уже наметил несколько тем, их и будем развивать дальше. Итак, Робин, за дело!
– А взаимоотношения формы и содержания?
– Эти книги будут в одной связке, как альпинисты на скале, но все же совершенно независимыми друг от друга. Что-то вроде гусеницы и бабочки, головастика и лягушки. Вполне органичные отношения.
– В вашем проекте кроется обычная опасность, – простонал Сатклифф, – в романах будет чересчур слишком много теоретических рассуждений.
– Нет. Ни в коем случае. Отвечаете своей жизнью. Должен получиться роман-gigogne.[17]17
«Раздвижной» роман (фр.).
[Закрыть]
– Чем несчастнее творец, тем искреннее музыка – по крайней мере, я так думал. Теперь не знаю. Очень было бы интересно поразмышлять об искусстве, найти свежий ракурс.
– Дорогой старина Роб, недозволенное придает коже восхитительный блеск. Кровь лучше бежит по жилам, от постыдных тайн буйно расцветает страсть, словно какое-нибудь тропическое растение. Берите пример с меня.
Весь тот снежный день напролет Блэнфорд беседовал со своим творением, стараясь объясниться с самим собой, разобраться в своих чувствах и мыслях. Он хотел подвести итог – словно стоял на пороге смерти.
* * *
– Прикрываясь своей немощью, я следил за ней и подмечал каждую подробность я жаждал уличить ее в неверности. Я высматривал в зеркале, как приходит и уходит моя Ливия. С высокого балкона я смотрел, как она гуляет по Венеции, и видел женщину, которая шпионила за ней по моей просьбе – за довольно большую плату. У Ливии была привычка оглядываться через плечо, не идет ли кто следом; умная, изящная, нервная, похожая на ожившую кариатиду, она завоевала мое сердце своей естественной чувственностью. С этого смуглого лица можно было бы сделать потрясающую посмертную маску – аскетически-бледную, с овалом в форме сердца. Под стать трепещущим губам и рукам, когда ее одолевала страсть.
Господи, ну и неразбериха – на самом деле я любил Констанс. Она как будто стала моей второй кожей. Странная фраза: «Остаток жизни». Какой в ней смысл? Ведь ясно, что сей небольшой отрезок времени – постоянно уменьшающийся – начинается сразу в момент рождения. Когда вы узнали, что женились на лесбиянке, что вы сделали? А, Робин?
– Как дурак приставил револьвер к виску.
– Даже писатель обязан быть правдивым, когда речь идет о смерти. Сначала вы рассмеялись – положение-то смешное.
– Самое ужасное, что я по-настоящему любил ее, мою Пиа, – сказал Сатклифф. – Надо же, быть обесчещенным таким вот образом! Вы ведь и сами жили с лесбиянкой! Они сжигают ваш кислород, потому что плохо адаптируются и не могут не лгать. Они уничтожают классическую жалость, свойственную любви. Вместо нее – печаль. И красота их, Блэнфорд, разит точно копье.
– Точно копье, старина, точно копье.
– На Риджент-стрит, в убогом пабе, женщина, от которой я никак не ожидал сочувствия и понимания, прислушалась к моим стонам и сказала: «Кто-то, видать, крепко вас обидел, по глупости, все ветер в голове. Постарайтесь рассмеяться, надо сказать себе, что вранье всегда бывает наказано». Вот ведь какая глазастая оказалась, черт ее побери!
– Ваша глазастая права. Но ей не пришлось видеть Ливию, когда ту загоняли в угол, когда она с горящим взглядом отчаянно лгала, – понимаете, ей самой была отвратительна ее извращенность. И она бы ни за что не призналась добровольно. Даже загнанная в угол, она сражалась до конца. Привязанная к штурвалу тонущего корабля самоуважения – а кто не привязан? – она шла на дно – в мои объятия. Некоторое время слежка за ней была постоянной, но однажды… Моему слуге Кейду пришлось ехать в Англию на похороны матери, и я отправился в отель «Лютеция», что на узенькой улочке; вечером я сидел там и смотрел, как на город опускаются сумерки и над каналами зажигаются огни. Улочка была настолько узкой, что балконы домов по обеим ее сторонам почти соприкасались, по крайней мере, так мне казалось. Тремя этажами выше лорд Гален, преисполненный ощущения собственной значимости, читал «Файнэншл Тайме». Я зашел к нему выпить по коктейлю и, стоя на его балконе, глянул на другую сторону улицы, и тут в темной комнате – прямо напротив – вспыхнул свет. Там, зевая и потягиваясь после сиесты, лежали две женщины. Одна поднялась и подошла к балкону, чтобы распахнуть ставни. Малышка подняла глаза, и наши взгляды встретились. Это была моя шпионка, абсолютно голая, а за ее спиной в смятой постели дремала Ливия, прикрыв пальцами промежность, словно опробывала скрипку перед тем, как начать играть. Чуть опустив веки, она, по всей вероятности, мысленно листала клавир своих фантазий. Вот так, соблазнила мою шпионку! Сцена длилась не более секунды. Девушка метнулась в комнату, я тоже. Как громом пораженный, задыхаясь от ярости, я ничего не сказал старому банкиру, который в тот день был больше, чем всегда, расстроен курсом медных акций – когда-то в его ведении находилась часть скромных вкладов моей матери, и он так и не избавился от восхитительных анальных[18]18
В концепции Фрейда о типе личности есть так называемый «анальный характер», который свойственен людям, отличающимся упрямством, скупостью и запасливостью. (Прим. ред.)
[Закрыть] терзаний из-за денег.
– Итак, вы пришли в ярость и отправились в бар, – отозвался Сатклифф, – портье вручил вам толстый конверт с потрясающими газетными вырезками: полные вранья интервью и фотографии. Мне всегда хотелось кое о чем вас расспросить. Газетчики, к примеру, утверждали, будто вы вот что им заявили: «Занимаясь своим делом, я никогда не искал славы или богатства. Я искал счастья».
– Я действительно так говорил. Сущую правду.
– А как насчет счастья? Нашли? – спросил Сатклифф с легкой гнусавостью, пародируя настырного репортера.
– Роб, счастье находишь, только когда перестаешь его искать.
– И все же?…
– Нет.
– Но почему?
– Я бы непременно вам ответил, если бы знал,
что сказать.
– Я так и понял, что не нашли. Когда вы вернулись в свою квартиру, то очень скверно сыграли токкату на фисгармонии.
– Музыкальное сопровождение к нервному срыву. Я размышлял обо всей нашей психоаналитической болтовне насчет океана сексуальных побуждений. Дойдя до предела мужского отчаяния, я крикнул: «Господи, Боже мой, за что ты соединил меня не с женщиной?» Когда Ливия спала со мной, о ком она думала, кого любила в своих фантазиях? Кто был моей соперницей, смуглой леди сонетов? Откуда мне было знать? Она отлично маскировалась. Однажды заведясь от обычного поцелуя, она отвернулась и словно на кого-то смотрела, используя меня в качестве machine a plaisir.[19]19
Инструмента для получения удовольствия (фр.).
[Закрыть]
– И все же у вашей Ливии были идеалы.
– Идеалы недосягаемы – именно поэтому стоит ими обзаводиться. Яблоко надо сорвать с ветки. Если дождаться, пока оно упадет само, то неизбежно разочарование – станет ясно, что оно – лишь плод воображения.
– Яблоко, явившее закон тяготения, было желанием Ньютона?
– Безусловно. Кроме того, не забывайте, что мы крайне мало знаем свою истинную сущность, свои склонности и пристрастия. Потому мы с Констанс и отправились в Вену, хоть чему-то научиться.
– Но это не принесло вам облегчения, наоборот, вы еще больше расстроились, узнав правду о своей сексуальной ориентации.
– Возможно; и все же знание – своего рода экзорцизм.[20]20
Изгнание злых духов. (Прим. ред.)
[Закрыть] Я очень благодарен Констанс, она, в отличие от меня, читала по-немецки и держала нас в курсе того, что писали в Вене и Цюрихе; и хоть учебу она забросила, но врачом успела стать замечательным. Собственно, она и помогла мне понять Ливию.
– И какая от этого была польза?
– Никакой. Просто знать – этого мало, этого всегда мало, но теперь я мог посочувствовать ей. И я многое понял, например, причину нападавшей на нее время от времени демонстративной неряшливости, это был своего рода бунт против своей постылой женственности, желание шокировать мужчину. Или еще одна черта: она никогда не могла посидеть спокойно, все ей надо было куда-то бежать. По нескольку раз на дню она отправлялась в деревню – якобы забыла что-то купить. Меня это поражало, я чувствовал, что это вранье, и, конечно же был прав. Как говорила Констанс, она попросту высматривала добычу – грозный рыцарь в доспехах! Все это, естественно, было очень ценно, я имею в виду информацию. А вы как думаете?
Сатклифф промолчал, и Блэнфорд, раскурив сигару, продолжал:
– Скоро не останется никого, с кем можно иногда поболтать, кроме вас. До чего же грустно – и что я буду делать? Да и вы ужасно меня утомляете! Наверно, я сойду с ума.
– Мы напишем книгу.
– О чем?
– О бесконечности отчаяния, о неподатливости языка, о недоступности искусства, о скуке любви.
– Ливия и Констанс – два лица? Переставленные головы!
– Два липа. Понимаете, Обри, мужчина-гомосексуалист любит свою мать, а женщина-лесбиянка свою мать жестоко ненавидит. Вот почему она не рожает детей, а если рожает, то производит на свет любимца эльфов[21]21
Имеется в виду ребенок, которого сказочные эльфы оставляют людям взамен похищенного (подменыш).
[Закрыть] либо ведьму. Мы с вами что думали? Что будто бы Ливия любила свою сестру Констанс, потому и вышла за вас замуж, чтобы исключить ее из игры. Ей было нестерпимо больно представлять вас вместе.
– Но Ливия спала с множеством мужчин.
– Конечно, и делала это с дерзким презрением, чтобы доказать собственную маскулинность, превосходство своего мужского «я». Храбрая картезианка.[22]22
Картезианцы – члены католического монашеского ордена, получившего название по своему первому монастырю в Шартрезе, основанному в 1084 году. К началу 1970-х годов малочисленные общины картезианцев сохранились в Италии, Испании, Франции и других странах.
[Закрыть] Она бегала по подружкам, предъявляя им окровавленные мужские скальпы. Своего рода антиреклама. «Смотрите, какие эти мужчины слабаки, как просто заполучить их скальп!»
– Увы, возразить нечего. – Сатклифф дотронулся до лысины на макушке, совсем недавно появившейся на его крупной голове. – После того, что я пережил с Пиа, пришлось купить накладку, – признался он. – Точнее, после всей этой психоаналитической тарабарщины. А ведь я узнал только то, что активные лесбиянки печально известны своим нежным отношением к собакам – но я-то не пес и не собираюсь им становиться. Еще один вопрос – Иисус был лесбиянкой?
– Вот этого не надо, – сказал Блэнфорд. – Не выношу зряшного богохульства.
Тогда Сатклифф и спел коротенькую психоаналитическую песенку, которую сочинил когда-то в честь великих мужей науки:
Радостный,[23]23
Прозвище Фрейда, чья фамилия означает «радость» (нем.).
[Закрыть] Юный,[24]24
Прозвище цюрихского психолога Юнга.
[Закрыть] Неистовый,[25]25
Неистовый (frenzy – англ.), намек на венгерского психиатра Ференца Шандора.
[Закрыть]
Гроддек,[26]26
Гроддек, Георг – психиатр из Баден-Бадена.
[Закрыть] Неистовый, Юный.
Оборвав себя, он неожиданно спросил:
– Et le bonheur?[27]27
И счастье? (фр.).
[Закрыть]
– Конечно.
– Не может быть, чтобы его нельзя было найти. Где-то оно должно быть, просто его не видно. Почему бы нам не написать подробную автобиографию? Давайте! Поквитаемся со всеми!
– Последнее средство защиты! Все на борт ради последнего алиби!
– Что говорит мужчина, когда от него уходит жена? Он в ярости, вопит: «Во что ты превратила плиту! Всю искорежила! А кто будет жечь сахар для этого чертова пирога? Горло дерет от твоей кислятины?!»








