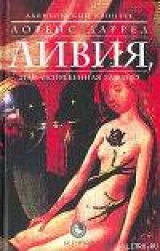
Текст книги "ЛИВИЯ, или Погребенная заживо"
Автор книги: Лоренс Даррелл
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 17 страниц)
– Или ищет утешения в искусстве: приятно вспомнить крики задыхающейся Дездемоны.
– Или станет вдовцом и с отчаянья обзаведется волосатой горничной, которая в положенное время родит малютку цвета ревеня.
– Участь романистов, связавшихся с поварихами. Но у меня один Кейд, и он не умеет готовить…
Снег все падал и падал на парк с покорными вязами, ветки которых были усеяны грачиными гнездами. Блэнфорд погрузился в раздумья о человеческой природе и ее немыслимом разнообразии, а Сатклифф в своем оксфордском жилище в этот момент повернулся к камину, чтобы подложить полено. Он ждал к ланчу Тоби, который должен был прийти с юной студенткой. Потом Сатклифф вновь взял трубку и сказал:
– Я правильно понимаю, что взаимоотношения наших книг будут в некотором роде инцестом? Они будут одна в одной, как в капсуле, а не просто дополнением друг друга? И места хватит для всего: для стихов, для автобиографии, рассказа и прочего, и прочего.
– Да, – тихо отозвался его создатель. – Полагаю, вам приходилось слышать об уникальном медицинском феномене под названием тератома?[28]28
Доброкачественная опухоль, связанная с нарушением эмбрионального развития. Тератология – наука, изучающая пороки развития у растений, животных и людей.
[Закрыть] Это нечто вроде мешка с недоразвитыми ногтями, волосами, зубами, который находится внутри какой-либо полости, наподобие доброкачественного новообразования. Его удаляют хирургическим путем. Вообще-то это близнец, который на некоей стадии решил больше не расти…
– Стало быть, компактный рассказ для книги?
– Да. Знаете, когда Пиа начала в вас влюбляться? Держу пари, что нет. Когда вы возмутительно повели себя в ЮНЕСКО, после чего начался большой скандал.
– Это вы про день рождения Шекспира? Им не надо было приглашать меня.
– А вам не надо было принимать приглашение. Вы же явились туда в доску пьяным и заняли место между величайшими поэтами современности, которые намеревались отдать дань уважения Барду. Кроме того, в зале был Тоби, он очень веселился и размахивал британским флагом. Верх неприличия.
– Да ну, что вы, – произнес с некоторым раздражением Сатклифф, – это был своего рода момент истины. Да и никто не смог ничего противопоставить моим двенадцати заповедям[29]29
См. Приложение, в котором дан полный текст Двенадцати Заповедей. (Прим. автора)
[Закрыть] – незаменимое пособие для тех, кто хочет творить великое искусство. Они вроде бы произвели сильное впечатление, когда я прорявкал их хриплым голосом в мегафон. Почему вы не использовали их?
– Когда-нибудь использую, если соберусь написать что-нибудь смешное. Из-за вас Унгаретти[30]30
Унгаретти Джузеппе (1888–1970) – итальянский поэт, представитель школы герметизма (от «ermetico», что означает «скрытой, уединенный»).
[Закрыть] чуть не лишился чувств. Потом, прочитав весь этот чудовищный бред, вы рухнули на большой фагот Общества любителей поэтов-елизаветинцев, причем на вас были гирлянды из проводов и микрофонов.
– Ну чем не Офелия, – умилился Сатклифф. – Но я не откажусь от своих заповедей, что бы там ни говорили французы. Позвольте, я их повторю – на тот случай, если вы что-то забыли или неправильно
поняли.
Он энергично откашлялся и произнес заповеди для одного Блэнфорда, который застенографировал их в блокноте, оказавшемся под рукой.
Потом Сатклифф надолго замолчал, в ожидании восхищения и аплодисментов.
– Жаль, что все плохо закончилось, но тут уж моей вины нет, – сказал он.
Наступила еще одна продолжительная пауза, во время которой Сатклифф громко и несколько жалобно высморкался, чувствуя неодобрение своего коллеги и покровителя.
– Где будут хоронить Ту и когда?
– Сегодня вечером, – с вымученной сдержанностью произнес Блэнфорд. – В склепе рядом с шато, по особому разрешению, без службы и цветов.
– Вы поедете в Ту-Герц?
– Потом, когда все дела будут улажены и шато закроют на зиму. Мне нравится, как дождь поливает наполненный памятниками старины Авиньон. Есть некая печальная роскошь в полном одиночестве. Острее всего это чувствуется ночью на пустом вокзале, в пустом аэропорту, в ночных городских
кафе. Сатклифф спросил:
– А что же с Ливией, которая в моей жизни и в моей книге стала Сильвией и сошла с ума? Как насчет нее в этом контексте?
– Ливия исчезла. В последний раз, насколько мне известно, ее видели вдвоем со старой чернокожей пианисткой. Они ехали в Испанию. Несколько лет назад мне рассказывала о ней ее знакомая; это происходило в доме, предназначенном для специфических оказий – ну, вроде того домика, в котором вы жили у старой ведьмы. Изредка я туда захаживал, просто на всякий случай, так как однажды обнаружил там трясущуюся то ли от усталости, то ли от наркотиков Ливию. Ее била сильная дрожь. Она тогда чуть не плача, потухшим голосом пробормотала: «Если мне сейчас никто не поможет, я подохну». И тут я понял, что люблю ее и никогда не брошу. А внутренний голос в ярости орал мне: «Дурак!»
– Там я искал Пиа.
– Она чуть не падала от измождения, но мы все же сумели дотащить ее до кухни, усадили на табурет и заставили поесть. Старуха сделала для нее несколько бутербродов. И тут Ливия неожиданно разрыдалась со словами: «J'ai failli t'aimer»,[31]31
«Я чуть было тебя не полюбила» (фр.).
[Закрыть] – вдоль ее дивного длинноватого носика в тарелку побежали слезы. Не переставая плакать, она стала есть – голодный и несчастный ребенок… я был потрясен. Молча смотрел на нее и кусал губы, вспоминая все, что она рассказывала о себе.
Однажды в темном зале кинотеатра какая-то женщина легонько коснулась рукой ее бедра, и Ливию прошиб озноб, словно душа ее стала галеоном, отданным на волю ветра и волн в разбушевавшемся море. Она не двигалась. Не говорила. Не отвечала на прикосновение. Потом поднялась и, не оборачиваясь, вышла из зала. В фойе ей стало плохо, настолько, что пришлось прижаться лбом к холодной, выложенной плиткой стене. Та же рука коснулась ее плеча, и голос произнес: «Позвольте вам помочь». С этого все и началось. Когда же она вошла в мою жизнь, я сразу начал воссоздавать ее на бумаге, стараясь быть предельно точным. Однажды она ушла, и мне стало так одиноко, что я привел в отель другую девушку из того же заведения, просто потому что она знала ее и могла что-то о ней рассказать, пусть даже и то, что могло причинить мне боль. С сильным французским акцентом несчастное создание с циничной готовностью поведало мне о многочисленных подвигах Ливии, добавив следующее: «Она очень дорого стоит. Среди девушек, которым это нравится, ее знают как Усы». Милый Роб, мою возлюбленную товарки называли Усами!
– Наверно, вы поступили мудро, сделав Пиа пассивной, а не активной, ведь это позволило придать ее образу измерение, которого нет у Ливии: она вызывает сострадание.
– Зато у Ливии был магнетизм, и ее было гораздо труднее описать. Я упорно старался вернуть ей хоть немного утраченной женственности, ну как… как наполняют опилками куклу, мне хотелось видеть слезы в ее глазах, я словно старался внушить ей молитву. А она исчезала на несколько дней, и тогда либо полицейские приносили ее домой мертвецки пьяной, либо она надиралась в баре, и ее вышвыривали на улицу. Знаете, со здоровьем у нее всегда было не ахти как, а она, мало того что слабенькая, еще постоянно над собой издевалась. Но сколько шарма! Устоять было невозможно, ведь от нее веяло ароматом опасности и свободы. Мужчины сдавались сразу, а она так мечтала обрести способность отвечать на их страсть… Да, она отдавалась им, но возвращая поцелуй, была лишь карикатурным подобием женщины. Чувства ее дремали, будто она находилась под наркозом, а душа была непроницаема, будто резина.
Забавно, – произнес Сатклифф. – Полагаю, едва вы надели ей на пальчик обручальное кольцо, правда выплыла наружу. То же самое я пережил с Пиа, и меня донимали смутные надежды на то, что, несмотря на все ее выходки, несмотря на дикий нрав, Пиа можно спасти – нужно только немного покоя и некое подобие размеренной семейной жизни… А уж мне-то пора было знать, как отличить лесбиянку, тем более активную, от нормальной женщины. К тому же она не умела ни плавать, ни танцевать, и в постели была бесчувственной, но доброй – ее поцелуи были даже нежными, как прикосновение крыльев мотылька, почти неощутимыми.
– Это вам не Ливия. Ее любимый лак для ногтей назывался Красным Садистом, и своего она добивалась с неистовством и упорством поросенка, ищущего сосок матери. Как настоящей хищнице, ей нравилось носить мех диких зверей. Выносливая и азартная, как похотливый мальчишка, она сама набрасывалась на меня, сама утоляла мою жажду отчаянной, изощренной чувственностью.
– Почему же вас так раздосадовало кольцо? В моем-то случае я просто чувствовал, что Пиа замыслила нечестную игру: собирается вести прежнюю жизнь, пользуясь статусом замужней дамы и стабильностью, которые я предложил ей. И я понял, что меня обвели вокруг пальца.
– А в моем случае дело было в самом кольце – оно принадлежало моей матери. Я прошел через все мучительные и путаные чувства единственного ребенка, превратившегося потом в изнеженного юнца, безнадежно избалованного. Школа была пыткой, общение с другими людьми – тоже. Она была моей единственной девушкой, моя мама, а я оставался vieux garcon, холостяком, до самой ее смерти. Вот тогда я и подумал, что одиночество будет не таким кошмарным, если в доме появится женщина. Естественно, у меня была долгая связь с Констанс; однако она не желала еще одного замужества. Но вернемся к Ливии. Она затерялась где-то в Азии, а в те времена требовалось ждать несколько лет, прежде чем предположительная смерть твоей половины давала шанс на развод. Вы немного изменили ее в Пиа. – Сами виноваты, сами сделали ее пассивной, а не активной. Пиа, такая очаровательная в белой ночной рубашке, послушно доводила мужа до «извержения» (нежно, покорно), но при этом была похожа на коллекционера птичьих яиц, «выдувающего» очередной трофей. Ну а потом, лежа в жаркой постели, она потихоньку мастурбировала и, как мне кажется, мечтала о fouetteuse или frotteuse.[32]32
Партнерше с плеткой или умелыми руками (фр.).
[Закрыть] Почему бы и нет? Нет ничего доступнее, чем мечты. Однако детские мечты, которые возвращают к раннему опыту половой жизни, так же неистовы, как мечтания отшельника. Спаси нас, Великий Ампутатор Яичников! Ведь женщина всего лишь station de pompage.[33]33
Насосная станция (фр.).
[Закрыть]
– Детство, с его жутким сексуальным и психологическим воздействием на психику – чудовищное испытание. Нет, Роб, такого никому не вынести!
– Но они верили в Бога. Иисус в качестве ограничителя! Как такое возможно?
Блэнфорд бросил сигару в огонь и, вдруг охваченный страстной тоской, вспомнил Ту. Она бредет вдоль озера, рядом с которым они поклялись навсегда принадлежать друг другу, душой и телом; он услышал, как она тихим голосом читает книжку о Ницше, которого они тогда решили изучить получше.
– Что происходит с пенисом? – задумчиво спросил Сатклифф. – Судя по словам мудрецов (с которыми вы консультировались, похоже, что без толку) с пенисом происходит нечто похожее на коронацию с последующим обезглавливанием – король до того низко кланяется дамам, что корона падает на красный ковер. Разве не так?
Блэнфорд согласился с этим утверждением и даже, несмотря на отвращение, развил его:
– Голова же предается выражению бисексуальных конфликтов и может ловко представлять как мужские, так и женские гениталии. Обе девушки ужасно страдали от мигреней. Все дело в вагинальных кровотечениях, которые можно было остановить, лишь вдыхая кокаин. Помните, гильотину называли La Vierge?[34]34
Дева (фр.).
[Закрыть]
– Плевать мне на ваши сказки! – воскликнул Сатклифф. – Все заканчивается жратвой, и вам ли этого не знать? Подъемом черного стяга каннибализма. Если нарциссисты (художники) не умеют любить, по какому праву они устраивают весь этот шум?
– Ваша правда.
– Si on est Dieи pourquoi cochonner?[35]35
Если ты Бог, не будь свиньей (фр.).
[Закрыть]
– Как говорится, вы чертовски правы. Полезная фраза.
Блэнфорд услышал, как его творение разорвало пакетик с картофельными чипсами и принялось жевать их, напряженно размышляя над всеми этими уже набившими оскомину проблемами. И тут Блэнфорд вспомнил свое детство.
– Единственный ребенок обречен на вечную тоску по прошлому и неуверенность в себе. Никто никогда не узнает, чего мне стоило преодолеть свои страхи и отчаяние и обрести профессию литератора. Соло, сиротство, сожаление… все начинается с «с». С Солнца-отца, Солнца-Сына и Солнца-Святого Духа. Она, то есть моя мама, тянула много лет, была прикована к постели, страдала от какой-то неизвестной болезни, вероятно, сердечной. Думаю, это было какое-то серьезное нарушение функции щитовидной железы – наверное, так. Из-за нее мама чувствовала слабость, из-за нее мамина кожа напоминала лепестки желтой магнолии, но мамины груди оставались упругими и не выпал ни один зуб. Мы жили вдвоем, без отца, в доме номер двадцать семь по Раскин-роуд, Саут-Норвуд – в мрачном доме, у которого было название «Лиственницы». На лужайке было много игривых скульптур и проржавевший и потому не действующий фонтан. У нас все было общее, мы даже спали вместе – и нам не нужны были слова. Я и теперь во сне слышу, как она вздыхает. Сборы в школу были настоящей пыткой: я упаковывал бутерброды, считал деньги, собирал тетрадки и книги, и поцеловав на прощание маму, уходил. Стерлинг, наш старый дворецкий, в видавшем виды и тряском «Моррисе» вез меня в школу, которая находилась возле Арунделя. Похотливый кокни, он обычно говорил мне: «Знаете, мастер Обри, что будет на следующей неделе? Так вот, я собираюсь хорошенько кутнуть, только не говорите вашей матушке, ведь она считает меня добропорядочным. Вообще-то она права, так оно и есть. Но только не в выходные. В Брикстоне у меня пара пташек, и мне не терпится поиграть с ними, мастер Обри, правда, не терпится».
Мой отец преподавал в одном из заштатных университетов. На фотографиях он выглядел крупным, несколько чудаковатым господином в черных ботинках на шнурках. Сколько я ни вглядывался в почти забытое лицо, оно ничего мне не говорило. «Послушай, принеси-ка мне сачок, булавки, пузырек с эфиром и оставь меня в покое». Так он сказал однажды моей матери, и она решила, что это очень невежливо. И расстроилась. В доме было полно ветхих чучел гусей и прочей дичи, а в кабинете стоял шкаф с множеством полочек – там хранились великолепные бабочки, размещенные, как полагается, на пробковых пластинах. Мне приходилось скучать по всей этой роскоши до рождественских каникул. И наконец наступало Рождество! Маленькие фигурки в вертепе с новорожденным Христом; и знакомый, сделанный из омелы[36]36
Омела – символ плодородия и плодовитости, издавна принято украшать на Рождество дом ветками омелы или сделанными из нее игрушками, является фаллическим символом – еще со времен друидов. (Прим. ред.)
[Закрыть] человечек в красном колпаке, с озорно торчащим членом. Этот весельчак несется ночью по заснеженным крышам на оленьей упряжке, и звенят, звенят колокольчики…
Иногда, слоняясь вечером по Лондону, я видел под желтыми шарами фонарей стайки озябших девиц, молчаливо продающих себя. А я торопился домой, к маме, боясь посмотреть ей в глаза, изнемогая от подавленных желаний и слишком очевидного страха перед сифилисом. Вот тогда и определилась вся моя дальнейшая жизнь – мама вскормила агнца для убоя, а Ливия была вооружена острыми ножницами. Причина и следствие, старина, потому для вас я предпочел изобрести более обеспеченное и здоровое детство. Вашими родителями были мельники, скажем откуда-то с севера, родом из настоящих крестьян и с надежным доходом. Однажды мне встретился ваш прототип, он сидел рядом со мной в Авиньонском ресторанчике, и я записал в блокноте: «Она весьма изящна, зато он огромный, голова как яйцо, с довольно странным отрешенным лицом. Они источали запах неутомимых любовников, и зевали в течение всего обеда».
– Благодарю вас. А в школе мы учились вместе?
– В разных школах, но в одно время.
У Сатклиффа зазвонили в дверь, и он пошел открывать, потом вернулся к телефону.
– Тоби приехал, – коротко сообщил он. – А я, знаете ли, всем говорил, что жил в Ирландии, под мышкой у феи. И все делали вид, будто верят мне, так что у меня никогда не возникало ваших проблем. Ваш смех был уловкой, тактическим приемом, а я – хохотал совершенно искренне, от души.
– Не уверен, – с сомнением произнес Блэнфорд, – но то, что мамочка безгранично меня любила, сущая правда. Итог: я писал благостные стихи в стиле Морриса.[37]37
Имеется в виду поэт, художник, теоретик искусства Уильям Моррис (1834–1896). Для литературного творчества Морриса характерна романтическая стилизация.
[Закрыть] Но очень скоро образумился. Правда, от этого мало что изменилось, – мы оба влюбились в Ливию, но только я был очень легкой добычей; естественно, из-за моей тайной влюбленности в Ту.
Когда же подошел ваш черед, вы оказались менее уязвимы, вас ведь не баловали в юности, и вы сумели с похвальным юмором преодолеть катастрофу. По крайней мере нашли в себе силы, стоя на Мосту Вздохов, громко вопить, размахивая палкой: «Спаси меня, Пиа, спаси! Сейчас меня смоет с кормы, как Лорела и Гарди![38]38
Стэн Лорел и Оливер Гарди – американский комедийный Дуэт, особенно знаменитый в 1930-х годах.
[Закрыть]» Я бы на такое никогда не решился. Меня занимало другое – как переполнявшие меня мысли выразить одной емкой метафорой. Тогда я уже уяснил нечто конкретное: просто искусство вызывает легкое волнение, а от великого – кружится голова, оно благотворно. Я старался внушить это вам с помощью разных людей, чтобы в ваших сочинениях появились энергия и ирония. Но поскольку человеческое сознание искажается в процессе наблюдения, то мы с вами, увиденные третьим человеком, выглядим как карикатуры друг на друга. Не слишком ли мы пылко обмениваемся разнообразными ностальгическими воспоминаниями о нашей дружбе?… Точно любовники, обсуждающие былую страсть, которой, возможно, никогда не существовало. Два поэта, щедро одаривающие друг друга ракушками каури, как африканцы, вместо настоящих монет. Пока образы не заставляют их очнуться. Робин, прежде чем покорно убить себя, вы написали на полях незаконченной рукописи – поэмы «Tu Quoque»: «У меня есть груди, как у Тиресия,[39]39
В греческой мифологии прорицатель, по воле богов на семь лет был превращен в женщину. (Прим. ред.)
[Закрыть] который всё видел, все испытал, и раздвоенный хвост в форме громоотвода. Ну, и копыта».
Блэнфорд услышал грохочущий смех Сатклиффа и хруст чипсов на фоне хриплого кашля Тоби и женского голоса. Он никак не мог представить лицо женщины, потому что пока ее не придумал. Еще успеется, подумал он. О Боже! Писатели!
– Тоби сочиняет вам некролог для «Тайме», – сказал Сатклифф. – Знаете, он подрабатывает на кладбище, пишет к сроку нужные тексты. В некрологе есть фраза, которая вам понравится: «Говорят, что, будучи богатым, он дважды отказал ордену Чертополоха[40]40
Шотландский рыцарский орден.
[Закрыть]».
– Деньги дали мне книги, путешествия и возможность уединения. В любом случае, никому еще не удавалось быть лучше, чем он есть на самом деле. О чем еще вы хотели бы узнать, если я оживлю вас?
– Узнать о Ту; о Ливии; об их брате Хилари и о Сэме. Об озере и о Ту-Герц, и о прежнем Авиньоне. О нас, о нас настоящих.
– Тогда позвольте задать вам один вопрос, – холодно произнес Блэнфорд. – Насколько реальным вы себя ощущаете, Робин Сатклифф?
– Я постоянно об этом думаю, – помолчав, ответил его единственный друг. – А вы?
– Вы хотите знать о своей юности? Естественно, я отдал вам свою, ведь мы примерно одного возраста.
– Но выросли в разных слоях общества.
– Правильно, и все-таки мы ровесники, а возраст – это состояние ума. В двадцать – уж во всяком случае.
– Расскажите поподробнее, тогда я смогу действовать.
– Отлично.
* * *
Блэнфорд закрыл глаза и позволил воспоминаниям унести его в далекое прошлое.
По-видимому, был последний триместр в Оксфорде, и Хилари пригласил обоих попутешествовать с ним в летние каникулы по Провансу. Ни он, ни Сэм прежде не были знакомы с его двумя сестрами, Констанс и Ливией. Собственно, им о них вообще ничего не было известно. Совсем недавно юная Констанс унаследовала от престарелой тетушки небольшой шато Ту-Герц – в южной части Воклюза, неподалеку от Авиньона. Естественно, все звали ее Герцогиней Ту. Много раз дети, особенно когда были помладше, проводили у тетушки каникулы; но, постарев, она стала несколько эксцентричной, а потом и вовсе сумасшедшей; превратилась в затворницу, заперла ворота и перестала заботиться о доме, совершенно все забросив. Дождь и ветер были лучшими помощниками ее равнодушия; как-то выдалась очень снежная зима, черная черепица на крыше не выдержала, и снегом засыпало комнаты с причудливыми круглыми слуховыми окошками. В неухоженном парке попадало много деревьев, которые перекрыли тропинки и разрушили беседку. Когда-то ухоженные зеленые лужайки теперь были изрыты кротами, и повсюду шныряли зайцы. Все здесь питались, в основном, тушеной зайчатиной.
Хилари, надо отдать ему должное, честно предупредил о возможных трудностях; однако перспектива погреться на южном солнце и попить хорошего вина перевесила все сомнения. А самое главное – они были в ту пору молоды и здоровы. С Констанс им предстояло встретиться в Лионе, а Ливия собиралась присоединиться к ним попозже, уладив свои дела. Произнося имя Ливии, Хилари нахмурил брови, но с нежностью, как будто его что-то беспокоило в ее жизни. При всей его глубокой искренней любви к Ливии чувствовалась в его отношении некая отчужденность, словно он не совсем понимал ее, не то что Констанс. Судя по его словам, нрав у Ливии был дикий и непредсказуемый, Констанс же отличалась благоразумием, и на нее можно было положиться. Позднее выяснилось, что это в принципе верно, когда все про них стало известно – что именно, неважно… Короче, Ливия теперь постоянно жила в Германии.
Поскольку им посулили жизнь, лишенную комфорта и благ цивилизации, то в Лион было заранее отправлено весьма основательное лагерное имущество. Массивные раскладушки, пробковые шлемы, спальные мешки, москитные сетки… полная нелепость, ибо это годилось разве что для сафари – где-то, где еще есть львы, или для восхождения, скажем, в индийских Гималаях. Никто из них толком не представлял, что такое старый Прованс, поэтому не стоит слишком строго судить их за промахи.
Эпоха, которая породила их, сейчас давно забыта; в ту пору мир, едва оправившийся от одной войны, пытался собраться с силами в преддверии неизбежной второй. Лишь благодаря юным летам, им удалось не угодить в окопы – в 1918 году все они еще не достигли призывного возраста. Правда Сэму почти удалось прибиться к армии, но его разоблачили и отправили обратно в школу; а потом он поступил в Оксфорд, где мы трое стали неразлучными друзьями, хотя были очень разными. Главным в нашем маленьком сообществе был Хилари, поскольку казался нам самым опытным и к тому же бесспорным заводилой – светловолосый, высокий, с льдисто-голубыми тевтонскими глазами. У Сэма волосы напоминали паклю, он был коренастым и слегка неуклюжим. Я был… каким же был я, Обри Блэнфорд? Надо подумать.
Кажется, я был довольно медлительным. Сэм занимался боксом, Хилари – греблей, а все вместе мы иногда ездили верхом и, при случае, охотились с собаками, не соблюдая прежних обычаев.
По сравнению с ними я был менее подвижным, предпочитал сидячий образ жизни, из-за плохого зрения атлет из меня вышел неважнецкий, правда, фехтовал я неплохо и даже получил за это синий галстук.[41]41
Цвет Оксфордского университета – темно-синий.
[Закрыть] Постуайльдовский[42]42
Имеется в виду поэт, писатель, драматург Оскар Уайльд, любивший шокировать окружающих.
[Закрыть] декадентствующий Оксфорд больше не был местом, охлаждавшим мозги – напряжение, стрессы военных лет все еще не отпускали нас, ибо многие из тех, кто побывал в кровавой бойне, в 1918 году, вернулись в университет заканчивать прерванную войной учебу. Эти парни были дикими, как чужеземные варвары, какими-то издерганными.
Однако требуются определенные усилия, чтобы верно описать ту эпоху, уже основательно забытую; ее ценности и обычаи как будто спрятаны в самые дальние закоулки времени. Помните тот мучительный «переходный возраст»? Новый мир был жестоким и наглым, а старый был поражен анкилозом.[43]43
Анкилоз – неподвижность суставов (мед.).
[Закрыть] Все, кто уцелел после войны, жили, будто в преддверии ада. Интеллектуалы, скажем, Анатоль Франс и Шоу, были на пике славы; Пруст, несмотря на награды, еще не завоевал широкую публику. Генри Джеймс versus[44]44
Против (лат.).
[Закрыть] Уэллс.
Неужели я родился стариком? Пожалуй, у меня не было нормальной юности – моя юность началась в Оксфорде, когда я познакомился с Хилари. Он оказался самым искушенным из нашей троицы, исключительно по воле случая. Отец у него был дипломатом, но всегда возил детей с собой, отправляясь на новое место службы. Этот чопорный пожилой джентльмен был ярым приверженцем старины, и, где бы он ни был, везде нанимал учителей, которые обучали местному языку членов семейства. Таким образом Хилари и его сестры стали полиглотами и чувствовали себя, как дома, в местах, которые для меня были полумифическими – Центральная Европа, например, или Балканы, Румыния, Россия, Греция, Аравия… Правда, мы с Сэмом немножко говорили по-французски и по-итальянски, да еще кое-как по-немецки. Хилари же «владел» (во французском смысле этого слова) тремя языками, и еще на четырех довольно свободно изъяснялся. Эти навыки помогли ему добиться отличных результатов в Оксфорде. Занимался он археологией, его кумиром был Эванс,[45]45
Эванс, Артур (1851–1941) – английский археолог, инициатор раскопок дворца в Кносе (о. Крит), имевших огромное значение для исследования минойской (по имени легендарного царя Миноса) культуры. (Прим. ред.)
[Закрыть] его заветной мечтой были раскопки лабиринта в Гортине,[46]46
Гортина – древний город на Крите, где, по преданию, царь Минос велел построить подземный лабиринт для человекобыка Минотавра. (Прим. ред.)
[Закрыть] который все еще не нанесен на карту из-за его большой протяженности.
А Сэм? В глубинах моей памяти сохранилась такая картинка: разлегшись в высокой траве на краю крикетного поля, он грызет яблоко и хохочет – то ли над романом Вудхауса, то ли над романом Дорнфорда Йейтса. Не забывайте, мы ведь только что закончили школу, отчего даже унылый, хотя и очень жесткий Лондон манил нас, как мечта. Париж был Вавилоном. Честолюбивые замыслы Сэма были предельно четки и просты: забраться в одиночку на Эверест, а на обратном пути мимоходом спасти прелестную блондинку, заточенную в башне неким волшебником и, разумеется, на ней жениться. Потом он был не прочь попутешествовать с ней, переодев ее в костюм пажа, и стать одним из рыцарей Круглого стола. Очевидно пагубное влияние Мэлори на неокрепший ум. Я же хотел стать историком – в то время у меня не было ни малейшего стремления к этим рабским цепям к бумаге и чернилам. Я представлял себя автором какой-нибудь очень умной книги, посвященной некоторым проблемам средневековой истории, и стипендиатом Уодема,[47]47
Уодем – колледж Оксфордского университета; основан в 612 г. (Прим. ред.)
[Закрыть] что-то в этом роде. Как вы понимаете, самым умным из нас был Хилари со своим, как он говорил, «минойским уклоном» – ведь его планы и проекты открывали ему мир Европы. Я прав?
– Думаю, да; однако ваше, так сказать, публичное разоблачение скучновато – очевидно, зануда-историк еще не совсем погиб в бедняжке Обри. Я бы повернул по-другому.
– Как же?
– Я бы перечислил другое: форменные студенческие галстуки, тяжелые шерстяные шарфы, оксфордские портфели, «фирменные» блейзеры колледжей, высокомерные Брау а lа Т. Э. Лоуренс,[48]48
Лоуренс Т. Э. (1888–1935) – английский разведчик на Востоке, в СССР.
[Закрыть] гоночные автомобили со стянутыми ремнем капотами, «Лагонда», «Бентли», «Амилкар»… Юные девушки приходили и уходили, а женщина-вамп с ее шляпкой «колокол» и мундштуком оставалась неизменно притягательной.
– А я забыл все это.
– Без подобных мелочей не может быть правдивой картины.
– И без Лондона тоже.
– Ну да. Почти все местечки, куда мы забредали, уже исчезли – стерты с лица земли, скажем, бомбежками?
– Как «Кафе де Пари»?
– Да. «У Сиро», «Синий Питер»,[49]49
Синий Питер – так называется синий флаг с белым квадратом, который поднимают перед отплытием судна. (Прим. ред.)
[Закрыть] бар «Критерий», «Квалико», «Домик камнетеса», «Гриль у Маннеринга», «У Пэтона», «Лебедь»…
– Отлично, Робин, но тогда не надо забывать и ночные клубы «Мешок гвоздей», «Голубой фонарь», «Черная дыра», «В гостях у Кики»… Похоже, мы совсем не спали.
– И музыку из шоу «Шарло – забавная мордашка» («Кто украл мое сердце?»), или божественного Хатча, ласкающего клавиши и напевающего в своей как бы отстраненной манере «Вся наша жизнь – тарелка вишен».
– Незадолго до рассвета возле углового ресторана «Лайонз»[50]50
«Лайонз» – название однотипных фирменных ресторанов, кафе и булочных-кондитерских. (Прим. ред.)
[Закрыть] – все с желтыми измученными лицами, проститутки, студенты, сторожа и рабочие, отправляющиеся на первую смену. Первые газеты на промозглой улице. Возвращаемся, когда беспокойные сумерки уже отстираны до белизны, едем через весь Лондон – по Вестминстерскому мосту – в недобрый пригород столицы; не исключено, что с воспоминанием о проститутке и всегдашним страхом перед болезнью. Женись или прижигайся, прижигайся или женись.
– У меня было и то, и другое.
– И у меня. И у меня.
* * *
Итак, мы собрались у скрытого туманом лионского стапеля, где с нетерпением ждали Констанс и грузили наше нелепое походное снаряжение на «Мистраль», на большую баржу с емким трюмом и достаточно просторной палубой, чтобы принять на борт несколько пассажиров. Груз в трюме был уже утрамбован и покрыт брезентом, образовав некое плоское пространство для отдыха и трапез; ночи мы собирались проводить на берегу. Пока мы возились со своим скарбом и проверяли оборудование – можно подумать, что мы собрались на Северный полюс, – Констанс появилась; а вместе с ней неожиданно пришло лето – я имею в виду ощущение лета, его особую ауру. А между тем мы все еще торчали в полосе, где растут шелковицы, во взъерошенном Лионе с его расползшимися во все стороны пригородами, вдали от пыльных пустошей, оливкового масла и анисовой водки. Но с Ту нетрудно было представить, каково это, когда солнечный свет просачивается сквозь соломенную шляпу и падает на бронзовые плечи и шею, создавая тень, темную, как спелые сливы. Из-за излишка солнца и соленой воды светло-пепельные волосы стали жесткими и одновременно шелковистыми. На изысканно сухощавых, но сильных плечах безупречная шея, барвинковые глаза, на свету менявшие цвет на зеленый, глаза, полные любопытства и смеха. Купаясь, она порезала ногу, и теперь прихрамывала – из-за повязки. На нас она смотрела без особого волнения или интереса, так мне казалось, но вполне дружелюбно, ведь мы были друзьями ее брата. Однако я сразу же почувствовал, что она разделяет его превосходство над нами – и отчасти, как я думаю сегодня, искушенность. – Прошу меня извинить; поезд как всегда, опоздал. Наш капитан был мрачен и толст, и напоминал актера, – великий трагик, оставшийся не у дел. Фуражку старый морской волк носил немного набекрень, и щедр был невероятно. То и дело предлагал выпить по стаканчику крепкого вина – в качестве защиты от сурового ветра. Какая там суровость? Погода стояла прекрасная, старик явно преувеличивал. Мало-помалу почти до краев налитые стаканы «Кот дю Рон» развеселили нас; Констанс понемногу отхлебывала из стакана брата и в конце концов попросила разрешения надеть шорты – он с важным видом кивнул головой. Мы перемигнулись. Жена капитана предложила ей спуститься в небольшую каюту, где стояла птичья клетка и висело несколько старых картинок с видами Роны – сами виды были не такими уж старыми.
Мы уже готовы были отплыть в Арль, однако задерживались из-за парочки пассажиров. К счастью, они недолго испытывали наше терпение, зато долго-долго извинялись. Один был долговязым, беспутного вида парнем с желтоватой кожей и с длинными волосами, рассыпавшимися по воротнику пальто. Проскальзывала в его манерах царственная надменность, и много позже, когда он встал на носу и запел арию из оперы Верди, мы, услышав его дивный голос, поняли, что перед нами звезда марсельской оперы. Его попутчик был немолод, с короной седых волос и очень напоминал церковного сторожа. У старика было живое загорелое лицо, он с несколько нарочитым изумлением смотрел по сторонам. Тем не менее сразу чувствовалось, что он по-настоящему образован, это было ясно не только по его поведению, но и по томику стихов, зажатому под мышкой, и по (надо же, лишь теперь вспомнил про нее!) золотой цикаде на лацкане пиджака. То есть он был членом знаменитого общества фелибров.[51]51
Фелибр – провансальский поэт, писатель (фр.).
[Закрыть] И еще чувствовалось, что наш капитан всем – и своей толщиной, и своим акцентом, и неторопливыми жестами – очень старику симпатичен. Теперь-то мне понятно почему. Оба были из Авиньона, куда мы как раз направлялись. Оттуда мы собирались на каком-нибудь наемном транспорте добираться в Тюбэн, если нас не встретит Феликс на пыхтящем консульском автомобильчике.








