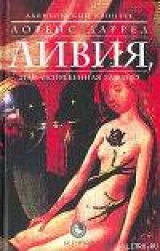
Текст книги "ЛИВИЯ, или Погребенная заживо"
Автор книги: Лоренс Даррелл
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 17 страниц)
– Очередной роман, написанный на автопилоте, – громко простонал тот. А Блэнфорд, посмотревшись потом в зеркало, отметил некую странную напыщенность – щеки раздулись, будто от флюса. Ощущение собственной значимости кипело у него в душе, переливаясь через край…
Но вернемся к рассказу о том времени. Из-за тогдашнего страха перед нависшей угрозой войны, они жадно впитывали все, что могла предложить мирная жизнь. Об этом пела Эдит Пиаф, походившая на покрытую трещинами тарелку, и этот ее голос подстреленной голубки. «Моп соеur у bat!»[146]146
Здесь: Мое сердце от этого бьется сильнее! (Строка из песни «Жизнь в розовом цвете»).
[Закрыть] На волне страха возникло новое кино – у которого благодаря звуку наконец-то теперь появился шанс избавиться от клейма «вторичное искусство». Из-за этого подспудного страха количество блюдечек, на которых подавали спиртное в «Дом», стремительно увеличивалось, пока посетители азартно обсуждали Шпенглера[147]147
Шпенглер, Освальд (1880–1936) – немецкий философ, теоретик культуры, представитель «философии жизни». Считал, что искусство выражает понимание живой спонтанной жизни и поэтому – выше «сухой» науки. (Прим. ред.).
[Закрыть] и тринадцатый закон термодинамики… Господи! До чего же хорошо быть живым, но уже чувствовалось приближение агонии, и он ощущал то и другое гораздо острее не в медлительной английской размеренности, а в стремительном, лихорадочном ритме парижской жизни. Ему удалось заскочить в Оксфорд, чтобы повидаться с друзьями и забрать кое-какие вещи, однако Оксфорд показался ему чужим, замкнутым и косноязычным.
– Премудрые теологи в профессорской устраивают тайные ритуальные пляски вокруг filioque[148]148
Филиокве – добавление к Символу веры (в 589 г.), смысл которого состоял в том, что Святой Дух исходит не только от Бога Отца, но и от Бога Сына. Эта поправка стала одной из главных причин разногласий между православными и католиками. (Прим. ред.)
[Закрыть] – откомментировал это Сатклифф. Сам же великий человек предпочитал заниматься йогой на берегу озера.
– Пошли, – властным тоном позвал он. – Поза змеи обостряет интуицию.
Блэнфорд ничем таким не увлекался. Его мозги слишком сильно пропитались алкоголем, а во рту он ощущал вкус ее губ – тех, которые между ног. Он был счастлив (хоть счастье отдавало горечью) под сенью сладостного блуда с этой пираткой, с этой райской птичкой.
– Я молод и красив, – сказал он Сатклиффу, – и могу долго не кончать. Мне хочется жить полной жизнью, пока я не превращусь в старикашку с синими, как в сыре, жилками, из-за проблем с сердцем…
Издатели, уверял он себя, наверняка передрались бы из-за его шедевра, какого мир еще не видел. А он писал и тотчас уничтожал написанное. В студии одного из его приятелей был большой рояль, на котором он время от времени практиковался. Блэнфорд играл Шуберта, пока она не начинала плакать, а потом не засылала младенческим сном, положив подбородок на «лапы», как персидская кошка, такая же податливая. Жалость к себе способствует выделению кислорода, но Ливия была слишком печальной для настоящей печали. Он начал писать мемуары Лишнего Человека, но получалось не очень хорошо. Он, как пеликан, все пытался утолить жажду кровью из собственной груди.
В казне звенят мешки монеток -
В копилке-хрюшке для подросших деток.
Ну а какие прибыли от страсти?
Боль. И тоска о прогоревшем счастье.
– Насколько я понимаю, вас потянуло на поэзию? – покровительственно поинтересовался Сатклифф. – Почему бы и нет? Перед отъездом из Англии я тоже все попробовал, даже сапфическую строфу, за которую никто не брался после Кэмпиона.[149]149
Кэмпион, Томас (1567–1620) – английский поэт и музыкант. (Прим. ред.)
[Закрыть] Слушайте!
О, упоительный шелест рубашки твоей из лебяжьего пуха,
Внимал я ему, на крыльце обмирая, в Белгравии,
Охваченный пансексуальной истомой.
Естественно, ритмика была совсем не та, ничего общего с настроением в строфах Сафо, но какой смысл спорить с Сатклиффом? Ему, наверняка, было плохо и одиноко, наверное, еще и зуб болел. Блэнфорд взял аккорд, печальную тускловатую септиму, чтобы разбудить Ливию, но она не проснулась.
Рояль, наводящий глянец,
Словно блудливый кот;
В сладостном исступленьи
Он лижет свои отраженья
В лоснистых зеркальных боках.
Неожиданно в Париже объявилась Констанс, и, как ни странно, война сразу же обрела реальность – словно это Констанс ее объявила. Заметно похудевшая, но ставшая гораздо спокойнее, Констанс сообщила о самом-самом важном для нее: в Вене она познакомилась с Фрейдом. Ей удалось побывать на конгрессе психиатров, где гений председательствовал, они нашли общий язык. Потом случились и другие встречи, в общем, она стала преданной ученицей старика, которого искренне считала самым выдающимся мыслителем в Европе.
– Погоди! Помолчи хоть минутку! – не выдержал Блэнфорд, изумленный столь категоричным тоном и столь благоговейным обожанием.
Естественно, она рассмеялась, поняв, что он ничем не лучше нынешних так называемых интеллектуалов и ничего не смыслит в провидческих идеях старого профессора. Как же объяснить? Взяв его за плечи, она принялась ласково увещевать:
– Ты понимаешь, что теперь уже никто не сможет написать «Гамлета»?
Он не понимал, ему не было дела ни до чего, кроме пляшущих искорок в ярко-синих глазах и ярко вспыхнувших щек. Это когда она заявила, что вечером у нее свидание с Сэмом, тайное, и они собираются пожениться. Пока не началась война.
– Скорее всего война затянется надолго, возможно, на несколько лет, – сказала она. – Им не прорваться через линию Мажино, а у нас не хватит сил их прогнать. Будут бесконечные бомбежки и очень мало еды, в общем, тупик. Да, на это все уже настроены, потому и живут как-то… топчась на одном месте. Однако Констанс припасла еще одну новость, от которой радость на ее лице мгновенно померкла. – Где Ливия? – спросила она, почти со злостью.
Откуда ему было знать? Разве кто-то в состоянии уследить за ее блужданиями? Иногда, уже совсем отчаявшись, он оставлял ей записки на доске в кафе «Дом», поскольку она время от времени туда заглядывала.
Опустив голову, Констанс долго молчала; но в конце концов все-таки решилась:
– …Ладно, скажу. В Вене я видела кинохронику… какое-то большое нацистское сборище в Баварии… и там была она, в самом центре событий, в немецкой форме.
Блэнфорд даже подскочил на стуле и лишился дара речи. Что это значит?
– Ты уверена? – еле выдавил он из себя.
Констанс кивнула.
– Еще бы не уверена. Ее показывали секунд десять, не меньше, она пела, рука вскинута вверх – это их приветствие. И лицо совершенно безумное. Я даже испугалась за нее.
Блэнфорд не знал, что сказать, он умирал от стыда.
– Она ничего мне не говорила, – вот и все, что он сумел придумать в свое оправдание.
Но даже на этом последнем этапе они не могли в полной мере представить, насколько кошмарна трагедия, которая медленно, но верно настигала Германию. Доступа к информации – никакого. Сплошь лживая пропаганда и строжайшая цензура, в те времена это было внове… Они с Констанс прошлись немного по Люксембургскому саду, почти не разговаривая, стараясь представить, что их ждет в будущем. Перспективы были весьма туманными, надежды стать на ноги, как-то определиться, потеряли смысл. Определиться… для чего? Правда, Констанс все-таки сумела найти себя. Она устроилась на работу в Красный Крест и со своим швейцарским паспортом надеялась быть полезной, когда начнутся трудные времена. Сэм через две недели должен был явиться в свою воинскую часть. Поэтому сегодня вечером, после регистрации, они сядут в старый поезд на Лионском вокзале и поедут в Ту-Герц, чтобы провести там свой короткий медовый месяц.
– Почему бы и тебе не съездить туда на несколько дней? – спросила Констанс. – Хилари не может, он все еще в Шотландской семинарии.
Однако Блэнфорд понимал, что в Ту-Герц ему ехать нельзя. Потом они тепло попрощались, и его слегка кольнуло сожаление, словно он опасался, что их дружба прекратится, что она жива пока лишь из-за его женитьбы на Ливии. Каким он все-таки был глупцом. Прежняя привычная стабильность таяла и превращалась в нечто иное, в нечто жидкое, как лимфа. И среди всех этих метаморфоз сверкали, словно драгоценные камни, воспоминания о Провансе, подарившем ему изобилие впечатлений. Милые сердцу картины не оставляли его, ему то и дело снился старый дом, укрывшийся среди высоких деревьев, тамошняя тишина, оркестрованная лишь ветром да плеском бегущего через сад ручья.
Уходя, она вдруг спросила, не скрывая мучивших ее чувств:
– По-твоему, я поступаю неправильно? Не хотелось бы причинить Сэму боль.
Он помотал головой, но ее слова поразили его. Она знала, что поступает неправильно, иначе не стала бы спрашивать, значит, в глубине души она все понимает. Ему стало стыдно из-за охватившей его внезапной радости, как только он осознал ее. Он чувствовал, что это ужасно, что это непростительно. Надо исправляться, а для начата он поищет для нее в Лондоне какой-нибудь экстравагантный подарок…
Кремация – чистый, лишенный надрыва, способ прощания, причем не только с умершим человеком, но и с собственными мыслями о смерти, а также со страхами и опасениями, которые они порождают. Все уже промокло под дождем, под ласковым синим дождем, который окутал нежным перламутровым флером окна старого респектабельного «Даймлера», нанятого для Блэнфорда и Кейда. Кроме них, никто не провожал ее в последний путь. Маленький гроб был очень легким и слегка подпрыгивал на катафалке. Цветов он заказал очень много, потому что знал, как сильно она любила цветы. Непрошеная параллель все же мелькнула у него в голове, когда он выписывал чек: «А вот меня никогда не любили – ни законной, ни беззаконной любовью». Он ощутил страшную опустошенность, истощение, будто все сгорело внутри – никаких чувств, он нищий, и это пепелище в его душе якобы могли заслонить литература и искусство. Возможно, в будущем, в зрелом возрасте… конечно, однако доживет ли он до этого самого возраста? Война на носу. Поддавшись неожиданной прихоти, он купил новенький автомобиль и оплатил уроки вождения. Договор с Кейдом он продлил еще на год, но предложил ему долгий отпуск, чтобы тот мог навестить родных на севере. Отучившись на курсах вождения, он поедет в Прованс и будет ждать, как все пойдет дальше.
Нет мрачнее места, чем крематорий, однако этот крематорий выглядел до странности легкомысленным и, честное слово, больше походил на казино где-нибудь в Южной Италии. Над главным зданием вздымался вверх плюмаж дыма, но дождь сбивал его, и дым стелился над забетонированными площадками, окружавшими это место. Целые участки здесь были заняты устроенными с большим вкусом цветниками с бледно-желтыми нарциссами и прочими мемориальными изысками в духе Вордсворта. Оказалось, что они приехали слишком рано, так как покойников было довольно много. Пришлось ждать, заодно им выпала возможность помолиться, так как зал ожидания был устроен в часовне. Часовня, стилизованная под деревенскую церковь, производила удручающее впечатление: леденящим бездушием и инфернальным уродством. Алтарь со святыми на дешевых витражах был очень темным, потому что на них не попадал свет – из-за построенной рядом уродливой воскресной школы. В углу стояла прислоненная к стене доска. Блэнфорд, когда-то игравший в крикет, сразу же узнал табло, какие все школы покупают для своих крикетных полей. Вместо счета на нем были аккуратно, печатными буквами, выведены фамилии – по порядку. Впереди в очереди были еще трое – миссис Хамбл, миссис Годбоун и миссис Лэмб – после них значилась Эвелин Блэнфорд. Надо ждать своей очереди? Кейд молился с нарочитой важностью – главный похоронный статист изображал полагающуюся скорбь. В старом потертом цилиндре и выцветшем фраке, диккенсовский типаж, карикатура на самодовлеющую респектабельность. Грязные обтрепанные манжеты этот фигляр довольно смело обкорнал маникюрными ножницами. Он задыхался от астмы и фальшивого благоговения. Блэнфорд закрыл глаза и тяжело вздохнул, моля Бога, чтобы все поскорее закончилось. Удивительно, как глубоко его потрясла смерть матери, он даже не представлял, что накатит волна столь невыносимой печали, что он так остро почувствует одиночество.
Крепкий молодой священник с румяной физиономией вел себя несколько суетливо, словно хотел поскорее разделаться со всем этим. Он был весь в себе и казался совершенно недосягаемым; можно было подумать, что он провожает в последний путь язычников с острова Борнео, кровожадных охотников за головами, а не добропорядочных матрон из нежно любимого Фоукстоуна. Блэнфорда раздражала бесцеремонность этого гордеца и легкий налет кокни в его произношении, отчего Священное Писание звучало, как реклама кормов компании «Глаксо». Наконец-то церемония подошла к концу, и тут Блэнфорд вдруг осознал, что на его глазах гроб с телом матери понемногу уходит вниз, то есть совершается постепенный переход гроба в камеру для сжигания. Священник, как оказалось, был виртуозом в своем деле – последнее произнесенное им слово совпало с приглушенным щелчком закрывшихся дверей после того, как фоб встал на рельсы подземной дороги. Оттуда донеслось негромкое жужжание. Скрипнуло железо. Потом надолго воцарилась тишина, прерванная одним из участников церемонии:
– Сэр, вы, наверно, хотите получить урну?
– Конечно, – твердо произнес Кейд. – Две урны!
Спросивший на цыпочках отошел, молвив:
– Подождите в машине.
Священник протянул для пожатия бледную, словно жирный бекон, руку и удалился. Всё. Блэнфорд не помнил себя от облегчения и муки. Но молчал – ни дать ни взять настоящий отшельник.
Ждали они на улице, и довольно скоро появился мужчина, похожий на церковного сторожа, держа в руках две нелепые бонбоньерки величиной с пасхальное яйцо, которые он с искренним сочувствием протянул Блэнфорду. Кейд чуть не вырвал у него из рук одну из бонбоньерок и, к удивлению Блэнфорда, просиял от удовольствия, словно получил долгожданный подарок. Однако перехватив скептический взгляд хозяина, он принял свой обычный, не располагающий к общению вид. Сидя на заднем сидении «Даймлера» с урной на коленях, Блэнфорд чувствовал себя дурак-дураком и постарался побыстрее избавиться от нее, поставив на каминную полку. Зола к золе, прах к праху. Ибо прах ты, и в прах возвратишься…
Он прекрасно понимал, что бездна разверзлась под его ногами – и отделила прошлое от будущего. Уже искушала обретенная свобода, ведь если его запросы будут скромными в соответствии с размером полученного наследства, то ему не придется подыскивать себе службу. Жизнь, состоящая из недорогих путешествий и копания в себе, замаячила было на горизонте… но как быть с Ливией? Да и воина. Бикфордов шнур уже тлеет, и взрыв неотвратим. Блэнфорд выбрал скромный отельчик и стал совершать долгие прогулки под дождем, довольно часто оказываясь возле ворот той школы, где много месяцев спустя Сатклифф будет учить отроковиц музыке. Однажды он даже вошел во двор и заглянул в часовню, которой в будущем было суждено отражать голос великого человека. На белых скалах, облюбованных чайками, сипящими, как больные котята, он чувствовал, как (прощание?) дождь льется с козырька кепки, с плеч пальто. Неужели всем нам уготована одна смерть, или каждая смерть соответствует… валентность, короче говоря, только вместо атомов люди… той жизни, которую она замещает? Неожиданно ему вспомнилось помрачневшее напряженное лицо Катрфажа и его слова: «Я верю Элифасу Леви,[150]150
Элифас Леви Захед (аббат Альфонс Луи Констанс, 1810–1875) – известный маг, автор оккультных теорий.
[Закрыть] он прав: Дьявол – следствие краха Бога. Если, ступив на путь святости, не доходишь до цели, то неизбежно становишься демоном».
…Вдруг перед его мысленным взором возник Ту-Герц, видение даже трепетало от его нестерпимого желания оказаться там. До чего же быстро промелькнуло лето! Нет, надо все-таки попытаться туда уехать. Засесть в уединенной деревушке Тюбэн и ждать. Если призовут, оно и к лучшему. (Он все еще был уверен, что повторится война 1914 года, примерно такая же.) Правильно, надо ехать прямо на этой неделе, но прежде выяснить, что об этом Думает Ливия – может, тоже поедет? Если они в самом деле собираются вести нормальную семейную жизнь, то лучше места не найти. Из окна спальни, которое выходило на игровую площадку местной школы, он наблюдал за выбегавшими на переменах мальчиками. Поразительно, насколько неизменны атрибуты школьной жизни. Они тоже покупали банку сгущенки и проделывали в ней дырку – разумеется, сладкой сгущенки. А потом весь день по очереди высасывали ее из банки, как обезьянки. Все еще продавались старые викторианские сладости – например, шербет Дэб, ешь и воображаешь, что ты в постели с царицей Савской. Но он довольно дорого стоил. Многие покупали апельсины, запихивали в середку кусок колотого сахара, и сквозь него высасывали сок. Тоже очень вкусно. Но самым волшебным был круглый леденец Гоб-Стоппер – размером почти с мячик для гольфа, менявший цвет по мере того, как с него слизывали слой за слоем… Блэнфорду казалось, будто его школьные годы миновали очень давно, будто прошло лет пятьдесят. Он частенько стоял возле окна, о чем-то размышляя, до сумерек, потом до темноты, пока, наконец, «во всем своем величии», как говорят астрологи, не поднималась луна, напоминая ему, что размышления о мировых проблемах ничего не значат для враждебной вселенной. И даже война ничего не значит? Ничего. Тогда остается лишь писать невидимыми чернилами стихи и посылать их самому себе. Неужели он приговорен судьбой к тому, чтобы стать писателем? Все обстоятельства как нарочно подталкивали его к этому.
Как жадно зеркала пьют наше отраженье,
Лакают кровь души, изглоданной сомненьем,
Как лакомы они до человечьей сути,
Во всей ее красе и жути…
Двойник мой, в омуте зеркальном
Ты не утонешь, ты останешься со мной —
Насмешницы судьбы свидетельством печальным.
Как жаждет ум мой крови сладкой и хмельной!
Не самое плохое описание нарциссизма в острой форме, необходимого, чтобы стать поэтом. Ему страстно хотелось на юг, в желанный Прованс, однако чиновники задержали его еще на неделю. Было как-то непривычно иметь счет в банке и даже выписывать иногда довольно солидные чеки. Прежде его содержание было весьма скромным, приходилось во всем себя урезывать. Первым делом он купил кое-что из вещей – самое необходимое. И тут его обуяла подлая жадность, отчего несколько дней кряду он заказывал в пабе дешевенький ланч, давясь яйцами по-шотландски и прочей тяжелой пищей. Лондон он уже застал другим. Здесь явно ощущалось напряжение. Он встретился с однокурсниками, успевшими обрядиться в мундиры и обсуждавшими военные назначения за границу. Сирены воздушной тревоги вовсю готовились к работе. В газетах стрелками отмечались гипотетические фронты. Ежедневные издания регулярно вопрошали: «Где поэты, воспевающие воинов?» Министерство пропаганды взялось за создание таковых, несмотря на очевидные трудности, ведь для пущей эффективности этим певцам войны очень не мешало бы погибнуть, а это пока было невозможно. По крайней мере, так казалось.
А что творилось в Австрии! Бомбы, парады, добровольный комендантский час, который от страха ввели сами граждане, сидя вечером дома, банды одетых в форму головорезов, шатающихся по ночным улицам, неужели всё шло к тому, чего все боялись? В Лондоне левые поэты объявили Платона фашистом, а его мудрые мысли использовал в своих выступлениях Гитлер. Новые Сиракузы. У Блэнфорда не было знакомых литераторов, разве что несколько университетских преподавателей. Он потихоньку примерялся к профессии историка и, не считая нескольких спонтанных увлечений кое-какими поэтами, почти не интересовался так называемыми литературными ценностями. Собственно, никаких особо интересных событий в литературе не происходило. Все еще было модно нападать на Лоренса,[151]151
Лоренс, Дейвид Герберт (1885–1930) – английский писатель, автор скандально известного романа «Любовник леди Чаттерлей» (1928), запрещенного в Англии (до 1960 г.).
[Закрыть] дома же «серьезный критик» с пристрастием выяснял, гений Уолпол[152]152
Уолпол, Хорас – английский романист, основоположник «готического романа» (так называемого «романа ужасов»).
[Закрыть] или все-таки не совсем. Австрия совсем другое дело – там все бурлило!
…И это бесконечно занимало Сатклиффа, ибо он торчал в Вене, надеясь, что лечение Пиа даст «конкретные результаты» – ну и клише! Он ждал, когда она «придет в себя» – еще одно клише! Вообще новая наука представляла собой клубок перекрестных ссылок (нечто вроде ощетинившегося ежика), в которую можно было только верить – не вникая. Большую часть времени он проводил в угловой кондитерской, на площади у бог знает какой штрассе, «между так называемым Крысиным домом и конторой, где регистрируют иностранных рабочих». Немецкого он не знал, поэтому жил, будто в густом тумане постоянной неуверенности в себе. Он ждал свою возлюбленную, с устрашающей скоростью поглощая в немыслимых количествах конфеты, слойки и пироги, которыми была знаменита столица, и чувствуя, как все сильнее покрывается аллергической сыпью с каждой новой порцией сладкого. Они жили в маленьком номере, куда возвращались каждый вечер в напряженном, вибрирующем молчании. Съедали по сэндвичу, кофе он варил в туалете. Потом сразу же ложились спать. Она поворачивалась спиной к жутким обоям с рисуночком в народном стиле, она часто вздыхала и вся дрожала, и всю ночь разговаривала во сне. Они больше не общались; все, что они могли сказать друг другу, неизбежно отозвалось бы общей болью, и тогда весьма скудные шансы на успех «лечения» были бы загублены. Они были на грани войны и весьма к тому же дорогостоящей. Блэнфорд, тронутый бедственным положением Сатклиффа, выслал чек на довольно крупную сумму, который тотчас пришлось отдать врачам. Роб сделал курьезное открытие. Все парикмахеры в столице были женщины – никаких бойких фигаро. В черных платьях с белыми плиссированными воротничками и манжетами, они в любое время суток могли поправить вам прическу. Это было теперь его единственной отрадой: сначала расслабляющие прикосновения милых девичьих пальчиков, а потом бодрящее пощипывание одеколона, ароматное облачко вокруг головы походило на нимб. В тесном кружке пациентов-невротиков и перепуганных еврейских интеллектуалов, которые уже предвидели конец света, завязались кое-какие дружеские отношения, среди новых друзей безусловно самой замечательной персоной была экстравагантная полнотелая славянка, которой непостижимым образом удавалось выглядеть одновременно весьма сексуальной и потрясающе безмятежной. Она была писательницей и с недавних пор ученицей Фрейда. Славянка рассказывала о поэтах, еще неизвестных, например, о Рильке, и даже о Ницше, с которым якобы была знакома, – из-за этого они втайне над ней посмеивались. Тем не менее, обоим эта чудачка очень нравилась, она искренне полюбила бедняжку Пиа.
* * *
Стоя на свежем весеннем ветру, – пронизывающем, несмотря на то, что лето было уже не так далеко – Блэнфорд смотрел, как купленный им автомобиль завис на минуту над берегом в воздухе Дувра, а потом плюхнулся на палубу судна, на котором он, то есть Блэнфорд, собирался переплывать пролив. Новая машина казалась такой хрупкой: словно мотор ее состоял из фарфоровых деталей, державшихся на женских шпильках. Он очень переживал, как бы не повредили что-нибудь при погрузке, однако – на другом берегу – мотор работал совсем неплохо, и в сгущающихся сумерках Блэнфорд, не без благоговения взявшись за руль, осторожно покатил в сторону Парижа – не по той полосе. Все говорили, что он скоро привыкнет, и действительно, въезжая в столицу, он уже чувствовал себя как дома в своем новом приобретении. О Ливии он старался не думать, не в силах оправиться от шока, вызванного сообщением Констанс, и к тому же он боялся, что, потребовав объяснений, спровоцирует разрыв. Была и еще одна причина того, что он гнал прочь мысли о ней, – его на самом деле глубоко ранила ее скрытность, будто он ей никто – постепенно это могло разрушить чары его мучительной привязанности к ней.
Как ни странно, он успокоился, обнаружив, что квартира пуста – так ему сперва показалось. Ибо, убедившись после внимательного осмотра, что нет ни сигаретных окурков, ни журналов, и стало быть, Ливии тоже наверняка нет, он сообразил, что в ванной все же кто-то есть. Ему послышался лязг металла, потом журчание убегавшей в раковину воды. Над дверью в окошке был виден свет. Снова всколыхнулась в душе ярость пополам с печалью, он негромко постучал и, повернув ручку, обнаружил, что дверь не заперта. Стоявшая перед большим зеркалом совершенно голая девица обернулась и уставилась на него храбрым и непроницаемым взглядом. Нет, оба эпитета неправильные она смотрела на него с равнодушным спокойствием, скажем так, звериным. Как будто он прервал гигиенические процедуры наглой кошки. Девушка только что закончила брить подмышки безопасной бритвой – его бритвой. Она вымыла их губкой и теперь вытирала, похлопывая, скрученным полотенцем. Итак, она стояла в ванной комнате, и у нее было потрясающее бронзовое лицо с потрясающими бровями, как у статуй на острове Пасхи. Взгляд ее был спокойным и весьма дружелюбным. В глазах сиял живой свет тропических островов, где всякую мысль, посмевшую возникнуть, тут же убаюкивало солнечное тепло.
– Она ушла утром, – хрипло проговорила девушка с Мартиники, откинув назад свою красивую головку, чтобы освободить плечи от черных волос. – Только что.
Ее французский был «просто убийственным»; и в своей атласной наготе она была так изумительно прекрасна и так изумительно сильна… Атлетическая фигура, невольно вспоминались метательница диска или амазонка с дротиком. Однако перед ним была не воинственная амазонка, а вполне дружелюбное создание, чье единственное намерение – доставить радость.
Перед ним стояла настоящая профессионалка, и влекущей языческой негой сияли ее глаза. Ласковым, слегка нерешительным движением, она изогнулась, приблизив к нему маленькие груди, подперев их ладонями, чтобы ему было проще добраться до сосков. «Возьми меня, – говорили эти груди. – Я – антилопа. Я – мускатная дыня. Я – горячая пряная островитянка». Он вскинул руку, возможно даже чтобы ударить, но она не шелохнулась, она как будто этого хотела – наверно, в качестве искупления; и его рука, замерев на миг, опустилась. Он застыл, прислушиваясь к тиканью в голове – но нет, это тикали его часы. Женщина сказала:
– С ней все кончено. Fini. Elle a dit à moil.[153]153
Конец. Она сказала мне (искаж. фр.).
[Закрыть]
Она похлопала себя по груди, вытянув и без того длинную шею, и лицо ее стало гордым, словно у какой-нибудь полинезийской королевы. Да, действительно кончено. Он вдруг ясно осознал это, и спросил себя, какая из двух причин важнее. Сексуальное предательство или то, что он увидел, как она роется в его письмах? Все-таки человеческая психика странно устроена. Тот эпизод с письмами ранил его не меньше, чем любовная измена. У него были старомодные представления о браке и об отношении к чужим письмам. Сказывалось английское воспитание.
– Тебе ничего не говорить? – спросила женщина, и он в ответ кивнул, а потом долго смотрел на нее в упор, пока не защипало глаза от непрошеных слез. Ему стало стыдно…
Она, в порыве сочувствия, подошла еще ближе, и он спешно потянулся к карману брюк за носовым платком, но рука его наткнулась на черный резиновый пенис, все еще прикрепленный к ее лобку черной сеточкой, концы которой были завязаны над ягодицами. Он неловко обхватил его пальцами. Вокруг головки пениса были металлические хомутики, несомненно, добавленные ради большей остроты наслаждения. До чего странное приспособление, и какое грубое в сравнении с нежным чувствительным органом, который это жалкое орудие заменяет. Девушка ткнулась в него искусственным членом и рассмеялась. Потом, заведя руки за спину, отвязала его жестом воина, снимающего меч, и позволила ему брякнуться на пол – нелепый символ совокупления их взглядов и мыслей. Развернувшись на каблуках, Блэнфорд снова направился в маленькую гостиную, где был немыслимый беспорядок. В спешке он не обратил внимания на запачканные губной помадой полотенца, на клочья оберточной бумаги – приметы спешных сборов перед внезапным отъездом. В открытую дверь была видна неубранная кровать, рядом с ней на полу пачка старых газет. Он почти не мог дышать от боли, лихорадочно обдумывая происшедшее, и вдруг ощутил, как боль утихает, рассасывается, смешиваясь со злостью и чувством облегчения. Но где же прощальное письмо, которое она наверняка оставила? Темнокожая красавица, видимо, почуяла его замешательство и, сразу угадав причину, подошла к шкафу и открыла дверцу. Письмо лежало на полке с его чистыми рубашками. Очень лаконичное и деловое письмо. Она отправляется в Германию и, если, конечно, повезет, никогда не вернется. Им надо развестись.
Это был крах, самый настоящий. Однако Блэнфорду показалось, что вдруг пахнуло свежестью – свежим ветром свободы, этот ветер избавил его от спертого воздуха, в котором он жил последние несколько недель, избавил от всех сомнений, душивших его, он только теперь это понял. И потому даже ощутил укол раскаяния, увидев, что темнокожая его подружка надевает чистое платье и явно готова сопровождать его куда-нибудь, где есть утешительная выпивка. Алкоголь прогонит печаль и добавит еще немного свободы, и он увидит мир таким, каков он есть – во всей его нелепости. Новый мир нарождался из грязи, накопленной историей – будет ли он так уж сильно отличаться от старого мира?
Знайте, юные повесы:
Ник чему любви – протезы.
Отныне славные милашки
Пусть чаще раздвигают ляжки.
Пусть станут поцелуи крепче -
Их жар тоску твою излечит.
И все, что ты считал напрасным,
Опять покажется прекрасным.
«Сфинкс» встретил его светом и радушием всех, с кем он познакомился, когда был тут в последний раз. Девушка с Мартиники исчезла, видимо, пошла подмываться, так-так… вершить святой обряд омовенья, брегам людским даруя утешенье,[154]154
Измененная цитата из стихотворения Джона Китса «К. Звезде», 1819 г. (пер. В. Левина).
[Закрыть] – давненько не было случая вспомнить Китса – предоставив ему возможность молча копаться в собственных записных книжках. Книжки эти уже тогда были поражены грибком афоризмов, в обрывках прозы и стихов. Он прислушивался к смеху и грубоватым шуткам, с наслаждением вдыхал дым сигар и ирландских сигарет. Подходили поздороваться приятели-студенты с Юга, у которых был мягкий выговор, столь не похожий на резкое попугаичье лопотанье парижан. Didonk топ gar comment sava – его уши транслитерировали услышанное и передали не слишком расторопному восприятию. В сущности, французским он владел неплохо, вот только реакция была несколько замедленной. Надо было бы ответить: Sava très mâle – с циркумфлексом.[155]155
Диакретический знак над гласной, во французском языке показывающий удлинение звука. В данном случае – mal (зло), male (самец).
[Закрыть] Однако он был слишком расстроен, чтобы порадоваться своему тонкому остроумию. Ясно было одно: нужно хорошенько напиться, как полагается претерпевшему предательство англосаксу. Потом придется разгромить бар, после чего его, натурально, выставят вон и отправят на ночь в участок. Там, мучаясь бессонницей, он подумает о самоубийстве, что будет настоящим анахронизмом, так как вся Европа двигалась в этом направлении. Слишком претенциозно – покончить с собой в одиночку. Даже если использовать болиголов, кастрирующий любовь. Да что он о себе возомнил? Тоже Сократ нашелся![156]156
Сократ, привлеченный к суду «за неблагочестие», был приговорен к смерти через отравление. Он выпил чашу с цикутой и скончался через несколько минут. (Прим. ред.)
[Закрыть] Снуя то вверх, то вниз по лестнице со своими клиентами, темнокожая девушка улучала миг, чтобы погладить его по плечу или по волосам. Неужели она хотела его завести? В ответ на ее ласку он еще ниже склонялся над записной книжкой.
Неизбежный абсент не столько зажигал кровь, сколько усмирял волнение, действовал как успокоительное; далее наступала фаза мрачного уныния, но прежде чем впасть в каталептическое забвение, человек начинал бешено веселиться, и это уже напоминало эпилептический припадок, пляску Святого Витта. Под парами абсента весельчак таскал посетителей за бороды или танцевал со стулом, изображал знаменитых чревовещателей. Приезжала полиция. До сих пор Блэнфорд не решался выпить больше двух бокалов коварного напитка молочно-зеленоватого цвета. Но и двух хватило для первой стадии: все тело уже слегка онемело. Его желания стали несколько громоздкими, наливаясь гнетущим влечением. Он оглянулся на длинную стойку бара, за которой сидели терпеливые и зоркие клиенты, потягивавшие коктейли – выжидая, когда почти голые девушки зажгут в их жилах огонь. Торговля шла очень бойко. В кафе за занавеской из бусин царапающая душу музыка полыхала, будто солома – да будет la vie всегда en rose.[157]157
Жизнь… в розовом цвете (фр.). Песня Эдит Пиаф.
[Закрыть] Когда она, в очередной раз проходя мимо, положила ладонь Блэнфорду на голову, он был уже настолько пропитан болиголовом, что дерзко нащупал развилку между бедрами, а потом добрался и до влажного источника юности под саронгом.[158]158
Кусок хлопчатобумажной ткани или батика, обернутый вокруг бедер наподобие длинной юбки.
[Закрыть]«Viens, shéri»[159]159
Иди ко мне, милый (искаж. фр.).
[Закрыть] – прошептала она. Застегнув serviette,[160]160
Портфель (фр.).
[Закрыть] чтобы уберечь драгоценные записные книжки, он, пошатываясь, встал и послушно побрел за ней. Точно резвая ласточка она подлетела к креслу, в котором восседала Мадам в пышном парике, похожая на свергнутую императрицу, – эдакий десерт из мороженого столетней давности – и тщательно следила за своими лошадками. Девушка взяла jeton, Мадам вручила ей свежее полотенце, которое та, точно официант, повесила на согнутую руку. Они довольно удачно одолели лестницу и оказались в маленькой кабинке, по-больничному белой, где имелись только кровать, украшенная чудовищным пуховым стеганым одеялом, и биде, над которым висело распятие.








