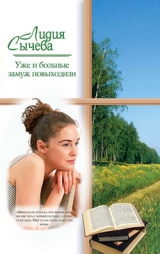
Текст книги "Уже и больные замуж повыходили"
Автор книги: Лидия Сычева
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 18 страниц)
Осенние свадьбы
У магазина
Раньше хлеб возили с утра, а теперь – глубоко после обеда. Свободно даже вчерашние буханки не лежат. Хлеб расхватывают горячим – машина подойдет, шесть лотков сгрузят, и – дальше.
Стали занимать очередь. В полчетвертого, самые хлопотливые – в три. Собирались на приступочках; в основном пенсионеры, реже – дети, те, что из послушных. А молодым – самое время на работе быть. Продавщица Дунина важно гоняла мух вдоль прилавка с консервами и стеклянными литровыми банками. В банках – капустный салат «Охотничий». Настолько гадкий, что его даже пьяницы не покупали. Еще в магазине была выложенная мозаичным камнем кадка под цветы или комнатные деревья. Но в кадке находилась только земля с вкраплениями окурков и мелкого мусора. А в напольном крохотном бассейне не было не только живой рыбы, но и воды.
Все же Дунина не любила, когда в магазине без дела толокся народ. Особенно по хорошей погоде.Скучно, начинают языками чесать и Дунину вовлекают. Продавщица в разговоре была ненаходчивой, сбивалась, и ей казалось, что ее авторитет от этого падает. Дунина приучила очередь сидеть на приступочках. Если дождь или холод – тогда, конечно, другое дело. А летом, при погоде, можно и на дворе побыть, на приступочках. Так-то.
Народ вынужденную праздность терпел не ропща. Отдых хоть какой-то: и людей увидишь, новости узнаешь. А больше – негде. Разве что на похоронах. Свадьбы нынче почти не гуляют. Кто и надумает жениться, распишутся в загсе, вещи перевезут, с близкой родней посидят, и – амба. Деловой народ – некогда гулять. А кому и денег жалко. А у кого – и нет их вовсе.
Ну, у Петра Парфенова Женька по всем правилам женился. Засватали – гуляли, и свадьба – два дня, как положено, сначала у невесты, потом – у жениха. Петр – смирный мужик, сам женился поздно, чуть ли не в сорок лет, баба ему Женьку родила, прожила год или два и умерла от рака. Парфен, как его между собой называли, перебивался, терпел, мальчонку растил в одиночку, больше никого не взял. Женька, правда, пер как на дрожжах, парняга – под два метра ростом. Школу кончил, в армию забрали, так командиры только и слали благодарности на военкомат и родителю – за воспитание воина-отличника. В районной газете «Заря изобилия» карточка Женькина была напечатана – десантник, в тельняшке, в беретке, лицо строгое, брови насуплены, на груди – парашютный значок, гвардейский. А вернулся домой – сразу видно, как был телком, так и остался. Наташка Собченко, сопливая девчонка, вчерашняя школьница, в два месяца его окрутила. Уже вот и свадьбу сыграли.Парфен, Ванька-Скалозуб, Степа Зобов, Семен с луга, Антон с велосипедом, бабы такого же возраста – Тимчиха, Хомчиха, Андреевна; древняя девяностолетняя старуха Марычева сидят на приступочках. Ребятня поодаль с визгом гоняет по пыли. Как только не уматываются по такой жаре?! Скучно, машины ниоткуда не видать. Ванька-Скалозуб, вытирая пот с черепа мятым грязным носовым платком, вкрадчиво спрашивает у Парфена:
– Петь, че ж молодые нынче делали?
Петр Парфенов – и вся порода их – ходит аккуратно, чисто. Без бабы столько лет прожил, а пиджачишко его затертый, но не засаленный, штаны – с подобием стрелок. Неторопкий он, Парфен, наивный и сроду ничего скрывать не умел. Отвечает:
– Да че ж... Женька поднялся в пять утра, завел «ЗИЛ» и уехал – у него наряд возить зеленку на ферму. Поле за Ельниками косят... Я, пока скотине подавал, гляжу – и Наташка встала. Говорю: Наташк, ты че будешь делать? «Борщ варить». Ну ладно. Картошки начистила, капусты кочан свернула с грядки, чугун взяла; я спрашиваю: тебе развесть огонь во времянке? «Не, я сама». Гляжу – развела. Вроде все собрала, засыпала как надо; я поливал; насос не заладил, разбирал да собирал. Времени порядочно прошло.
– Наташ, – говорю, – борщ готов?
– Не, не готов.
Опять я скотину обошел, у свиней почистил, уже припекало хорошо, уморился.
– Наташ, – говорю, – борщ готов?
– Не, – отвечает, – не готов.
Я прямо аж к чугуну подошел:
– Че ж оно такое? Он у тебя кипит?
– Кипит.
– Так, может, он готов?
– Нате, – говорит, – попробуйте, сами увидите, что сырой.
Я хлебнул – и правда: что-то не то. Так и ушел, она не сварила.
– Ты че ж, Петь, нынче и не ел? – ужасается одна из баб, Хомчиха.
– Не-а, – виновато-обиженно говорит Парфен.
Народ кто смеется, кто успокаивает:
– Подожди, научится.
– Молодая еще.
– К Женькиному приходу настряпает.
А Семен с луга советует:
– Сел бы, наелся сала с яйцами, и все дела.
Парфен оправдывается:
– Неудобно как-то отдельно. Баба в доме, семья.
– Семья, – поддевает Ванька-Скалозуб, – а папой она тебя называет?
Парфен смиренно признается:
– Никак пока не величает. А Женьку зато, – он подделывается под Наташкин ласковый голосок, – Женюся, Женечка; будто он пупсик какой. А сама, – и тут невольно выдает главную свою обиду, – дружила с другими, на моей же лавочке еще весной любовь крутила, а Женька явился с армии – прыг ему на шею...
– ...И в дамки, – поддерживает его Степа Зотов.
– Ничего, – успокаивает Парфена Андреевна, с которой он когда-то, в молодости, лет сорок назад, гулял, – главное, чтобы они друг друга любили, и нам с ними тепле´ будет.
Неожиданно подает голос древняя старуха Марычева, про которую все думали, что она дремлет.– Пусть молодежь живеть, – скрипит Марычева, – у них свои понятия.
Тут уже ничего не прибавишь. А машины с хлебом все нет и нет.
...Дунина задумалась в пустом магазине. Сначала она смотрела сквозь мутное стекло на собравшихся вокруг Парфена стариков, пыталась прислушаться. Но звуки сюда, в скучную сумеречную прохладу, не долетали. Тогда Дунина загрустила. Она была некрасива, неловка, и никому, кроме очень пьяных мужиков, не нравилась; никто не пытался с ней шутить, заигрывать. Раньше она была молодой, ходила на танцы, на что-то надеялась; и в клубе, когда Женьку Парфенова провожали в армию, он, хмельной, с ней танцевал – девушки у него еще не было, а она решила его дождаться. И ей нетрудно было его ждать, мечтать о нем, быть ему верной. А он вернулся и даже о ней не вспомнил...
Тише, Миша!
Вот мы говорим: «Чечня! Чечня!» А дома – не Чечня?! Это ж поглядеть, как они тут живут – у каждого по три жены. И все тихо-смирно, никакого шума. Так, баба какая восстанет и все.
Взять Кашина, Мишку. На ком он только не женился и к кому он только не приставал! К некоторым – по два раза. То есть уже второй круг стал давать. А ничего в нем выдающегося, если присмотреться, нету. Щупленький, на личико унылый. Пьет сильно. Правда, разговорчивый и ворует здорово.А воруют они тут все – беспощадно. Кольку Крылова выгнали с нефтебазы, он устроился к хозяину на бензовоз. Бензин воровал, продавал, и на это пили. Лягут в топольках – он, Ванька Разумный, Телкин – и пошло дело. Люди огороды сажают, а они по кустам прячутся. Теперь че-то Кольки не видать – небось, хозяин выгнал. Оно ж надоедает, это воровство.
Да, а Мишка-тракторист кинет в кузов мешок зеленки, или муки, или семечек, или доску какую – все, что под руку попадется, – и к двору. Уже, конечно, в колхозе, хоть в АО, так не украдешь как раньше, но все-таки. И этот мешок или доску Мишка или пропьет, или подъедет с ними к свободной бабе. И любая примет, потому что у всех хозяйство, а чем кормить?! А тут мужик с трактором, добытчик.
Вот так Мишка кувыркался, кувыркался, а потом задержался на одном месте аж на год с лишним. Вроде, говорят, познакомился он с Надей на базаре или в магазине «Универсаме», лапши на уши навешал до плеч, так и поженились законно. А че, девка молодая, какие у ней мысли? Хоть умные люди и говорили ей: «Не ходи! Не ходи!» А она в одну душу: «Я Мишу люблю». Как будто другие, те, что советовали, никогда не любили. К любови голову бы надо прилагать, а не только другие части тела...
Жалко ее, конечно, Надю-то. Девка неплохая и рабочая. И на вид ничего, светленькая. А может, оно и лучше, что она замуж вышла, то хоть дите у нее есть; а то б впала в бесстыдство, вон, в районе ходят по рынку, завлекают торгашей, сиськи вывалили. Хотя теперь и детная баба до такого может дойти. При нашей жизни – запросто.
Да, а Мишка Кашин, он поначалу, женившись, очумел, что ли: и пить придерживался, и все домой, домой... А потом, когда Надя уж дите ждала, опять закуролесил, закрутил. Раскусил семейную жизнь. Свободы никакой, одни обязанности. Свободы нету, а любви-то у Мишки никогда и не было. А поживи так в четырех стенах, да каждый день одно и то же! Семья, почитай, расширенный монастырь. Мишка воспротивился – запил, загулял; Надя родила; Мишка ей специально стал нерву мотать, мол, дите не мое; Надя, дура, все терпела (а жили они в кухненке, Надины родители им купили); Мишка видит, что пронять ее ничем нельзя, завел трактор, кинул фуфайку в кабину и уехал. С чем пришел, с тем, как говорится, и ушел.
А новая кандидатура была у него давно намечена – Варька Дубова. Ну, старше она Мишки, так не в годах дело, а в умениях. А Варька столько пережила и перевидала, что скрутить какого-то Мишку ей в порядке вещей. Девок своих она замуж отдала, справила, хозяйство у ней – три быка да пять поросят (не считая птицы всяких видов), сама она доярка – много ли на горбу или на велосипеде унесешь?! А тут Мишка с трактором. Бабы Варькиному счастью завидовали:
– Варь, че ты его берешь, он же на пятнадцать годов моложе...
– Алка Пугачева с Киркоровым живут, а мне нельзя?
– Варь, ды Мишка ж пьеть...
– Да пусть пьеть! Я и сама выпить люблю!
Женщина она видная, привлекательная, зубов вставных спереди нету, и вообще, в силе. Жизнь показала, что не любовь Мишке нужна была, а руководство. А Варька, много пережившая и перетерпевшая, она не только Мишкой могла руководить, но и какой-нибудь нацреспубликой – Чечней там или Ингушетией. Она много раз на ферме хвасталась: «Дали б мне войско, верите, в две недели б война кончилась!»
И бабы верили – Мишку-то она скрутила! Ну, выпьет он на стороне, ну, может, подгуляет, а тянет-то все в Варькин двор. И у быков чистит, и у свиней. Варька пообещала Мишке, как сдадут мясо, справить ему зимнюю куртку кожаную, сапоги.
Но тут снова возникла Надя. Все за счастье свое билась. Схватила она дитя на руки, нарядила его, прибегла на машинный двор. Мишку перестрела. Раз перестрела, и два. Сначала говорила: вертайся, потом видит – дела не будет, стала требовать алименты. А какие алименты, если они неразведенные? А хоть и разведенные – зарплату то жомом дают, то комбикормом. Алименты – ведро жома! Мишка Наде примирительно сказал: «Расстанемся друзьями». – Это он в кино, что ли, каком видал. Ну она и ушла.
Но все ж Мишка Надю не знал. Не знал! Че-то в ней как завелось, как заработало, как пошла Надя вразнос! Прокралась на ферму (без дитя), подкараулила Варьку (а как раз пересменка была, народу много), да как понесла ее! И «проститутка», и «шалава», и «страхолюдина», и «тряпка подзаборная», и «кикимора», и «Баба-яга»! Насколько Варька человек опытный, а тут даже поначалу опешила – вот тебе и тихая Надя! Потом, конечно, она опомнилась – стала части от доильного аппарата в Надю кидать – промахнулась. Но поздно, Надя-то ее облаяла!
А людям че, людям любой скандал – и новость, и радость. Языками чешут неделю, две, пока все кости досконально не переберут. Варька прям аж расстроилась. Надела сарафан лавсановый, косынку и поехала на центральный участок, к председателю Гусакову. Мол, так и так, обороните мое честное имя.
Гусакова, нового преда, из района прислали. Он, как прибыл, сразу собрал народ и говорит: «Здравствуйте, честны люди! Давайте наш колхоз переименовывать, а то на нас долгу много. Переименуемся, так все и спишут». Ну и проголосовали, как ему надо, а народ его сразу зауважал – во, голова! Толстый такой Гусаков, крепкий.
Варька нажалилась на Надю, Гусаков вызвал Кашина в кабинет. Стол дубовый, лакированный, флаг РФ в углу трехцветный, на столе портрет Путина в рамке, прям не пред, а губернатор или депутат какой. На что Мишка бестия, и то сробел. Штаны на нем замаслены, рубашонка, кепка в руке. А тут Гусаков – вымытый, вычищенный. «Садитесь, – говорит ласково, – рассказывайте».
Мишка и рассказал – в минуту вся жизнь уложилась. А че рассказывать-то?! Стыдно даже.
А Гусаков говорит отечески:
– Я, Кашин, три раза женат, и у всех жен от меня дети. И никто не скандалит, не обзывается. Цивилизованные отношения. Я, Кашин, всех обеспечиваю. Как настоящий мужчина. Ясно?
Ну Мишка и пошел. Шел, думал, что заплачет, – удержался. Вишь, говорит, всех баб обеспечивает. Всем хорошо... Завел Мишка трактор и поехал к бабе Мане самогонки купить. А сам уже выпивши был, а расстроенный... Страсть! Пришел и говорит:
– Теть Мань! Вот вы – человек ученый, работали звеньевой, что мне делать? Он меня оскорбил! Опишите все на бумагу частному адвокату, буду с ним судиться!
А она:– Ой, Мишк, тут если все за эти десять лет описывать, кто сколько украл, так никакой бумаги не хватит. На каждый год по то´му – целую Библию можно собрать. Ты уж, Миш, молчи, перетопчись как-нибудь, перетерпи. Выпей – вот у меня дымка свеженькая, оно и полегчает. Тише, Миш, тише, ты не расстраивайся!
Так-то вот, ребята! Такая у нас нынче чечетка. А вы говорите: «Чечня, Чечня...»
Свидание
Ваня Петруньков, семидесятилетний, седой и худой, подвижный еще мужичок, схватил коляску и тишком, стараясь не греметь воротами, стал выбираться за двор. Жена его, Таня, хоть и была глуховатой, все же услыхала шум, выглянула из дверей:
– Куды эт ты, по такой грязе?
– Поеду, может, железо найду или еще чего, – горячо стал объяснять Ваня.
– Абы бегал! Жених! – припечатала супруга Таня и хлопнула дверью.
Петруньков громко вздохнул, выбрался-таки за двор и привычно, как натренированная лошадь, впрягся в коляску, волоча ее за собой.
Таня, низко повязанная темным платком, тоже вздыхала, угрюмо двигая по столу посуду. К Любке Береговой побег, это ясно. Схватит коляску – и в лес. Вроде бы колеса брошенные ищет, или железо, или рейку какую. А Береговая, курва, там коз пасет. Ну и идут шашни. Чем старее, тем, гляди, оно глупее становится...Ваня катил коляску по дорожке, потом пересек шоссейное полотно, приглядываясь, не появился ли на обочинах новый хлам, годный в хозяйстве; потом он переменил захват – стал толкать коляску впереди себя, пересекая акционерное поле со слабыми озимыми. Было тепло для начала мая, ближний лесок свежо зеленел, да и все окрестности в один день с приходом поздней весны посвежели, обновились; озабоченно, часто носились птицы; небо раздвинулось, стало синее и выше, просторней, и лишь деревенские домишки чего-то грустили, пережив зиму – на воротах и заборах краска облупилась, потеряла яркость. Но жизнь продолжалась, и с каждой новой весной будто начиналась вновь, и Ваня, вольно или невольно, тоже с каждой весной ждал чего-то нового, необычного. Хотя, честно говоря, ждать-то уже было нечего. Жизнь прошла, дети выросли...
А Любка Береговая, как он и надеялся, уже пасла коз на опушке. Разбитная, всю жизнь свободная, бедовая бабенка, была она кокетливо-весела, приветлива, понимающа. Это не Танька, что вечно ворчит, подтрунивает и считает себя умнее всех на свете.
Береговая, несмотря на годы (а уж и ей перевалило на седьмой десяток), одевалась всегда форсисто. Вот и теперь – в белом платочке в повязочку, в куртенке какой-то светленькой, и ноги – в белых козьих носках, и в калошах, конечно.
– Здорово, Люба! – издалека бодро закричал ей Петруньков.
– Здорово! Никак за золотом собрался? – И Береговая мелко, дробно рассмеялась.
– Не, – серьезно отвечал Ваня, – железо, может, какое найду; погреб надумал летом переделать, так материал нужен.Он подъехал совсем близко, стал рядом.
– А ты че ж, с козами?
– С козами, с козами. Так надоели, а куда, Вань, денесси? Че-то ж есть надо!
Штук десять коз – пуховых и дойных, рогатых, бородатых, белых, серых, старых и молодых истово щипали, почти не поднимая глаз, выбившуюся на свет травку.
– Да, – сказал Ваня, – вот и перезимовали.
– Перезимовали, да, – согласилась Береговая.
...А зима была дурная, почти без снега, и на Новый год лил дождь, и на Крещенье морозы не ударили, потом уже, под Восьмое марта, замело и заснежило так, что апрель разбежался на тысячи журчливых ручьев, озерков, лужиц. А теперь – будто и не было зимы, зимней жизни. Все новое – и трава, и листья, и небо, и даже земля.
– Че ж, Вань, – помолчав, степенно говорит Береговая, – ты телевизор смотришь? Будет у нас реформа денежная или как?
Петруньков – большой дока в политике:
– Смотрю. Плохие наши дела. Ой, плохие, Люб!
– Да ты че?! (Что в Береговой Ване и нравилось, так вот эта доверчивость, наивность. А Таньке что не скажешь – все под сомнение.) – А Путин? Он же берется вроде?
– Че там берется! – Ваню понесло: – Путя, он и есть Путя. Как писклок. Ни голосу, ни твердости. Какой из него оратор?! Ды вышел бы, ды сказал: так и так. А то поехал в Японию, девчонка через себя его и кинула. А берется державой править!
– А че за девчонка?
– Девка обыкновенная. В восьмом классе, что ли, учится.– Что же у них – ребят не нашлось? – изумилась Береговая. – Выпустить некого?
– Не знаю, – отмахнулся Ваня. – Или объявили вот, что учителям повышают на двадцать процентов зарплату. А цены на газ, на свет, скаканули на пятьдесят. Как вжарют! А сами думают: хай эти учителя попрыгают, попляшут, а мы – поглядим. Сами себе домов понастроили, а дальше – хоть трава не расти. Чубайс вон жметь, жметь электричество, потому как ему надо Израилю помогать, деньги давать – те ж постоянно воюют! У них же ничего нет – одни каменюки. Вот и поживи там попробуй! Они к нам и лезут...
Возмущенный Петруньков даже поперхнулся, закашлялся.
– Да... – растерянно сказала Береговая. – А тут сидишь с козами в лесу, ничего не знаешь...
А солнце светило так ярко, молодо, было тепло, но не жарко; и совсем по-другому жилось и чувствовалось среди обновленного леса, нежных запахов первых листьев, травы; и странно было думать, что и весна, и солнце пришли для всех – и для перезимовавших коз, и для рыжего бесстыжего Чубайса.
– Живут они там в Кремле и ничего не видят, – с горечью сказал Ваня.
– Ничего не видют, – вздохнула, подтверждая, Люба. – У меня вон че-то холодильник закряхтел, бросил морозить. Вчера коз подоила, утром глянула – молоко негожее. Почем счас холодильники, не знаешь?
– Не, у нас его давно уж нету. Перегорел. А Ленка Логунова казала, что она свой отключила. А че туда класть? Приходила к моей и говорит: мы холодильник под шкафчик приспособили – складываем валенки, калоши, ботинки – такое добро...– Роза, сатана, че тебя в кусты несет! Не, ты глянь, глянь куда они лезут! – Береговая ходко кинулась наперерез бодливой характерной козе, явно нацелившейся в лес. Любка вовремя заскочила наперед, пресекла опасный маневр. Роза упрямо, испытывающе поглядела на хозяйку и нехотя отвернула в сторону. Была она худой, длинноногой, шерсть клочками торчала на спине, боках... Здоровый козел в ошейнике поднял рогатую голову, дернул розовыми ноздрями и неожиданно тонко, громко заблеял.
– Ой, запыхалась! – доверительно сказала Любка, возвращаясь к Ване. – А че тут и пробегла – пять шагов. И давление, и сердце, никакого здоровья. А мне прошлый год Хомчиха рассказывала: «Пошла к врачам, а те кажут: у вас давление. Я как пришла домой, как взялась работать – ни давления, ничего». Ей семьдесят пять лет, а в дворе – ни одной соринки; угля и дров – лет на десять запасу.
Ваня невольно вспомнил про свой двор. Сколько там всего понастроено – и дом, и кухня, и сараи, и сараюшки, и баня летняя – все своими руками, и, считай, без подмоги. А как они фундамент с Танькой заливали – все кишки порвали... А хозяйство, а скотина, а огород?! А вёсны все долгожданней, но проходят они все быстрей, незвозвратней... Но вслух Ваня говорит другое:
– Слыхала, Люб, Гусаков Шевцову назад поставил.
– Он же ее снимал!
– Снимал, да, за воровство – она в районе два дома себе сделала. Гусакова как назначили, он пришел и выгнал ее. Свою бабу бухгалтером устроил. Та полистала, полистала эти бумажки и отказалась – там же все раскуплено. Клуб и то чеченцам продали под чайную, а за какую цену – неизвестно.
– А старый пред – на пенсию?
– Как же, жди! – Все-таки Любка немного раздражает Петрунькова своей бестолковостью. – Забрали в район судье помогать, дюже ценный кадр. Он, когда коров порезал и распродал, завел на втором участке уток – на взятки. Корову ж на взятку не отдашь. А утки – они удобные – зарубил, ощипал... Так что, Люб, если хочешь выбиться, – Ваня рад показать свое остроумие, – бросай коз, переходи на уток.
Но Береговая от его слов почему-то расстроилась. В голосе ее, в фигуре, во всем облике неожиданно много обиды, горечи:
– Нет, Вань, нам с тобой, видно, уж ввек не выбиться. Херашишь, херашишь всю жизнь, а толку – никакого.
Они молчат. Все так же солнечно, безветренно, свежо, так же сине небо, так же мирно, как и сто, и двести, и тысячу лет назад пасутся козы на сладкой весенней траве, но Ване почему-то уже не хочется возвращения ни в молодость, ни в зрелость. Сил молодых хочется, а время отматывать – жаль. Что-то нажито за жизнь, что-то кроме детей, дома, двора, сараев, и от этого «что-то», неуловимого, необъяснимого, невысказываемого, не так страшно оглядываться назад и не так страшно ждать будущего. Но – грустно, как всегда бывает весной.
– Пойду, – прощается он.
– Иди, – соглашается Береговая.
Но после, когда Ваня покатил коляску по просеке, а потом по другой, он уже ни о чем не думает. Он вполголоса напевает любимую песню «Враги сожгли родную хату...» Да, чего только не найдешь в этом леску! И гигантские пружины от сеялок, и велосипедные остовы, и куски жести, и старые аккумуляторы, и даже – тракторные кабины. Ваня напевает молодым голосом и маракует, как можно пристроить, применить в хозяйстве полезное железо.
...А Таня Петрунькова уже и курам посыпала, и парник поглядела, и щепки, какие валялись, подняла, и просто так, без дела, несколько раз выглядывала на двор. Нету Вани. Сердце ее наливается горечью, горечью бессилия. Уже прошла почтальонка, а Вани нету.
Таня вынула из ящика районную газетку, проглядела страницы. Все хорошо – и людей карточки, и заголовки крупные: «Посевная в разгаре», «Как сохранить молодняк?», «Одуванчики – полезная пища». «Ишь, – подумала Таня, – как в войну – опять на траву переходют».
А на последней странице опять: сидит эта проститутка. Таня невольно выругалась. Голая, изгибается, патлы распустила. В руках – пузырек. А рядом, в рамке, обещания: «Покупайте таблетки „Интим“, и вы снова почуете мужскую силу».
Таня Петрунькова воровато оглядывается, спешит в хату. Пока нету Вани, она вырезает из старой газетки кроссворд, который точь-в-точь закрывал бы голую курву. Таня аккуратно намыливает заплатку и прижимает ее книжкой. Ничего! Глаза у Вани уже не зоркие, подмены он не заметит...








