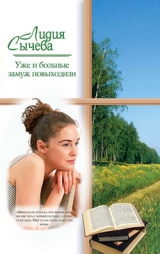
Текст книги "Уже и больные замуж повыходили"
Автор книги: Лидия Сычева
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 18 страниц)
– Люблю.
Они целовались и ласково боролись, перекатываясь по земле, и все разговоры между ними теперь свелись к одному – последней близости. Он старался быть с ней бережным и все просил ее, уговаривал, настаивал, умолял:
– Ну чего ты, глупенькая? Ведь у вас, у молодежи, все стало просто! Господи, – почти плакал он, – да за что мне такая мука?!
Она жалела его, ласкала, обнимала еще крепче, но разрешить ничего не могла. Почему? Она не знала. Этому противились не ее чувства или разум, или тело, а что-то другое, чего она не могла в себе понять и объяснить. «Нет», – твердила она уже почти механически, и он в конце концов отступился.
Прошла осень, потом зима. Осенью было много туманов, дождей, распутицы, зимой – гололеда, снежных заносов. Николай водил тяжелый ревущий «Урал», увозил ее из Подкопаевки в лес, в поле, к реке. Дороги были плохие и осенью, и зимой; машина тяжело перебирала рубчатыми колесами по грунтовке, давя грязь, трамбуя снег; и больше всего в их отношениях ей нравилось это упрямое движение вперед, грозовой гул мотора, «уральская» сила, мощь.
Все остальное было ужасным.
Жизнь ее окончательно потеряла цельность – будущего у них не было, а роман, отягощенный мучительной незавершенностью первой ночи, длился и длился.Она никогда не влюблялась ни в артистов, ни в певцов модных групп, ни даже в литературных героев, вроде Печорина, и каким должен быть ее избранник, не знала. Брюнет или блондин? Штатский или военный? Принц или нищий? – Ей было не то что все равно, но она не понимала, какое отношение к такому стихийному чувству, как любовь, имеют ее личные желания.
Теперь она изводила себя размышлениями: почему он был совсем, совсем чужим?! Неужели она заслужила такую любовь?
Два письма «до востребования», присланные им из командировки, причинили ей почти физическую боль своей глубочайшей безграмотностью. Но еще больше ее угнетало его апатичное безволие, равнодушная готовность к любому несчастью, беде (радости, чуду); неисчерпаемая терпеливость, вдруг прерываемая водкой, диким, агрессивным запоем. А пил он часто и по любым поводам – то «для храбрости», то «с горя». Каждый день, отправляясь в школу, она останавливалась у широкоствольной ивы, основание которой поросло плотным, каменной прочности грибом. И она чувствовала себя таким же деревом, несчастным в своей недвижимости и навсегда слитым с болезненной нарослью. Выхода не было: она жалела Николая (за то, что он когда-то пожалел ее); ненавидела – за страх перед разоблачением их преступной, позорной связи; и все равно тянулась к нему, как тяжелобольной к наркотическому лекарству. Развязаться, расстаться, уйти, избавиться – ни на что не хватало сил!
...А в школе для выпускников провели вечер-диспут: «Существует ли настоящая любовь?» Марина, по просьбе русички, красивым шрифтом написала на ватмане: «Любовью дорожить умейте» и прочее, из Щипачева.
Она будто жила в двух измерениях, и второе – тайное – теперь намного перевешивало явное, вся ее жизнь день за днем катилась под горку в темный тупик. Странно было: так же блестяще, как и прежде, отвечать на физике и геометрии, возвращаясь из школы, вешать на плечики в шкаф одежду, вечерами, таясь, обманывать мать, бежать на свидание с Николаевым «Уралом» и в промежутках между этими логичными, осмысленными действиями слышать, как истончается твое время. Разве что некоторая замедленность, суховатая педантичность появилась в ее движениях, все чаще, перед тем как заговорить с кем-нибудь, она поднимала на собеседника темно-зеленые, с большими черными зрачками глаза и все смотрела, смотрела...
Стояла середина марта, весна рождалась из грязи, остатков просевших, серых сугробов, какой-то болезненной бескормицы – худые воробьи копались в кучах навоза, перезимовавшие вороны без конца каркали – уныло, приглушенно, ни в небе, ни на земле не было ни одной яркой краски – все сливалось в пасмурную, размытую муть.
Вечером она достала из ящика шкафа целлофановый пакет с лекарствами, аккуратно разложив их на столе, принялась изучать аннотации. Химию она знала – усмешка скривила ее губы – не хуже Базарова, да. Мгновенная легкая смерть. Вечером – жизнь, ночью – сон. Она не чувствовала страха, а лишь взрослую умудренную усталость, и все прикидывала на бумажке, как бы отобрать все точно, ничего не перепутать, не ошибиться. Об умерших – хорошо или никак, пусть лучше никак после смерти, чем плохо при жизни. Она ни о чем не думала, ничего не хотела, голова раскалывалась, и она с радостью вспомнила, что, отравившись, попутно избавится и от этой боли.
– Захворала чем? – Мать стояла рядом, тревожно заглядывая в ее лицо.
– Нет.
– А я вот, – мать виновато потопталась, села на краешек дивана. В руках у нее был двухлитровый желтый бидончик, – хотела побалакать с тобой...
– Давай побалакаем. – Дочь с досадой отодвинула лекарства.
– Марин! Надо ж думать, поступать куда летом! – горячо начала мать. – За хлебом ходила, так Костина Люба кажет, что девку свою в педучилище или в колледж в Елец, или в техникум строительный, в Ливны, что ли...
Она молчала.
– Ну вот, ты не думай, – заторопилась мать, – не горюй, – она сняла крышку с бидончика, – гляди, я денег насобирала! – Бидончик наполовину был заполнен крупными купюрами, пачками и в россыпь. – Хватит людям дать, куда захочешь! Хоть на юриста, или на менеджера, на врача – зубного или хирурга – тоже выгода есть!
Мать все говорила, спеша, не говорила – уговаривала, убаюкивала, а она смотрела на нее будто в первый раз, видела сбившийся на длинное ухо платок, пегую прядь (господи, а ведь ей всего сорок!), руки, уже покрученные ревматизмом, рваные резиновые боты на ногах... Она потерла виски, отгоняя наползавшую на глаза темноту. Очень хотелось спать.
– Овсянников, видимо, – тихо заметил Петр Георгиевич.Евгения Андреевна возразила одними губами:
– Лукьянов. Или Петровский.
Они второй день принимали экзамены на физмат университета и по ответам поступающих легко угадывали почерк репетиторов.
Худощавая абитуриентка, одетая по-школьному торжественно – белый верх, черный низ, с суховатыми, но приятными чертами лица, с тщательно собранными на затылке волосами, отчего уши у нее торчали наивно, розово, отвечала без всякого волнения – точно, свободно.
– Первый вопрос – достаточно, – мягко остановил Петр Георгиевич, – второй опустим, он для вас слишком прост. Покажите, пожалуйста, практическую часть.
Она протянула исписанные четким, правильным почерком страницы.
– Прекрасно, – пробежав решение, оценила Евгения Андреевна. – Логика безупречная, сделано весьма рационально. Однако оформление, – она легко поймала спокойный взгляд абитуриентки, – скажем, э-э-э, несколько старомодно. Марина, э-э-э, – она заглянула в протокол, – Анатольевна, кто вас готовил к экзамену?
– Никто. – Абитуриентка скривила губы в иронической усмешке и на мгновение стала совсем некрасивой. – Я занималась самостоятельно. По учебникам за первый и второй курс.
Экзаменаторы переглянулись.
– Вы москвичка? – заинтересовался Петр Георгиевич.
Она назвала область, район.
– Бывают ведь в жизни чудеса! – наклоняясь к уху Евгении Андреевны, зашептал Петр Георгиевич, когда дверь за абитуриенткой закрылась. – Даже в наше время! – очередного отвечающего он уже не слушал. – Самородок! Из какой-то Тмутаракани! Жалко девчонку, на письменном, конечно, срежут.
– Посмотрим, – зашипела Евгения Андреевна и неожиданно громко, брезгливо чихнула – яркое солнце, пробравшись в открытую створку окна, било ей прямо в лицо.
На Канарах
I
Ольга Дубравина улетала отдыхать на Канары.
– С мужем? – ехидно интересовалась по телефону приятельница.
– Нет, – Ольге почему-то было неприятно объяснять. – У него много работы.
– Значит, с любовником? – допытывалась трубка.
– Не говори ерунды! – искренне возмутилась Дубравина.
– Ну тогда за любовником. – И на другом конце провода горестно, подытоживающе вздохнули.
...В первую же ночь на острове она проснулась в просторном и пустом номере от грохота – далекого и близкого. По балкону кувыркались пластмассовые стулья, бились о стеклянные двери. Внизу, у подножия шестнадцатиэтажного отеля, рокотал океан, свежая пена рвала темноту. Волн не было видно, прибой барабанно бахал в скалы, океан шел на штурм. Ветер выл, свистел и пугал, как в голодную русскую зиму. Ольге вдруг стало страшно и одиноко. Почему-то ей представился голубой глобус в аккуратной сетке меридианов и параллелей; планетка была расчерчена на милые, симпатичные, но все же тюремные клеточки. Чья-то жестокая рука крутила, забавляясь, глобус, произвольно выбирала жертвы. Невидимая власть разгребала тесную московскую суету, легко, двумя пальчиками, взяла за шиворот Дубравину, играючи пересадила ее в другой квадратик планеты. Ольга не была «новой русской», летом отдыхала в Крыму или в Сочи и никаких экзотических островов никогда не желала. Все вышло странно: президент их фирмы, скупой, некрасивый грек с такими характерными чертами лица, что Дубравина при встрече с ним долгое время не могла сдержать улыбки, вдруг вызвал ее неделю назад, похвалил за толковый отчет и вручил конвертик с путевкой. Противиться было невозможно – в фирме это понимали. И вот теперь Ольга лежала на необъятной казенной постели, величиной с ее комнатку в Москве, и тревожно слушала заоконный рев. Она накрывала голову тощей синтетической подушкой, но волокно лишь убирало шумы, помехи; казалось, что легионы, закованные в броню, идут на приступ, скандируя в тысячи беспощадных глоток: «У-ез-жай! У-ез-жай!» Под утро, когда в гигантских – на всю стену – окнах посветлело, океан стал стихать, и она уснула.
Днем, лежа в теплом каменном закутке на берегу, она лениво вспоминала свои страхи. Ветер все еще трепал верхушки пальм, облака набегали и кутали непослушное солнце, но океан помалкивал, редко и презрительно шлепал волнами, брызги были похожи на плевки. Вода была зловещей и темной; редкие купальщики, преимущественно старые, изможденные немцы, ничуть не стеснявшиеся и, похоже, даже гордившиеся своей устрашающей наготой, отважно окунались, не решаясь плыть. «Все-таки странно устроена жизнь, – размышляла Ольга, механически подсчитывая глазами немцев, – в Москве – зима, черные остовы деревьев на бульварах. Казалось бы, мертвые деревья, без листьев, обледенелые. Что они делают всю зиму? Умирают и думают. А тут – вечнозеленая пальма. Плюс тридцать в любое время года. И прибрежные скалы – цвета ужаса». – Она насчитала двенадцать немцев мужского и женского пола и прикрыла глаза.
Нет, хорошо ездить по свету, открывать новые страны, ступать по чужой земле, где рядом растут знакомые ромашки и диковинные ушастые кактусы. Хорошо – Ольга вспомнила сегодняшнее умиротворенное утро – смотреть с высоты на банановые плантации, видеть, как из воздуха, напитанного ночным дождем, рождается многослойная радуга, тугая и яркая. Хорошо быть спокойной и беззаботной, иметь красивую, пахнущую кокосовым маслом молодую кожу, носить короткие шорты и просторную майку и ни о чем, ни о чем не думать! Она радостно повела плечами, приподнялась на локтях, по-новому взглянула на побережье. Здесь красиво и солнечно, и даже немцы, ровесники Третьего рейха, чувствуют себя бодро. Значит, есть другие миры, совсем рядом с обыденностью, есть счастливая карнавальная жизнь. Земной шар, конечно, в клеточку, но не в тюремную, а в шахматную, и любая проходная фигура может обернуться королевой, оказавшись на нужном поле. Ольга легко встала, подхватила пляжное полотенце и ловко запрыгала по камням, поднимаясь вверх, к отелю.
II
Весь мир собирается вечером у стойки бесплатного бара в отеле «Las Cristianos». Бармен с неприятным, бледно-желтого цвета лицом и дежурной улыбкой, похожей на оскал, не успевает отпускать напитки. Со всех сторон на ломаном английском заказывают виски, вино, колу, пиво. Отдыхающие предупредительно доброжелательны друг с другом, их тела помнят канарское солнце и пальмовую тень. Кажется, что время остановилось. Здесь всегда многолюдно, шумно; аниматоры устраивают фокусы и развлечения, караоке и танцы; старомодно-классически кружатся под музыку пожилые пары, трясется в экспрессивной дрожи молодежь.
Воздух острова напитан удовольствием – Ольга теперь это знает. День и ночь приезжие – немцы и итальянцы, французы и русские – что-то потребляют, покупают, поедают; разрушают, как полчища термитов, тысячи шведских столов, волей-неволей погружают свои тела в океан, судорожно набирают отдыха на уплаченную сумму. Но все же, гуляя по острову, Ольга научилась выделять из толпы соотечественников – что-то особенное было написано на русских лицах – непреходящая изумленность, удивление происходящим.
– Русская? – Ольга невольно вздрагивает и чуть не проливает кофе на брюки. Рядом стоит высокий, точно сошедший с рекламной картинки молодой мужчина. Он, конечно, тоже доброжелателен и улыбчив, как все обитатели волшебного острова. Здесь нет нищих и грабителей, все для удобства и удовольствия, все для счастливой и комфортной жизни... Ольга одна за низким журнальным столиком, и незнакомец жестом просит разрешения присесть.
– Пожалуйста, – говорит Ольга. – Интересно, как вы догадались?
У него сильный акцент, он рассказывает с паузами, останавливаясь, чтобы подобрать нужные слова. «Я работаю с русскими семьями, вожу их на презентации в дорогие отели. Одна семья – сто долларов, – он хлопает себя по карманам джинсовой куртки, – здесь. Русские, русские... Что-то в глазах есть, правда? – Он грозит пальцем, смеется. – Я из Хорватии, мама – красавица, славянка. – Достает бумажник, где в полиэтиленовом окошке виднеется коричневое от времени фото – жених и невеста в виньетке-сердечке. – Папа – португалец, – незнакомец смеется, машет рукой, – нет папы, бежал. Зато он дал мне знаменитость-фамилию – Маркес, – он повторяет по слогам, – Мар-кес! Понимаешь? Я – Дамир Маркес. А ты?»
Ей нравится мягкое, глубокое кресло, нравится праздность, пряная испанская музыка, нравится Дамир – с профилем и сложением героя-любовника, с мужественным загаром, сквозь который на шее играют широкие мускулы; нравятся его глаза – неестественно голубые, как вода местных бассейнов. Она охотно отвечает, замечая, впрочем, что в интонациях, в голосе, во всех движениях у нее появляется что-то пластичное, зовущее, как бы расплавленное курортным солнцем. «Я похож на принца, да?» – смеется, склоняясь к ее уху, Дамир, комично выговаривая слова. От него пахнет горьким одеколоном, дорогими сигаретами, южным ветром. Он, конечно, не принц, он – актер, играющий свою роль; действующее лицо «мыльных опер», бесконечных тянучек с красивыми страстями, мгновенно вспыхивающей любовью навеки и игрушечной, кукольной смертью. «Да-да, – соображает она, танцуя с Маркесом и пробиваясь смутной мыслью через подчиняющее ее телесное волнение, – все как в кино. Он – сильный и благородный, она – дикарка из России, золушка...»
– Выйдем? – шепчет ей Дамир, и она, удивляясь собственной беспечности, соглашается.
На улице особенно тихо после шумного бара, свежо. Он набрасывает ей на плечи свою джинсовую куртку, теплая ткань приятно согревает тело.
– Ты замужем? – он спрашивает серьезно, резко.
– Нет, – почему-то врет она.
Южное небо высоко стоит над океаном. Звездно, и кажется, что черные выси прибиты к куполу-невидимке золотыми гвоздями. Теплые скалы пахнут солью, грозно круглятся в ночи. Океан тихо плещется у ног.
– Послушай, – говорит Дамир, и ей кажется, что он взволнован. – Я люблю солнце! Тепло, легкую одежду, чистоту, фрукты, молодое вино. Солнце – везде. Здесь не бывает снега, дождь – редко. Здесь весело, приятно. Можно жить в купальниках. Не надо ничего стесняться. Остров – рай. Эдем. Все известно, спасительно. Надо быть счастливым и получать удовольствие, – он обнимает Ольгу умело и бережно. – Люди понравились друг другу – удовольствие... – он не смог подобрать подходящее слово, что-то пробормотал по-английски. – Женщины и мужчины созданы Богом, чтобы доставлять друг другу удовольствие, – убаюкивает он ее, – и сейчас мы будем вместе...
Но сквозь сладкую, чувственную тягу у нее в сознании вдруг всплывает навязчивая часовая мелодия: «Динь-тинь. Динь-тинь». Ольге кажется, будто в эту самую секунду неведомая сила заводит механический остров-табакерку, где все игрушечное – не знающие грязи и поломок автомобильчики, белоснежные жилища, оплетенные плющами, синтетические человечки с хорошими фигурками и вечно улыбающимися ртами. И вот сейчас красотка-кукла Барби и ее дружок, супермен Кен, начнут совокупление на отдыхе в романтичных бамбуковых зарослях.
– Мне пора в отель, – говорит она вслух и поражается хриплости своего голоса.
III
На следующее утро она пропустила завтрак, спрятавшись в рваный, принужденный сон. Часам к одиннадцати она все-таки приподнялась на локте, увидела в зеркальных дверях опухшее некрасивое отражение, с ненавистью швырнула в него подушку.
Вчерашний вечер представлялся ей пошлой, давно отодвинутой во времени историей, случившейся не с ней. А раз так, то и думать было не о чем.
Ольга завернулась в одеяло, удобно устроилась в кресле напротив телевизора; перебирая кнопки пульта, она сквозь ресницы смотрела на чужую жизнь. По бесконечному телепотоку неслись новости, реклама, погода; люди старательно убивали друг друга в боевиках, они же веселились в шоу, давали интервью, блестя белыми, как керамика дорогих унитазов, зубами. Каналы невозможно было сосчитать: казалось, что зритель помещен в супермаркет-лабиринт; ведущие-зазывалы на всех европейских языках предлагали цивилизованному потребителю потратить время. Доверчивая жертва, окруженная броскими цветными упаковками, не уходила из «ящика» без покупки...Дубравина работала в отделе маркетинга и знала законы движения товара.
Вдруг она услышала родную речь. Ольга вздрогнула: телевизор громко и внятно произнес матерное слово. Она жадно впилась в экран – канал «Art» показывал русский документальный фильм о колонии малолетних преступников. Перевод был замедленным, несинхронным. Стриженый мальчик, похожий на червя, извиваясь и кривляясь, кричал ругательства в камеру.
Она всегда с брезгливостью относилась к так называемой «чернухе», к темным и жестоким мирам; избегала нищих; никогда, даже в детстве, не подбирала на улице бездомных котят. Но здесь, на Канарах, среди глянцевой комфортной жизни, она с новой, незнакомой ей болью, с каким-то самоистязающим интересом упорно всматривалась в изображение.
Фильм был намеренно груб, натуралистичен. Маленьких зэков сладострастно избивали воспитатели; старшие глумились над младшими, придумывая все новые и новые пытки; Ольгу ужасали крупные планы арестантов – бритые узколобые головы; серые, почему-то безбровые лица с маленькими заячьими глазками. Ей было особенно больно видеть татуировки на впалых, неразвитых грудных клетках, опущенных плечах. Дотошные журналисты жестоко, с хирургическим хладнокровием выворачивали напоказ смердящие раны колонистского существования: вот конопатый мальчишка, худой, с губастым, в заедах, ртом рассказывает, как глотал иголки, травился негашеной известью, чтобы попасть в больницу; вот общая сцена в столовой, смена голодно хлебает баланду из алюминиевых гнутых чашек; вот полосатые заключенные гуськом ползут в десятый уж, наверное, раз вокруг плаца, и видно, как отставшего, с клочковатой пеной на губах, татарина, подгоняя, пихает в бок форменный сапог надзирателя... Но она разревелась не от боли, которую ей причинял фильм, не от издевательств над арестантами, не от страха за их ночное, темное существование, а от жалости к ним, когда репортер стал комментировать убогие праздники заключенных. Мальчишки, неумело кривляясь, в самодельных балетных пачках изображали на сцене «танец маленьких лебедей». И Ольге был невыносим вид полусогнутых, тюремно-белых ног, выделывающих примитивные па.
Она плакала истово, покаянно. О чем? Она и сама не знала – мысли ее мешались. Вся жизнь представлялась сейчас безответственной, легкой и фееричной, необязательной, бездумной и потому пропащей. Любила ли она своего мужа? Здесь, на острове, далеко от дома, ей казалось, что да. Ольга, всхлипывая, вспомнила его молчаливую покорность, уступчивость; все, что когда-то в нем раздражало, стало на мгновение дорогим, умильным. Как он радовался, гордился, покупая Ольге какую-нибудь красивую вещь! Она плакала, обвиняя себя в неблагодарности, глупости. А Сережа, сын? Дубравина разрыдалась от мысли, что до сих пор не вспомнила о нем, хотя, уезжая, оставила его с соплями и кашлем. Сердце ее сжалось. Она тихо поскуливала, проклиная свою беспечность, вчерашний вечер вырастал теперь до размеров вселенского греха, который невозможно искупить; ей чудилось, что сынишке угрожает смертельная опасность, гораздо большая, чем осложнение болезни; что-то горевое, непобедимое маячило в будущем, пугая ее расстроенное воображение. Колония для малолетних преступников, например.Дикий материнский страх проснулся в ней. Мальчишки-зэки тоже когда-то были незлыми, шаловливыми, ласковыми малышами, как ее Сережа. Она видела себя одинокой, виноватой и беспомощной здесь, вдали от тех, кому была нужна. «Как жить? Что делать?» – твердила Ольга сквозь слезы, и оттого, что вопросы эти были чужими, усвоенными со школы формулами и потому не выражающими глубины ее горя, она расстраивалась еще больше.
Когда она, наконец, успокоилась, умылась, густо напудрила лицо и спустилась в ресторан, глаза ее горели таким пронзительным и больным огнем, что со встречных лиц отдыхающих испуганно сходили доброжелательные улыбки.
IV
С этого времени ее жизнь на острове превратилась в доживание. Она исправно отбывала положенный срок, считая дни до даты чартерного рейса. Чувства ее как бы притупились, потеряли яркость. Ольга не ощущала вкуса экзотических блюд, не пьянела от вина, не могла определить температуру воды. Казалось, что тело превратилось в резиновую оболочку, автомобильную камеру, из которой выпустили воздух.
Как-то в отеле появилась большая компания русских. Все они, судя по репликам, были служащими рекламно-туристического агентства и на острове снимали ролик о прелестях канарского отдыха. По вечерам соотечественники теснили иностранцев у стойки бесплатного бара; заводила компании – смазливый, не без шика одетый бабский угодник – носил к сдвинутым столикам коктейли и водку; женщины, с жирно накрашенными, вампирскими губами, с огромными завитками кудрей, громко и пьяно выкрикивали тосты. Они походили на вырвавшихся на свободу продавщиц гастрономов. Вечерние платья, по-цирковому блестящие, придавали им комически-жалкий вид. Компания держалась сбитой, спаянной стаей, вела себя развязно, нахально, шокируя привыкших к условностям иностранцев. Но Дубравина, наблюдая за варварским поведением соотечественников, почему-то испытывала не только стыд, но и затаенную радость.
Теперь она часто, завернувшись в казенное полосатое полотенце, сидела на берегу океана и покачивалась в такт волнам. Ольга злорадно думала, что стоит океану захотеть, разбудить подземную вулканическую силу, и от острова останется горстка мусора на поверхности. Да, стоит захотеть... Она шаманно покачивалась, улыбалась, будто великанские силы были у нее в руках. Вспоминалась Москва, родной квадратик двора с мусорными контейнерами у подъезда, сам подъезд, где на входной двери на уровне глаз крупно чернело короткое и выразительное слово; уборщица в линялой спецовке и отвратительных резиновых перчатках до локтя. Уборщица мела по утрам собачьи нечистоты у подъезда и встречала жильцов безадресным горьким ругательством: «Сволочи, какие сволочи!» Жильцы виновато втягивали головы в плечи, но тишком все равно гадили...
В последний вечер на острове Ольга столкнулась в баре с хорватом. Маркес вел под руку длинноногую длинноволосую девушку, грудь ее нестесненно колыхалась под матовой блузкой. Она вся струилась, переливалась, играла гибким телом, благоухая веселым, доступным, здоровым желанием. Дамир что-то ей вдохновенно объяснял; Ольгу он, похоже, не заметил, не вспомнил. Лицо его выражало полное маленькое счастье....Соседом по самолету у Дубравиной оказался университетский преподаватель из Волгограда. На Канарах он отдыхал с женой. Сейчас она сидела через проход – важная, чопорная, в широкой норковой шубе, в высокой, под боярыню, меховой шапке. Лицо у нее было бледно-зеленое, цвета тетрадочных обложек – перелет давался тяжело. Преподаватель бегал к стюардессе, педантично менял жене пакетики, а в остальное время клеился к Ольге. Он перечислял страны и курорты, где ему довелось побывать. Ольга досадливо морщилась; все это время она с ужасом думала о том, что самолет не долетит, непременно разобьется; поглядывала в иллюминатор на бесстрастное тупое небо. Рассказчик ей мешал размышлять о близкой и неизбежной смерти. Когда он начал сравнивать пляжи Майями и Хургады, она повернулась к нему и, с ненавистью глядя в среднеинтеллектуальное лицо, украшенное очками, чеканно спросила:
– На какие средства катаемся? Взятки берем?
Когда она вышла из самолета, когда увидела пустое московское небо, голую взлетную полосу, оранжевый автобус-перевозчик с неисправной дверцей, небритого водителя в драной зимней шапке с отвернутыми ушами, то почувствовала не радость, не облегчение, не тишину, а лишь тяжелую, потливую, тропическую усталость.








