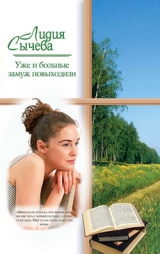
Текст книги "Уже и больные замуж повыходили"
Автор книги: Лидия Сычева
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 18 страниц)
Осенние свадьбы
Седина в бороду – бес в ребро. Не знаю, как в других деревнях, а у нас в Лазоревке народ подурел.Прямо половая революция – люди сами себя не осознают.
Взять кума Андрея. Пришел он ко мне (а я давно его звала – с месяц) электромясорубку поглядеть, она че-то поломалась. Ну первым делом я его покормила – борщ да пирожки с картошкой пекла. Потом он на веранде разложил все эти железяки, я его и спрашиваю:
– Ну как там твоя Анна?
– Какая Анна?
Я прямо аж испугалась – может, я не знаю чего?! У нас как зашел мор – пять человек за неделю похоронили. Зимой, правда, дело было. Гашка померла, к ней люди зашли, полы земляные, света нету, спала на раскладушке – это ж страсть! От государства ничего не получала... Зюзя замерз по пьянке. А Римма Крайнева тоже чуть в хате не пропала – топить бросила совсем, стала коченеть, кое-как доползла до Дубатовских, те кинулись ее отогревать, побегли в хату, там стынь страшная, все дрова пожгли за два дня, а так и не нагрели. Во страсть была!.. В эту пору, в холод собачий, баба Маня добровольно в больницу легла – на время мора. Ну, пока тут народ подобрали, ей операцию сделали и выпустили.
Да, так, может, и с кумой че случилось? Живу на отшибе, ничего не знаю. Вышла я, по двору походила, обдумалась. Опять за свое:
– Андрей, ну че ж там Анна твоя делает?
– Какая Анна?
– Ну ды Нюрка твоя!
– А, Нюрка... Ды че с ней сделается, все так же.
Ишь ты, гляди, он свою бабу ни во что не ставит – Нюркой зовет. Гулена еще тот! Опять же, время такое – по телевизору что угодно показывают. Тут недавно выступал ученый, мужчина представительный такой, в очках, и говорит корреспонденту: «Молодежь жалко, она страдает от разнузданности. А на пенсионера порнография уже не действует». Я ему прям хотела письмо написать, а потом одумалась – конверты дорогие, а пришлют ему или нет – по нашему времени это неизвестно. Хотела ему сказать: товарищ дорогой, разврат на всех влияет. У нас в Лазоревке недавно от любви два участника войны скончались. Петя Ляхов гонял в голом виде свою бабу по хате – почтальонка рассказывала. Она пенсию носила, заходит, а тут такой содом. Она ему: «Это что такое? Ну-ка оденьтесь немедленно, прекратите безобразие!» Догонялся, что загнал бабу в гроб, и сам помер. А Давыденко (он тоже с его года) тот, вообще, возле магазина рассуждал:
– Вон, Михалкову, дяде Степе, девяносто лет, он взял бабу новую, ей сорок пять, и живуть лучше, чем с первой, с какой пятьдесят четыре года прожили, – а сам желтый, высохший, там и табачок, небось, усох, зубы торчат, а туда же – жениться!
Римма Крайнева прям не выдержала:
– Ой, Семеныч, да сорок пять чтоб, тебе тут такую и не найдешь!
Мол, где ж тебе такую дуру взять, хоть ты и с пенсией участника войны... Вишь, через Михалкова они себе волю какую получили! Вот тебе и телевизор!
Да, так про кума Андрея. Тут же тоже дело было громкое. Андрей, он, конечно, мужчина видный, на гармошке играет. И на лицо он хороший, это да. Анна, чи Нюрка, хлебнула беды с ним здорово. Думала, к старости хоть спокойно поживет – куда там!
А дело было так. Надя Гречина всю жизнь одна протрепалась. Выходила она замуж в Митрофановку, что-то не сложилось у них, вернулась домой. Девка у нее выросла, уехала в Тамбов, выучилась и благополучно живет там своей семьей. Наде, ясное дело, скучно. А в молодости, детьми, они с кумом Андреем гуляли. Понятно, что года прошли и все быльем поросло и тиной затянуло. А тут пошли по телевизору сериалы – «Рабыня Изаура», «Дикая Роза» и другие – потом их уже столько было, что названия стали забывать. И че Нинку ударило, возьми она и напиши, под влиянием ихних страстей, письмо куму Андрею. Мол, еще на заре туманной юности я тебя полюбила и до нынешней закатной зорьки думаю только про тебя. Как услышу твою гармошку – плачу, и не рви ты мне сердце своим равнодушием. Много холостых, а я люблю женатого, один ты мой нареченный до гробовой доски. И дальше – длинно так, да складно, будто списывала откуда.
И, видно, сильно нашло на нашу Нинку помутнение – возьми она да и отправь это письмо по почте! Будто так нельзя было сказать – живет через пятнадцать дворов! А почтальонка (не та, которая Ляхова осаживала, эта приезжая, из беженцев, недавно у нас, и женщина она культурная), а Дуся-заведующая, возьми да это письмо и прочитай. Потому как Дуся по всем письмам лазит (если какую десятку внучку вложишь в конверт, обязательно вынет), это раз, а второе, Дуся путалась тогда с кумом Андреем (так люди говорят), ну и понятно, что ей было страсть интересно, чего ему за послание. После читки ее аж затрясло, она конверт, как был, заделала, шасть к Анне (Нюрке то есть) и лиса-лисой: «Тут Андрюше твоему письмо заказное, он дома или нет?» А сама видала, что он на мотоцикле уехал. Анна, чистая душа, ни сном ни духом: «Либо родня с района пишет, племянница должна на свадьбу приглашать». «Ага, небось на свадьбу». – Дунька, говорят, аж кипела вся, но виду не показала – кинула конверт и пошла.
А Нюрка (или Анна, как мне теперь ее звать, я уж и не знаю) тут только и додумалась: чего это Дуська письма разносит, ноги бьет, когда на это есть специальный человек?! Письмо – не телеграмма, и что тут за срочность, что сама заведующая на дом его приперла?! Ну и залезла она в конверт, и дар речи потеряла. Схватила палку, с какой скотину выгоняет, и побегла к Наде драться. Обзывала ее по-всякому, замахивалась и окна в сенцах разбила, когда Надя в хату стала отступать. Анна от этого окончательно озверела и стала причитать: «Ды чи других вам мужиков нету, когда ж вы, курвы, натаскаетесь?! Чи вам, кроме моего Андрея, и глянуть больше не на кого? Убью тебя, шалава, так и знай, и ничего мне не будет, потому как заступаюсь за свое, законное».
Потом вечером стыдила она кума Андрея. И такой, и растакой, и когда ж твои глаза бесстыжие перестанут на профур пялиться, уже дети выросли и внуки пошли, а ты все таскаешься, ищешь в бабьих юбках открытия. А кум Андрей:
– А я че? Я ниче...
И правда, ничего – не он же писал письмо, а Надя Гречина сама его призывала молодость вспомнить. Ну Анна пошумела-пошумела и примирилась. Римма Крайнева ее приходила утешать, советовала: мол, не бери в голову, не мыло – не смоется. У Риммы-то опыт богатый в этих делах, у ней сын, Сашка, почти каждый год женится, и со всеми – под запись. Невестка (из старых призывов) недавно лезла через забор, Римма ее черенком лопаты стукнула по рукам, а та: «Не трогай, я не к тебе лезу!» А че лезть, если он уже новую взял?.. Новой – сорок один год всего, замужем не была.
Ну Надя и затихла после этих баталий. Жалилась только почтальонке: «Это все любовь! Это все любовь!» – Мол, не она виновата, а роковое чувство – через него и завелась вся катавасия.
А кум Андрей Дуську сам бросил – то ли за глупость, то ли надоела она ему. Ненадолго, конечно. Потому как такие женятся до гробовой доски. Вон, Собчак. Говорят, и помер из-за бабы. Вот тебе и демократия, вот тебе и перестройка!
Да что Собчак! Я кума Андрея проводила (наладил он мне мясорубку, все ж не только по бабам, но и по машинам он здорово разбирается), глянула с крыльца – Маруся Ткачева картошку выбирает у Афанаса. Он вдовый второй год. А Маруся, значит, правду говорят, наладилась за него замуж. Обоим – под семьдесят лет. Маруся – русская красавица, лучше Зыкиной, а он – гадкий с молодости был, рябой. И на вид – вроде Починка, унылый, хлипкий. Да еще пьяница. Спрашивается: на ляд он ей нужен?! Свой огород – вон какой...
Последние женихи
На воротах звякнула щеколда, дверь душераздирающе скрипнула, и после некоторой возни в сенцах в хату вошла худощавая, ладно сложенная женщина немолодых лет со следами былой яркой красоты в лице и фигуре, а также с намеком на изящество в простой, но с умыслом надетой одежде.– Ой, ды какие люди! – вскричала баба Галя и чуть подпрыгнула на диванных пружинах, как бы символизируя вставание. Нежданной гостьей оказалась несостоявшаяся невестка Алка. Лет сорок назад брат бабы Гали чуть было не женился на ней, но родня дружно воспротивилась браку – девка была хоть и красавица, но из совсем уж нищей семьи.
– Приехала к тебе специально, думаю, воскресенье, надо повидать, – певуче говорила Алка, касаясь рукой белой, чисто выстиранной косынки, и мягко ступая маленькими ногами по рубчатым половикам.
Гостья, несмотря на немолодые годы, сохраняла живость и даже изящество в движениях, а также ту особенную опрятность и точность, что всегда свойственна природной красоте. Лицо ее, с правильными чертами, было высохшим, но голубые глаза не потеряли блеска, и даже передние железные зубы не портили общего впечатления от ее чуть высокомерной улыбки. Одежда на ней, по деревенским меркам, была весьма смелой – цветные носки в полосочку, темно-серая юбка по колено, желтая кофта на пуговицах и белая, не без шика повязанная косынка, обнаруживающая безупречные линии ее головы.
– Садись, садись, – заприглашала баба Галя гостью, и та легко присела на старый стул.
– Ну че, че ты? – со стыдливым выражением на лице, бабе Гале совершенно не свойственном, спросила она.
– Да че... – задумалась на секунду посетительница, видимо, не зная, с чего начать разговор. – Что ж, Ванька-то твой, пьеть (имелся в виду сын бабы Гали, который жил в городе)?
– Пьеть, пьеть, – почему-то радостно сообщила баба Галя. – Он же, гляди, у меня здоровый, ему бутылка ничего не значит. Так что по улицам не валяется, – с гордостью заключила хозяйка.
Алка помолчала. Потом вкрадчиво продолжила:
– Ну, а твой как?
– Ниче, – баба Галя потупила взор, как бы смущаясь своей лебединой семейной песни.
– Это наши последние женихи, – вздохнула Алка, – нам уж на седьмой десяток, большого выбора теперь нету.
– Да-да, – горячо поддержала ее баба Галя. – Какие они, годы? Уже ни на чердак, ни в погреб не залезешь. Вот я и приняла в зятья Викентича. Он мне говорит: – Пропиши. А я ему: – Викентич, я ж подохну, а ты возьмешь в мой двор чужую, дети и будут меня проклинать. – Она всхлипнула, как бы заранее переживая такой поворот дела. – А с другой стороны, не прими я его, как жить?! – баба Галя возвысила голос. – Дети, и Ванька, и Валька в районе, у них семьи, я там не нужна. А он и «скорую» вызовет в случае чего, и стакан воды подаст, и все, все. Конечно, ругаемся, бывает. Он кричит: – Я тебя докормлю, такая-сякая! А я на него пру. Орем друг на друга и тут же балакаем.
– А пенсии как же? – заинтересовалась гостья.
– В общий котел, на его книжку кладем. В случае чего, если я помру (я ж купила пять метров материи на гроб у цыган, – попутно похвасталась баба Галя), ему хоть деньги достанутся; ну а я детям наказываю: вы его не прогоняйте, нехай он тут живет, если что. И хату вам посторожит.
– А где ж сам-то?
– Свиней покормил, так лег в кухне отдохнуть.– А... Тут вот какое дело, – Алка оглянулась, будто высматривая, нет ли в хате посторонних. – Я слыхала, на вашей улице баба молодая померла.
– Да-да! – Баба Галя обожала просветительскую миссию и даже заерзала в предвкушении долгого рассказа. – Оля померла от рака кишечника. Так она высохла – страсть! А брал ее Степка Вобленков с ребенком – она нагуляла по молодости. – Баба Галя снизила голос и прибавила скорбно-обличительных интонаций: – Мальчик, года четыре ему было. И вот Степка привел эту Олю в хату и говорит ей: видишь, какой порядок? (А у него мать нигде не работала, только хату наряжала.) Она говорит: вижу. А он ей: – Чтоб всегда тут так было, запомни! А она ж с дитем, и на работу устроилась телятницей, и дома хозяйство: две коровы, два телка, три свиноматки с поросятами, птица всякая. Да... – баба Галя сочувствующе охнула. – А свекрови дюже не понравилось, что Степка взял бабу с дитем чужим. Прямо поедом стала ее есть. А Оля женщина была порядочная, – баба Галя всхлипнула и перекрестилась, – ну, грех был по молодости, ну че ж, убивать ей этого мальчонку, что ли? И она страсть как старалась в семье все делать; я видала раз – сено они убирали, хватает на вилы как мужик. Потом у них со Степкой девочка родилась, а свекровь вроде хотела парня... Как будто это магазин какой – че Бог дал, с тем и живи! – баба Галя угрожающе возвысила голос до крика. – Девочке года не было, Оля вышла на телятню. А свекровь с дитем сидеть не хочет, мальчишка эту девочку нянчил. А Оля на работе надорвалась и всю зиму пролежала неподъемная. Врачи ходили, опиум кололи. А запах от нее страшный стоял... Ну и померла она, – баба Галя вытерла набежавшие слезы, – померла, а Степка через неделю машину купил легковую, пригнал с Тольятти за двести тысяч. Туда-сюда на ней, прям неудобно, вроде как рад, что с Олей развязался. Или смерти ее дожидался, чтоб машину купить?!
Наступила скорбная пауза. Наконец гостья задумчиво спросила:
– А хозяйство как же?
– Так сдал же хозяйство, машину купил, а за мелочью всякой мать ходит да сестра его тут, в проулке, живет, корову доит да за дитем приглядывает.
– А мальчик где ж? – продолжала выпытывать Алка.
– Ой, соседи бают, – баба Галя снизила голос, почти зашептала, – мальчик походил-походил по двору, по огороду и говорит: не, чужой я тут, пойду к бабе. Забрали его Олины родители на воспитание.
– Ну а че ж, эта свекровь дюже строгая? В годах или нет? – не унималась гостья.
Баба Галя учуяла в этом вопросе какую-то особенную важность для Алки, но учуяла не умом, а интуицией. Глазки ее блеснули:
– Ды че ж, все мы не вечные... Она женщина пожилая. Строгая, конечно, это да.
– А так мужик справный, говоришь? – клонила свою линию Алка.
– Справный, не пьеть, и богатый – страсть. На нашей улице, считай, первый кулак, – затряслась в мелком смехе от удачной шутки баба Галя.
Наступило задумчивое молчание.
– А я вот что, Галь, приехала, – наконец решительно заявила Алка. – И у нас на хуторе разговор, что Степка – мужик серьезный. А у меня ж зять, ты знаешь, забег аж в Серпухов с проституткой, и ни слуху ни духу от него уж второй год. А Ленка (дочь) у меня девка хорошая, ты знаешь, – баба Галя согласно кивнула, – и работящая, и хозяйственная. Он – тоже не парень, с дитем, ну я и подумала, если б ты, Галь, переговорила с ним: мол, взял бы он мою Ленку.
Баба Галя воспламенилась заревым румянцем от столь ответственного поручения:
– Я всегда пожалуйста... Спросить можно. Оля, правда, недавно померла, вроде и неудобно еще?
– Как сорок дней прошло, так уже можно пытать, – решительно заявила Алка. – А сорок дней когда? На той неделе?
– Ну да, вроде...
– Вот я и приехала тебе сказать. Потому что ты – баба честная, не подведешь, – баба Галя расплылась в улыбке и закивала головой, – и опять же, будем копошиться – перехватют, сама говоришь, что мужик он справный.
– Справный, да.
– Ну так гляди, Галь, я на тебя надеюсь, – Алка поднялась с дивана, – а я поеду, к вечеру и свиньям надо надергать, и куры у меня голодные.
– Надо, надо, – поддержала баба Галя.
Она, охая, поднялась, вывела гостью на крыльцо.
Алка была на стареньком, но свежевыкрашенном в кричащий желтый цвет велосипеде (ее кофта была в тон «транспорту»). Баба Галя громогласно передавала приветы на хутор Трибунский, где жила теперь Алка, та согласно кивала головой. Гостья вывела велосипед за ворота, щеколда звякнула, и стало тихо-тихо, будто жизнь на время остановилась...
Уже и больные замуж повыходили
Баба Настя Назарова – человек правильных убеждений. И о жизни, и о любви она рассуждает разумно – всякому овощу свое время. А уклонения разные – это распущенность. Взять хотя бы Дуньку Лантюкову.
Первый мужик у Дуньки помер в молодости. А у нее с ним уже трое детей было. Девки. Дунька и говорит:
– Я с мужиками не тягалась, крепкая была. Петька меня и взял.
А Петька – не вдовец, не разведенец, парень молодой. И на вид хороший. Родня, соседи, все ему толковали: куда ты идешь на троих детей?! Рази ты их прокормишь?! Возьми девку, такая ж любовь, аж слаже. Не, пошел.
Пожили-пожили, Дунька и заболела. Вот тебе и крепкая! Ноги распухли, почки отказывают, встать не может. Девки ее выросли, а забирать мать не хотят – за ней же уход нужен, а работать когда?! И Петьке Дунька не нужна – мужику здоровую бабу подавай, а женскую немощь они не осознают. Как это: баба – и хворая? Это не баба, а гиря на шее... Она валялась, валялась по больницам, врачи на ней опыты разные ставили (им тоже ведь надо на ком-то тренироваться!), а она возьми и выживи. И – вышла. А Петька – возьми и помри! В голову его что-то ударило.
Ну она и осталась одна. Баб наймет: Надю Брень, Котову, Римму Крайневу – огород полоть, потом поставит им бутылку, гульба – дым коромыслом. И песни поют, и посуду бьют – умеют жить.
Весной прибегает Дунька к Насте Назаровой:– Бабушк, дай рассады!
Настя даже опешила и с ответом замедлилась: «Я с тридцать второго года, а она – с тридцать шестого. И я, значит, для нее „бабушка“. Во как она себя ставит!»
Пока хозяйка с крыльца слазила, Дунька уже на парник сбегала и все обглядела. А Настя Назарова прям обиделась на «бабушку» (хоть бы теткой уж назвала, что ли) и говорит:
– Ты, Дуньк, бралась бы да сама и сажала!
– Я, бабушк, больная, никуда не гожая...
– Оно и я больная, все пузо тряпками увязано, чтоб кишки не вывалились. Не дам! У нас медведка все выедает, самой рассада нужна.
И Дунька наколдовала или что, или наговор какой, только три раза потом баба Настя помидоры насаживала – то вымерзнут, то посохнут, то, и правда, медведка выест...
А тут беженец с Казахстана купил на Дунькиной улице полхаты. Он, жена, два дитя и отец его. А баба у беженца хитрая! Как-то говорит она Дуньке:
– Папа ходил на колодец за водой, вас видел. Ему так скучно вечерами, можно он к вам в гости придет?
Ну дед один раз до вечера просидел, другой, а потом к Дуньке и переехал.
– А тут, – рассказывает эту счастливую историю баба Настя, – прибегает ко мне Санька Сверчкова. – А худая – кабы какая! Как кость. Сердце у ней – туды-сюды, она аж хрыпить. А я ей говорю:
– Ничего, ничего, держись. Уже и больные замуж повыходили. Вон Дунька, парник сажать не гожа, полоть не гожа – людей нанимает. А деда приняла. Так-то. Ты обдумай, Санька, этот рецепт. Глядишь, и вылезешь...
Еще и не жил
Расскажу я вам историю семьи одного нахального мужика. Зовут его Петька. Ему пятьдесят лет. Развратный, наглый. Мне он, например, говорит: «Вот вы бы за меня пошли?» (Имеется в виду сожительство.) Хотела я ему ответить как надо, но удержалась: все-таки я государственное лицо, работаю в собесе, зачем же мне опускаться до его уровня?! «Вы, говорю, гражданин, не отвлекайтесь от вопроса».
А дело было так. Этот Петька на заре туманной юности женился, построил хату, провел газ, родил ребенка, прожил четыре года и ушел. Жене, правда, все нажитое добро оставил – в обмен на свободу от алиментов. Туда-сюда, пошатался он бесприютный и женился на другой (пристал в зятья). Обложил ее хату кирпичом, провел газ, починил заборы и после некоторого раздумья родил в этой семье дочку, Анечку. Но баба новая оказалась злостной алкоголичкой, совершенно невменяемой, ее лишили родительских прав, и он ее, естественно, бросил. А дочку Анечку навесили на него, и Петька, понятное дело, вскоре снова женился.
Новой супруге он первым делом провел газ, построил сарай, покрыл шифером веранду, но долго на этом месте не задержался – ушел. Поскольку приглядел себе уже новую супружницу и опять же с этой Анечкой пристал к ней. И здесь он провел газ (Петька работает сварщиком, профессия очень выгодная для одиноких женщин, у которых печное отопление), кое-чего помог по хозяйству и все-таки не удержался, сбежал.
После этих двух промежуточных баб пристроился он в зятья к Светлане Петровне, наивной и простоватой женщине, которая нынче мне все нервы вымотала. Она плачет, а я ей говорю: «Что вы творите?! Вы видите, я при вас валерьянку себе капаю, двойную дозу?!»
А суть в том, что распутный Петька дом своей новой жене достроил, газ, опять же, провел, машину – старую «копейку» – купил, и Светлана Петровна родила ему сына Колечку. Младенцу сейчас год и семь месяцев. И в разгар этой семейной идиллии Петька возьми и уйди! Потому что суть его – кобелиная, режь, стреляй, но он ни с одной бабой не может жить дольше четырех лет. Четыре года – предел, максимум.
А дочка его, Анечка, она к Светлане Петровне уже прикипела и кричит: «Никуда больше не пойду!» Дите ж, оно тоже уматывается бегать по семьям, «мам» менять! Ну Светлана Петровна и говорит: пусть Анечка у меня живет. А у самой – дочь от первого брака, Анжела, младенец Колечка, и эта к ней жмется, которая ей, считай, никто. А жить им всем на что?! Сама Светлана Петровна торгует на рынке беляшами (от хозяина).
Все бы ничего, но я вижу, что хочет она этого беспутного Петьку детьми шантажировать. Надеется, что в нем совесть проснется. А я ей говорю: «Дорогая Светлана Петровна! Ничего у вас не получится, он абсолютно бесстыжий человек, живет только кобелиными удовольствиями, а о детях ему – хоть трава не расти. Зачем вы Колечку рожали?! Вы что, думали, что лучше четырех предыдущих жен будете?» А она: «У нас пятнадцать лет разница. Петя на коленях передо мной стоял, умолял: роди мне сына, наследника, я тебе и машину куплю, и газ проведу».
Ну, правильно, мужик – не промах: зачем ему на ровне жениться, он выбрал бабу помоложе, а одногодка ему, понятное дело, уже никого и не родит. «Светлана Петровна, – пытаюсь я вразумить жертву брачного аферизма, – давайте рассуждать логически. Супруг ваш все свои обещания выполнил: газ провел, дом достроил, машину купил (потом меня Светлана Петровна до рынка на ней и подвезла). Он что, клялся вам в вечной любви до гроба и в лебединой верности?!» Она глазами хлопает и говорит: «Такого не было...» – «Ну и чего ему кручиниться?!»
Ладно. Спрашиваю я у этого бесстыжего Петьки: «Почему вы ушли из семьи?» Он и запел: «Я хочу свободы, я, как человек, еще и не жил, а мне пятьдесят лет уже...» А сам снял дом, чтобы встречаться с молодухой. Анечке с Колечкой на Первое сентября ничего не дал, а новой подруге – шампанское, конфеты... Денежки-то водятся, он мужик работящий.
А про новую возлюбленную как выяснилось? Анечка в жизни настрадалась и потому за отцом стала приглядывать, шпионить. И когда он с бригадой тянул газ по улице Матери и ребенка (есть у нас такая – нарочно не придумаешь!), девочка и предупредила мачеху, что, мол, папка как-то не так к одной тете «тулится». А вскоре он съехал, сказал, что жить в таком ужасе («без любви») не может, и снял себе дом.
И вот Светлана Петровна взяла Анжелу с Анечкой и пошла в эту хату. Дом закрыт, они залезли в форточку, сели тихо, поджидают хозяина. А тут и молодуха объявилась, открывает дверь своим ключом. А в руке у нее пакетик с цветным кружевным бельем «Дикая орхидея».
Ну, Светлана Петровна круто с ней поговорила и прогнала эту пассию вон, а кружевное белье в гневе изорвала в клочья. Она-то – жена законная (Петька теперь говорит: дурак я, расписался с ней!). Сидят они дальше. Тут и сам кобель заявляется. Как она его ни стыдила, он ноль эмоций: «Я сказал, не вернусь к тебе, и все тут!»
Что делать? Я Светлане Петровне внушаю: ну вы подумайте, зачем вы Анечку на себя вешаете?! Она вам еще даст оторваться, наследственность-то какая: мать – алкоголичка, отец – с кобелиными наклонностями. Анечка войдет в возраст, вы с ней сдуреете. У вас своих двое, их поднимать надо. А за Анечку вам даже платить не будут – она вам никто. «А вдруг Петя одумается, вернется?! Тут у него и сын, и дочь...» Я говорю: «Светлана Петровна, дорогая! Ну он же бродячий пес, у него все домашние инстинкты убиты! Не вводите себя в иллюзии. Единственное, на что он годен, – это газ проводить, его бы куда-нибудь в Нечерноземье направить, в отдаленные районы. Может, там дело, наконец, с мертвой точки сдвинется, все какая-то польза людям!»
В общем, выпили мы пузырек валерьянки на двоих и разошлись – каждый при своем мнении. А Петька что ж, за него и переживать не надо – не пропадет. Он как переходящее красное знамя – его из рук в руки рвут! Это у меня дома «валух», у телевизора день и ночь лежит...








