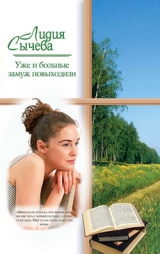
Текст книги "Уже и больные замуж повыходили"
Автор книги: Лидия Сычева
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 18 страниц)
Песня года
Зима, холода. Дни короткие, ночи длинные, часто бессонные.
А вечером какое в деревне развлечение? Кот Мася да телевизор.Баба Катя любит сериалы, особенно про заморскую жизнь. Такой же народ, как и у нас, и везде богатые дурят бедных, обирают; много за границей дурных мужиков, которые на голых девок заглядываются, но есть и славные женщины, как правило, страдалицы, ведущие праведную жизнь... Баба Катя особенно сочувствует им в горестях и радуется торжеству добродетели – слава богу, хоть в сериалах все как надо кончается.
Дед же Сергей не согласен с супругой. Он кино тоже смотрит, но критически, и говорит, что кругом брехня, артисты не работают, только наряжаются и катаются на машинах. «А взяли б хоть теленочка или поросеночка одного-другого...» «Ды у них и так денег полно!» – возражает ему баба Катя. «Полно, а не работают! Тунеядцы! На шее сидять!» – «Так их бьют! Вон, в прошлой серии, этот, черный, как чертанул мужа Амалии, он аж перевернулся! И косточки захрустели. Там у них, у артистов, и бебехи все поотбитые! И денег никаких не захочешь на такой работе». Дед Сергей начинает спорить: «Ты не понимаешь, это съемка, обман! Дурють тебя, а ты веришь. Они мимо бьють, или заместителя какого выставляют вместо артиста». Тут уж возмущается баба Катя: «А че ж, заместитель не человек?! Потом, где стольки сменщиков набрать?! Таких дураков нету – артиста хоть побили, так ему слава, а этим че?! Не, артистов бьют, ты мне не рассказывай...»
В конце концов, каждый, недовольный друг другом, оставался при своем мнении. Но нынче кино нету, показывают концерт. Че ж, можно послухать, людей поглядеть. Артисты режут песняк, а супруги чинно сидят в стареньких креслицах, созерцают. Кот Мася свернулся в крендель, лежит поодаль, на отдельном стуле. В наиболее крикливые моменты, когда телевизор совсем уж раздирает экстаз, умудренное жизнью животное то один глаз откроет, то другой, то зевнет лениво, а то и белую лапу вытянет, выпуская крепкие перламутровые когти.
А баба Катя слушает Николая Расторгуева и комментирует:
– Глянь, вышел во френче, стал и стоит. Как старательно он слова доказывает!
– Стоит недвижимый. Под Сталина одетый, – вторит ей дед Сергей.
– А эти, – вслед за Расторгуевым выскочила поп-группа, – кидают коленками, как телки... Гляди, раздерешься, упадешь! Едешь, как на лыжах, – возмущается баба Катя опасными движениями гитариста.
– Старых не стали выпускать, – вздыхает супруг, – Зыкина не выходит уже, негожая, здоровья нету. Бывало, выпустят ее, сразу видать, что артистка.
– Куды там! Зыкина станет, как печь, вся опрятная, прибранная. Красивая женщина! – с горькой торжественностью выговаривает баба Катя. – А детей, по телевизору казали, у ней нету... Протрепалась всю жизнь, они ж, мужики, лезуть... А эти, глянь, бегают, родня еле прикрытая. Вон Алсу, такая скромная девчонка была, а счас тоже коленку вывалила.
– Отец – олигарх, че ей! – со знанием дела говорит дед Сергей.
– Ды он с ней, может, и не совладает! Он ей: прикрой коленку, а они нынче здорово слухают?! Я вон тебе сказала: будешь курам воды наливать, притуляй двери, сарай выстудишь. Хоть говори, хоть нет – пятьдесят лет я тебе уже про это толкую – бесполезно!
На эти недружественные выпады супруг не отвечает, а спешит переключить бабу Катю на очередного артиста:
– Ну хоть бы ты был подстриженный, че ты такой лохматый! – Это про Игоря Николаева.
– Он же развелся с Королевой, некому его и образить, – просвещает баба Катя мужа. И вновь педалирует тему бытового непослушания: – Тебе вон не скажи, ты будешь неделю небритый ходить!.. – Но тут ее внимание привлекают длинноногие фигуры в черном трико, рьяно подпрыгивающие на экране: – А эти, мужики чи бабы? Прямо волосы собраны в пучок, не поймешь.
– Песня – кто кого перекричит, – зевает дед Сергей. – Разов десять два слова повторяют. Закрепление.
– А у этой бабы полбока голые. Куда он, Путин, глядит?! Сколько лет проработал, хоть бы голых баб убрал с телевизора. – Культурный просмотр потихоньку начинает приобретать политический уклон.
– Че ж он их, чи всех оденет? – хихикает супруг. – Тут страсть на них скольки сукна надо... А вот одна вышла, без свиты...
– Глянь, а ножаки высоко подкидывает!..
У деда и на это есть объяснения:
– Ну а как же, деньги за че ей будут платить!
Тут Масе, видимо, надоела вся эта культурная бодяга, и он, нацелившись на кресло, где сидит баба Катя, точно прыгнул к ней на колени. Для хозяйки это было полной неожиданностью:
– Что ж ты творишь?! – стала она стыдить нахальное животное. – Это страсть че он делает! Вчера вышла на двор, наклонилась около куриного сарая лед возле порожка золой присыпать. Он как прыгнет сверху мне на голову! Я сначала не поняла, думала, это бомба с Ирака. Никак они меня не добьют – в прошлом году труба стрельнула, куском стукнула.
Кот не, обращая внимания на критику, прилег, вытянул передние лапы, уложил на них голову и философски прикрыл глаза. Баба Катя вернулась к экранным обличениям:
– А эта певица старая, мосластая, лет пятьдесят ей. Туда ж, потрусила, притоптывает... А мужик вышел в плаще.
– Это Розенбум, – делится своими познаниями о лидерах шоу-бизнеса супруг.
– Бум не бум, а вишь, холодно ему стало. В таких-то годах!.. Я вот тебе кажу: надевай на ночь шапку спортивную, голова и мерзнуть не будет. Бум этот в плаще вышел, а дитя, девчонку, вдогонку выпустили в трусиках. Мужики, гляди, они умней.
– Это да... – охотно подтверждает дед Сергей.
– А эт, че она за молитва, че они шепчут?! – На сцене группа из нескольких субтильных парнишек.
– Ды им лишь бы время шло, слова – не главное.
– А-а-а... А я так думаю: ну идешь ты на люди, надень пиджачок! Че ты выскочил в майке?! А этот, страшный, глянь, спрыгнул со сцены и лезет до людей.
– Ну ды а как же, чтоб цветы давали. Выдуривает.
– Как наш кот возле холодильника. – Мася, услышав, что речь идет про него, полупрезрительно открыл зеленый глаз, сожалеючи взглянул на хозяйку. – А эта вышла в рубахе и корячится. Че там у нее за беда?!
– Гляди, Басков, Басков! Он здорово поеть, голос у него хороший...
Баба Катя и от этого солиста не в восторге:– Расхлябанный! Рот у него дюже раскрытый. Зубяки вывалил, забыл че и сказать хотел, затянул кудысь... Кто это вокруг него? – За спиной солиста энергично притопывают и машут руками полуголые девицы-трансформеры. – Чи они одиночки? Может, у них родителей нету?..
– Пропал мир, – вздыхает дед Сергей, когда заканчивается концерт и бегут титры. – Энтот на лыжах поехал кататься, государство бросил.
– Государь.
– Да.
Супруги скорбно молчат.
– А дальше че по программе?
Дед Сергей тянется к газетке, смотрит сквозь очки:
– Сванидзе.
– Не хочу я этого слюнявого...
– Не, не туда глянул я. Петросян.
– Гагун. Надоел уже. Давай ложиться, что ль?
– Рано.
– Ничего не рано. Туды-сюды – и утро.
Гаснет телеэкран, потом старики выключают свет. Тихо. Только слышно мышиную возню на чердаке, да собака дальняя обреченно брехнет. Или вьюжный ветер ударит в окна. Дед Сергей горько говорит со своей кровати:
– Рази это артисты?! Вспомни: Апроська, бывало, заводит – хорошо она играла, а за ней Нюрка Ильичева вступает, Катька Гавшина, Лабуткова, Гашка...
– Куды там девки были! – горячо поддерживает его баба Катя.
Оба молчат, погруженные в воспоминания. И тревожно, и грустно, как всегда бывает поздним зимним вечером перед длинной ночью.– Раньше, до войны, бывало, Марфутка с девками выйдет, как запоют, так деревья дрожат! – торжествующе вспоминает дед Сергей. – А нынче таких и людей нету.
– Нету, – горько подтверждает баба Катя.
– Все перемерли.
– Все.
И они замолкают, растревоженные, каждый в своей думе, которую не решаются высказать. И долго потом ворочаются на кроватях, перебирая разные мысли – о хозяйстве, о выросших детях, о безвозвратном прошлом, и почти ничего – о будущем. Наконец коту надоедает эта бестолковая маета. Он мягко прыгает в ноги бабе Кате («От сатана, выпужал!» – тихо ругает она наглого пришельца) и, пристроившись среди бугров ватного одеяла, заводит густую, тягучую и умиротворяющую песню, полую признательности и довольства...
Тополь серебристый
Под купами кленов
Эти клены... Если бы они умели говорить, они бы рассказали обо мне гораздо больше, чем я о них.
Это был обычный день в моей жизни, в нем не было беды и горя, а счастье, с тех пор как мы повстречались, счастье стало моим воздухом, по которому я летела, водой, где я плыла, землей, которую я любила. Я не могла уже жить без счастья и без тебя, что, в общем-то, было одним и тем же. И если в мою жизнь вдруг откуда-то извне врывалась беда, я сначала сильно недоумевала: – «Как это может быть?» – потом начинала задыхаться, будто мне перекрыли кислород, и, наконец – не без твоей помощи! – вырывалась из этих колдобин и ухабов, и снова в моей жизни все было ровно, ясно и абсолютно ничего не известно.
А клены... Они уже, наверное, выросли, сколько им позволяла порода, и теперь клонили свои кроны во двор, обычный московский дворик, где мы когда-то впервые повстречались – глаза в глаза – и тут же, не клянясь, решили не разлучаться до конца (нам почему-то казалось, что мы, как Петр и Февронья, умрем в один день и нам не придется горевать друг о друге в одиночестве). И вот я уже много лет спешила через этот двор к тебе, ничуть не задумываясь о нашем прошлом – оно было таким легким, что у меня бы никогда не повернулся язык сказать: «груз прожитых лет», напротив, все плохое можно было утрамбовать, при желании, в спичечную коробку, да и она, пожалуй, была бы велика; так вот, я все пробегала, почти перелетала через то место – под купами кленов, где мы когда-то впервые встретились – глаза в глаза. И я, в своей вечной очарованости – нашей любовью, близостью, спетостью – души наши пели, не выдерживая непонимания мира – твоя побасовитее, поуверенней, моя – робея и чуть сбиваясь, – так вот, я, в своей вечной занятости нашей любовью, не обращала никакого внимания на эти клены. А они – ждали...
Более того, спроси меня совсем недавно, что за деревья растут во дворике, через который я летела столько лет к тебе, чтобы растаять, раствориться в твоих объятьях, я бы, пожалуй, и не сказала бы. Подумала бы, что тополя. Потому что в городе сейчас везде сажают тополя, они быстро растут и почти не требуют ухода. А у нас были – клены...
И вот, в этот обычный в своей счастливости день, я вдруг не пролетела как всегда, а затормозила, а потом и вовсе остановилась на том месте под купами кленов, где мы когда-то впервые встретились – глаза в глаза. «Ах!» – сказала я тогда и почти рассмеялась – счастье уже вошло в мое сердце и я не знала, что оно такое радостное, легкое, что с ним так раздольно и широко жить – ведь прежде я никогда не любила.«Ты чего такой грустный, – мысленно говорила я, – такой красивый и – грустный?!» И я никак не могла прочесть в твоих глазах ответ, потому что ты говорил какими-то другими, непостижимыми для меня словами, я только-только начинала постигать язык любви, и он для меня был тогда так же загадочен, как слова, из которых сложена Библия. Но я уже любила тебя и решила ничего не разгадывать, а просто поверить, довериться, и так продолжается до сих пор: многие слова любви уже стали моими, и они, если их выпускать из сердца, летят легко и свободно, как птицы; а те, что кажутся мне выше моего разумения, я по-прежнему просто беру на веру.
А клены в тот солнечный день – был август – шелестели листвой и радовались за нас. А я-то, я, чья любовь была осенена столько лет их кронами, даже и не замечала терпеливых деревьев!..
Теперь, конечно, надо бы рассказать что-то веселое из нашей любви. Но мне ничего не идет на ум – потому что наше веселье всегда делилось на двоих (бабка на улице недавно так и сказала, сердито: «Чего хохочут? Ты погляди, прямо заливаются!»), а половина веселья – это все равно, что половина чего-то целого, например, человека, и какой уж тут смех?!
В общем, годы летели... За осенью приходила зима, за зимой – весна, и всегда быстро наступало лето. Клены сорили листьями, грустнели голыми ветвями, холили почки и первые зеленые ростки и все качали головами-кронами; а под ногами у нас была трава, и странно мне теперь думать, что эта трава победила целые цивилизации, народы, культуры и, наверное, переживет и нас, хотя я по-прежнему упорно верю, что любовь не может пропасть в «никуда».И вот – клены... В тот день, когда я замедлила, остановила свой полет, когда я замерла на том месте, где мы впервые встретились – глаза в глаза, – я вдруг увидела и клены, и сколько лет прошло, и сколько счастья – как переплытого моря – за плечами. Я все еще медлила – лететь, бежать к тебе мне почему-то было – нет, не грустно и не пусто, а как-то тревожно и немножко горько. Эти чувства, наверное, бывают у космонавтов, которые приходят попрощаться с землей. Любовь моя жила как и раньше, может быть, она достигла зрелости и мне стало за нее немножко страшно; и я вдруг подумала: неужели все это может закончиться?! И мы не будем спешить друг к другу, и клены будут хранить чужие тайны, а потом и деревьев не станет, и двора, и всего-всего... Это не был страх смерти, а скорее удивление перед жизнью, перед тем, что ее постичь совершенно невозможно, что она, эта жизнь, без нашей любви, конечно, была бы сильно обворованной, обобранной. Это все равно, что у кленов обрубить самые могучие ветки – но она, жизнь, все равно – с нами ли, без нас – была бы... Это было странное, очень странное чувство, и я знала, что это чувство удивления, изумления заложено в самой красоте и в любви, конечно, тоже.
И все же я подняла голову, чтобы подмигнуть кленам – мне было очень хорошо в этот миг, на этом месте, где мы впервые – глаза в глаза – встретились друг с другом. Я ничуть не сомневалась, что раньше здесь был подземный ключ, а в будущем здесь будет храм. Или наоборот. Потому что земля живая, говорили мне клены, это земля сказала вам то, что вы озвучили потом словами. И конечно, каждое место на земле может быть святым. Но надо, чтобы человек его услышал....И я побежала к тебе. И все, что есть в любви, у нас было. Мы так же счастливы, и так же абсолютно неизвестно наше будущее, которое, особо не мудрствуя, мы принимаем на веру. Так же шумят над нашей планетой клены, чуть клоня мудрые кроны и шепча листьями над местом, где родилась и подросла наша любовь, где она вызрела и выговорила себя такими обычными и такими солнечными словами...
На Троицу
Так вышло, что на Троицу ехала я с Украины домой на перекладных. И на рейсовом автобусе ехала, и на колхозном, и на КамАЗе, и на «Жигулях» с частником, и уж пешком потом шла.
А утро было таким, что хотелось начать жить с молитвы. На Украине бабы, вернее казачки, спешили в церковь – в платках цветастых, с букетами в руках. Маки алые, белые головастые соцветия, колокольцы и просто зеленые ветки – как празднично смотрелись эти яркие щедрые букеты! И синее солнце – от ночного теплого дождя – сияло в лужах! За что я люблю русскую Украину, так это за простоту. Здесь все естественно – и жизнь, и Бог, и работа, и побирушничество. И никакой заковыристости, нервности. Спокойный край, изрытый шахтами, спокойный народ, умеющий умирать, не думая.
А я все спешила домой, и поля здесь казались мне большими, но скудными, земля – песчаной, тополя – сухими, дороги – безлюдными. И только когда уже на нашей стороне пересела я в кряхтящий колхозный «пазик», когда увидела наши родные грубые лица и услышала говор, и автобусную многоголосицу, и смех, и эту общую тесноту общежития, я поняла – дома! Мужик в рубахе навыпуск добивался у ладной бабы, покрытой платком в повязочку:
– Нюр, ну вот скажи, что главное в корове? Вымя?
Она что-то отвечала, я не слышала сквозь шум.
– Чтоб корова молочная была, мне надо. Я глянул, а у ней вот такое, – мужик разводил в стороны руки, – вымя. А молодая корова еще!
А мы ехали по селу, мимо новых легковых автомобилей, у двора сидели бабушки на лавках, нарядный мужик вышел за ворота и задумался – хочется куда-то пойти и чего-то совершить необычное, но куда, зачем?! И везде, везде была безалаберная наша Россия! А в автобусе у нас истошно гудели гуси, тянули шеи из корзины, славная такая пара серого пера, с красными шипучими клювами. В проходе, в просторном мешке, извивались и хрипели двое поросят. А мужики с заднего сиденья громко толковали о баяне. Седые уже, но крепкие, настоящие мужики!
– Не знаешь, кому нужен? Хороший баян, корпус малахитом отделан. А звук – соловьиный.
– Не, не знаю.
– Детям не надо, внукам тоже. Все равно продам.
А мы уже подъезжали к реке, где мокли лодки у берега и тут же стоял мужик в трусах, тельняшке, с вислыми усами. В руках – малярная кисть. Мужик мудровал над почти законченным плакатом: «АО „Простор“ приветствует некурящих».– И непьющих! – орет ему из окна автобуса грубый парень Вовка, и сила его, и грубость очень нравятся его спутнице, женщине в мини-юбке, сильно накрашенной, с черными тенями у глаз. Оба они, похоже, уже отметили праздник...
А я проголосовала и еду на КамАЗе с дедом и его внуком лет девяти. Дед рулит, посматривает с высоты на дорогу и, чтоб не было скучно, напевает: «Она на святое распятье смотрела сквозь радугу слез...» И еще, путая куплеты: «У церкви стояла карета, там шумная свадьба была...» А вокруг так зелено, широко, высоко, дорога такая чистая, что я огромным усилием воли сдерживаю себя – мне тоже хочется петь! Дорога у деда с внучком дальняя – из Краснодара на Север, и он мне неспешно про себя и про свою жизнь рассказывает: и какой сын у него молодец (тоже водитель), и невестка – грамотная (с другим дитем сейчас сидит), а он Кольку с полутора лет с собой возит.
– Ты, конечно, будешь шофером? – спрашиваю я голубоглазого худенького Кольку.
– Нет, офицером, – смущенно отвечает он, а дед – я вижу – довольно улыбается глазами.
– «У церкви стояла карета...» Друг у меня был, Федя, мы с ним вместе в ракетных войсках служили, под Житомиром. Я вернулся, а он остался на «сверхсрочную» – проворовался, попал в дисбат. Мы двадцать лет не виделись – так и затянула его воровская жизнь. Потом он все-таки домой вернулся. Встретились у магазина. Говорит: приходи, посидим, с женой познакомлю. Ладно, служили ведь вместе. Взял я коньяк, закуску, прихожу, во дворе какая-то бабка старая. Я подумал: может, теща или родня какая. Спрашиваю: «Бабушк, с Федей как мне увидеться?» – «Иди в хату, он счас подойдет». Пришел друг из бани, сели, выпиваем; теща эта нам прислуживает, тарелки носит, а я у него и спроси:
– Федь, а где ж твоя жена?
А он:
– Да вот же Марьяна моя. – И показывает на «тещу».
Я, прямо, красный как рак стал, так мне стыдно. Она намного его старше, в какой-то колонии он ее нашел. Живут! Как-то мы с Федей на одну гулянку попали, гляжу, приходит Марьяна и начинает его уламывать:
– Батько, пишлы, батько, пишлы до хаты!
Представляешь – «батько» – я прямо от хохота лег под плетень!..
Я тоже смеюсь. Дед напевает: «Там шумная свадьба была...»
А мы едем мимо покосившихся домишек и совсем брошенных, мелькнула и скрылась гладь пруда, и старая церковь с галками на крыше осталась позади, и многие километры родной, горячей, пахнущей травами и полями, пылью и лесом земли тоже позади... Уж миновал день, и наступил вечер, и я иду к дому, теперь уже не спеша. Я жалею, что не стала художником, а то бы я обязательно нарисовала букет, который несла сегодня казачка в церковь; я бы обязательно изобразила гусей в корзинке; нарядного мужика, который в недоумении вышел за двор; и баян малахитовый, скучающий по хозяину, и будущего офицера Кольку, и вечернее поле, и луг, и все, все... Но тут же я вспоминаю, что у всего этого уже есть творец, и оттого день этот заканчивается так же светло, радостно и счастливо, как и начался...
Звезды были рядом
...Здесь тоже шла осень, летели листья, катились троллейбусы, а женщины в плащах – в новеньких, только что купленных, и в старых, оставшихся от прошлых сезонов, – спешили на работу, в магазин, домой... Клочья тумана плыли над городом. Иногда они застревали в деревьях, путались в полуопустелых кронах, сползали на тротуар. Туман тогда задумчиво стоял на земле – люди брели по колено в серой влажной вате. Город был окружен горами, тут часто – ни с того ни с сего – дул порывистый ветер, месил облака, затевал дождь... Местные птицы летели не стайкой, а одна за одной, будто собирались в далекие края.
Я сама чувствовала себя городской галкой – несчастной, черноокой, с крылом вороненой челки на лбу. Смотрела в витрины, и слезы невольно навертывались на глаза. В свободное время я слонялась по городу и твердила вполголоса твое имя: «Ваня, Ваня». Это был мой пароль, мой ключ к счастью.
В магазине ЦУМ пахло раскаленными утюгами. В отделе «Головные уборы» мужчины придирчиво мерили кепки, женщины – шляпы... Я почти скрипела зубами от боли, потому что не понимала жизни: зачем людям дана любовь, если все это может кончиться вмиг, безвозвратно?!
Туман, свернувшись, долго лежит на опавших листьях. Будто десятки бездомных собак и кошек – эти покорные комочки тумана. В городе не печально – бодро, от ядреной поры, от яблок, помидоров, винограда, чем забиты прилавки местного базара. Это мне тоскливо, мне одной, в этом, таком далеком от тебя, городе. «Ваня, Ваня», – зову я. Мне кажется, что от многократных моих повторений в слово переливается сила, так нужная тебе, чтобы бороться с болезнью. Я не знаю, как мне отдать ее, и потому бесцельно брожу по городу. И чувствую от этого угрызения совести, собственное бессилие, ничтожность.
В работе я забываюсь. Это похоже на то, как если бы я выпила стакан водки. Когда дневные командировочные дела завершены, я чувствую отрезвление и начинаю ненавидеть этот город, туман, давно уже растаявший под солнцем, людей, которые встают между нами со своими делами, хлопотами и мешают мне, отвлекают от главной заботы – думать о тебе. Вечерние думы – самые слезные и печальные, самые глубокие. В гостиничном номере я беру в руки телефон, поднимаю трубку... Нет, мне нельзя звонить тебе. Нельзя. По беспроволочной, такой хрупкой и ненадежной связи я шлю тебе сигналы, пытаюсь успокоить, усмирить твою боль. Но разве этим я смогу тебе помочь?!
Вечером – ужин у губернатора в узком кругу. Губернатор – высокий симпатичный малый с чуть рыхлой, располневшей фигурой. Он просит называть его Коля. Сервировка стола – хрусталь, серебро, множество приборов, яств, вин. Коля – деревенский парень, безотцовщина. Хвастает, как здорово он управляется с комбайном, как прицельно стреляет из пистолета и карабина, как когда-то перепил самого Ельцина в очном застольном состязании. Потом он рассказывает, как питался в Москве одним салом: «Мать мне в чемодан пять кусков положила», – и, когда домашние продукты закончились, он понял – пора возвращаться домой... Теперь он радушный, хлебосольный и внимательный хозяин. Коля просит гостей сказать о главном в их жизни.Я сижу от него по правую руку и говорю последней. Каждое путешествие меняет человека, что-то оно перевернуло и во мне. Прибавило ли оно мне счастья, обокрало ли? Я говорю о счастье так печально, что в него никто не верит. Тоскуй, душа, тоскуй! Будет тебе легче...
Коля – широкий человек. С размахом и отчаянием он ударяет кулаком по столу: Коля знает, что такое любовь... Одно из блюд прыгает на губернаторский смокинг, раскрашивая жирным соусом дорогую ткань. «Спокойно, Коля», – говорю я и щедро засыпаю солью безобразное пятно.
...Наконец я остаюсь одна. Выключаю свет и открываю окно. Ночной город тоже пригасил огни, убрал шум машин. С бульваров пахнет мокрыми листьями, осенью. И никаких революций, чудес ждать не приходится: промозглость, ненастье, потом длинная, изнурительная зима... Подумать только, сколько еще нужно жить – в беде, страдании! Но вдруг мне начинает казаться, что ты выздоровеешь, что у нас еще будет лето – звонкое, теплое, и счастье будет, и тайная любовь, и поцелуи, и все, все... Это кровь твоя заходила, загуляла во мне. Ты меня позвал, вспомнил в эту ясную далекую ночь! Ответил, и я радостно выдохнула: «Ваня, Ваня!» Боже мой! А люди пыжатся, тщеславятся, обманываются карьерой и деньгами, а надо ведь только учиться любить, слышать друг друга – через тысячи километров. В этом счастье! ...Я увидела, что город наполнен природой – дышали деревья, земля, небеса, даже опавшие листья дышали и жили; я увидела, что природа – везде, и что во всем сегодняшнем вечернем устройстве столько красоты, что я никогда не посмею ее коснуться. И еще я видела крупные выпуклые звезды над головой. Они были совсем рядом, эти звезды. И ты – тоже...








