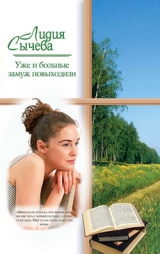
Текст книги "Уже и больные замуж повыходили"
Автор книги: Лидия Сычева
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 18 страниц)
Ворона
Преподавателя Воробьеву студенты называли между собой Вороной. Конечно, не все и не всегда, а только наиболее дерзкие в минуты раздражения; и то, разумеется, негромко и не в глаза, а шепотом, между собой.
Вероника Александровна и сама была недовольна своей внешностью и сильно по этому поводу переживала. Но что сделаешь – человек не властен над природой, и особенно она грустила по утрам, собираясь на работу. Мама, Флора Егоровна, по обыкновению, в это время уже бодрствовала и не уставала советовать: «Эта блузка тебе не к лицу», «Жилет сюда не пойдет», «Колготки лучше взять телесного цвета, а не черного» и так далее. Почему бы Флоре Егоровне не подремать в такую рань? – досадливо думала преподаватель Воробьева. Ладно, ей нельзя расслабляться – работа, наука, студенты, но чего же, спрашивается, Флоре Егоровне не поспать?! К чему эти, устаревшие лет на двадцать хлопоты?!
Особенно Вероника Александровна походила на ворону в вязаной кофте из мягкой шерсти. Одеяние было болотного цвета, удлиненное, и настоящее его название – кардиган. И в этой кофте, выпустив сверху белый воротничок блузки, в длинной черной юбке, черных туфлях с завязочками, с черными же гладкими волосами, разделенными пробором и туго собранными на затылке в хвостик, она и впрямь напоминала большую унылую птицу. Нет, это была не помоечная хулиганистая ворона и не зловещая каркуша, вестница бед. Вероника Александровна была вороной чистенькой, отмытой, очень примерной на вид; такой, какими бывают птицы в образцовых зоопарках, где за ними постоянно следят и не дают лишней воли.
– Итак, – говорила преподаватель Воробьева, начиная лекцию и водружая себе на нос очки в тонюсенькой золоченой оправе.
– Ворона, чистая Ворона, гляди, – шептал в это время Мишка Бондырев, один из дерзких студентов, толкая своего соседа, бородатого Головлева.
– Мы остановились в прошлый раз, – медленно продолжала Вероника Александровна, – на... – она открывала в заранее заложенном месте конспект и теперь уже старалась не терять строчек.
Мишка Бондырев, громко, смачно, на всю аудиторию, зевал. Делал ли он это специально, показывая свое небрежение к лекции, или без задней мысли, от недостатка воспитания, Воробьева решить для себя не могла. И потому она продолжала читать, не обращая внимания на Мишкины провокации.
Мишка и сам был в этой аудитории белой вороной, настолько он не походил на сокурсников. Впрочем, самобытность эта нисколько его не смущала, а лишь придавала нахальства.
Институтский филфак обычно заполняли примерные девочки, «тургеневские барышни», да пара-тройка ребят – «лишних людей». Преподаватель Воробьева и сама когда-то была из «барышень» и надеялась, что понесет знания восторженно-благоговейному контингенту. Но время изменилось, и ничего от прежней благостности не осталось. Девушки были теперь «нигилистки» – коротко стриженные, вульгарно накрашенные; в перерывах они нещадно дымили дешевыми сигаретами, опровергая все научные данные о вреде курения – ничего с ними смертельно-страшного не происходило, и зубы были на месте, и цвет лица не портился; все, как одна, они ходили в брюках, говорили с однокурсниками отрывисто, коротко и безапелляционно. В мужском мире было больше разнообразия. Несколько городских разочарованных интеллектуалов со светской холодностью во взгляде, ядовитый еврейчик Иохимсон, высокомерно стремящийся к знаниям; целая череда серых, полуспитых личностей, периодически пропадавших и возникавших на занятиях, длинноволосый наркоман Губкин с горящим взором, бородач Головлев в толстых очках – он походил на лешего, слегка ударенного старым деревом, и, наконец, Мишка Бондырев, которого Воробьева наряду с Иохимсоном, Губкиным и кое-какими девицами причисляла к разряду «дерзких».
Непонятно было, как Бондырев вообще попал на филфак и что он тут делал. Мишка был деревенским. Во всяком случае, Вероника Александровна думала именно так. В плечах у него была косая сажень, телосложения плотного, мощного, волосом рус, лицом открыт. Вероятно, такими были пахари в конце девятнадцатого – начале двадцатого века. У него и руки – большие, рабочие, впрочем, без грязи под ногтями. Мишка отличался прямодушием – любил резать правду-матку в глаза, и вообще не понимал, что можно говорить в приличном обществе, а что – нельзя. Самое же удивительное состояло в том, что этот деревенский Ломоносов, переросток – на вид ему было лет двадцать пять, – действительно пришел учиться. А может, дисциплинированность у него была в крови – он не уходил с последних пар и всегда сидел на первых – нещадно громко зевая. Вообще, по Мишкиному лицу можно было читать – вчерашний перепой, например. Наутро Бондырев был бурый, с тяжелым взглядом, смотрел виновато и тупо. Зевал меньше, меньше потягивался, расправляя ширь своих плеч, и, в целом, вел себя менее колоритно. Но сегодня он был в ударе. Преподаватель Воробьева определила это, услышав Мишкин богатырский шепот. Слов она не разобрала, но по устремленному на нее взгляду бородатого Головлева догадалась, о ком речь. Вероника Александровна крепче погрузилась в конспект и зачитала:
– На уровне языка как системы подсистем язык выступает...
...Временами она не понимала, о чем говорит, и в глубине души жалела студентов. Но еще больше она жалела себя. Ей тяжко, тягостно было преподавание, но ничего другого она больше не умела. Она знала, что в своей несчастливой жизни виновата сама, что всегда теперь она будет полунеудачницей, скучной, занудной старой девой, которую недолюбливают студенты, но ничего уже сделать нельзя, да она и не пыталась.
Когда-то, на первом курсе, она очаровалась лекциями профессора Судакова и влюбилась в него. Профессор был погружен в филологию с головой, рассуждал о языке с жаром, со знанием дела, конспектами никогда не пользовался, а цитаты выписывал на карточки. При этом Судаков не походил на ученогорастяпу – был он элегантен, подтянут, одет всегда с иголочки, умел кстати пошутить, всегда пропускал студенток в дверях, и вообще, относился к женщинам по-рыцарски. Воробьева, которая росла в семье без отца и без брата, под надзором педантичной Флоры Егоровны, невольно потянулась к профессору; на лекциях ела преподавателя глазами, к экзамену отнеслась с воодушевлением, отвечала на редкость толково. Судаков ее отметил:
– У вас, я вижу, способности к предмету. Подумайте над темой реферата для студенческой научной конференции.
Она согласилась и лезла из кожи вон, чтобы ему угодить. А потом профессор предложил подумать над темой диплома, само собой подразумевалось, что она пойдет в аспирантуру, думала и над темой кандидатской; всегда Судаков был ее научным руководителем; направлял исследования, подкидывал идеи – вот уж с чем у него не было проблем; она с каждой встречей все больше любила его, а не филологию; а он – ничего не замечал. После защиты поздравил, пожал руку, поцеловал в щеку:
– Ну, дальше, Вероника Александровна, – так и назвал, по имени-отчеству, – сама, сама. Вы уже большая, дорогуша. – И почти совсем оставил ее своим попечением. Были новые влюбленные студентки, которых он заводил в лабиринты знаний, и они служили ему преданно, истово; а преподаватель Воробьева тихонько плакала ночами – ей было уже двадцать семь; она казалась себе безнадежной старухой, и всю свою молодость просидела по библиотекам, архивам и читальным залам. Другие однокурсницы всласть веселились, жили с мужчинами, выходили замуж, рожали детей, разводились; все это разнообразие бытия прошло мимо ее идеального чувства, ничуть не коснувшись. Сначала ей нравилась такая жертвенность, и она говорила себе: «Ну и пусть! Я люблю его назло обстоятельствам, за то, что он есть». Но Судаков, похоже, не замечал ее духовного подвига. Если бы он хотя бы видел, что она любит его, безнадежно и беззаветно, и его немножко мучила бы из-за этого неловкость, ей было бы легче. Но ему и в голову не приходило, что у способной студентки нет никакого интереса к «языковым рядам» и «синтаксическим единицам». И когда Судаков отпустил ее в самостоятельное плавание, в «большую жизнь», она совсем потеряла уверенность в себе и «поплыла» на лекциях. Не то чтобы она не знала предмета. Но вдруг выяснилось, что у нее плохая память, и то, что раньше запоминалось, затверживалось, так и не стало ее сущностью, интересом, не вошло в ее кровь, и теперь стало стираться, пропадать; вся система знаний, стержнем которой был Судаков, разрушилась; и она беспомощно барахталась в море отрывочных сведений. Нечего было и думать о том, чтобы читать лекции по-профессорски, свободно расхаживая у кафедры и элегантно парируя студенческие реплики. Тогда она составила подробный конспект и строго, пресекая вопросы, следовала по нему, отрывая голову от тетради только для неизбежных повторов. Девицы-феминистки сначала фыркали, возмущаясь такой методой; потом смирились, приспособились. Больше всего Веронику Андреевну донимали любознательный Иохимсон и старательный Бондырев. Иохимсона доцент Воробьева оставляла после лекций – наедине она быстрее находила ответы; а студенту они, в общем, были и не нужны, он лишь хотел привлечь к себе внимание. С Бондыревым же бороться было бесполезно.
– Помедленнее, – ворчал он с заднего ряда, – не на скачках.
Вероника Александровна смиряла темп, никак не реагируя на хамские выходки. Надо все-таки отдать Бондыреву должное – он требовал растолковки как раз тех мест, которые для самой Воробьевой были не совсем ясны. Как только до Вероники Александровны доходил настоящий смысл мудреного определения, удовлетворялся и Бондырев, и лекция ни шатко ни валко двигалась дальше. Молодая преподавательница, старательная, с черной вороньей головой, с красными губами, читала по тетради, изредка обводя глазами аудиторию; студенты в большинстве своем послушно строчили вслед за ней страшный, непонятный предмет, на котором всегда «валят»; наркоман Губкин отдыхал после галлюцинаций, положив голову с длинными женскими волосами на стол; похожий на лешего Головачев смотрел прямо, не мигая, и казалось, он видит сквозь стены. Мишка мученически пытался войти в суть лекции, и Вероника Александровна, вдруг встречаясь с ним глазами, иногда даже сочувствовала его малоразворотливому уму. Не то чтобы Бондырев был глуп. Нет. Но он, похоже, не умел врать, притворяться, и оттого весь был на виду. Иногда Веронике Александровне казалось, что присутствие такого человека невольно обнажает и ее суть. Больше всего она боялась, когда в лекции попадались схемы, которые надо было воспроизводить на доске, в логике их создателей. Даже схемы Судакова она постичь не могла. Срисовывать на доску с конспекта ей было стыдно; и она давала схему фрагментами, которые была в состоянии запомнить. Пока студенты копировали, она возвращалась к кафедре, подглядывала продолжение в тетради, рисовала дальше. Часто доска не вмещала схему. Тогда она стирала начало, дорисовывала сверху окончание. Неизбежно появлялась путаница, студенты начинали роптать.
– Ничего страшного, – успокаивала аудиторию преподаватель Воробьева, в душе она радовалась, что столь опасный участок ее лекции миновал.
– Ага, ничего страшного, – угрюмо выражал общие чаяния Бондырев, – сами, небось, без листочка эту этажерку не нарисуете. А с нас спрашивать будете.
– На экзамене я вам разрешу пользоваться схемами, – лепетала, пунцовея, Вероника Александровна.
Окна большой аудитории выходили на институтский скверик со столетними тополями. Была уже середина октября, деревья стояли голые, приготовившиеся к холодам – мол, взять с нас нечего; по нижним веткам, мощным, узловатым, прыгали, то ли в беспечности, то ли в заботах, несколько серых ворон. Изредка они каркали, деловито, грассирующе переговариваясь друг с другом; наряд их был по-городскому обтрепан, заношен, и перья, в общем, богатством и сытостью не отливали. Но Вероника Александровна, заглядевшись как-то после очередной схемы в окно, позавидовала птицам. Не райским павлинам и не сказочным царевнам-лебедям, а обыкновенным городским воронам. Все-то у них просто, нет никаких институтов, профессоров, наук, лекций; есть основные инстинкты, и живут они, кажется, по триста лет... Когда Вероника Александровна взглядом и душой вернулась в аудиторию, все, тихонько занимаясь своими делами, негромко переговаривались, радуясь неожиданной паузе. Только Мишка Бондырев, из дерзких, внимательно наблюдал за ней. Взгляд у него четкий, прямой. Она почему-то смутилась. И неожиданно отметила про себя, что Бондырев симпатичный, даже красивый. Во всяком случае, он самый привлекательный из ребят своего курса. Хотя какое ей дело?
Перед Новым годом она поругалась с матерью. Ссора вышла из-за пустякового повода, но серьезной. Флора Егоровна утром, по обыкновению, прибирала в квартире и походя упрекнула дочь в неряшливости: везде разбросаны книги, тетради; шнур от утюга не смотан, и платье брошено на стуле, хотя должно висеть в шкафу.
– Ах, оставь. – Вероника отмахнулась, как уже делала не раз; но почему-то обычные слова вызвали у Флоры Егоровны совершенно неожиданную реакцию.
– Мне надоело! – Бережливая Флора Егоровна схватила монографию по истории русского литературного языка и с наслаждением хватила ею об пол. – Мне надоело жить в этом бумажном хаосе. Ты, Вика, как будто ничего не видишь! – Мать говорила со слезой в голосе. – Как, на что мы живем? На какие средства?! – Флора Егоровна, бывшая учительница, теперь подрабатывала уборщицей в автопарке, в выходные дни обилечивала пассажиров на спецмаршрутах, следующих до городских кладбищ, сутки в неделю дежурила в автопарке, сторожа проходную. Конечно, матери тяжело, но ведь ее никто не заставляет так ломаться, и, в конце концов, она себе ни в чем не отказывает, даже ездит отдыхать в пансионат; а деньги на продукты дочь ей выдает исправно, питаются они сообща... Флора Егоровна продолжала:– Посмотри, как ты живешь?! Я из-за тебя вся извелась! – Так, значит, дело было все-таки в этом! – Ты существуешь только для себя и страданий, переживаний, забот близких людей не видишь. В твоем возрасте я уже содержала семью – тебя и твоего папу-алкоголика. – Папа давно не упоминался в их беседах, но вот, всплыл. – А ты не можешь прибрать за собой! – Причина была, конечно, глубже, и она ее почувствовала.
– Не беспокойся, мама, скоро и я смогу содержать какого-нибудь алкоголика! – Вика лихорадочно, не помня как, оделась и выскочила на улицу. Полились слезы. Она жалела мать и все же была к ней враждебна, понимая, что в этой размолвке есть что-то от физического противостояния двух женщин, проживающих время без счастья; но самое ужасное было в том, что в выкрикнутом обещании не было со стороны Вероники Александровны ни капельки правды. Она не только не смогла бы содержать алкоголика, но любого, как ей казалось, самого завалящего мужчину она не могла бы завлечь. И сейчас она шла по сумрачному, несмотря на дневное время, городу, вглядывалась в лица прохожих – молодых и пожилых, совсем стариков, юнцов, и вдруг ей стало ужасно от мысли, что все, все мужчины кому-то принадлежат. Они чьи-то мужья, женихи, любовники, братья, сыновья; кто-то стирает их сорочки, чистит их одежду, готовит им еду и питье, беспокоится, когда они слишком задерживаются, сочувствует им, если напиваются. Все давно поделены и распределены, и только она, преподаватель Воробьева, без пары; и с детства у нее никого нет; папа-алкоголик – не в счет, школьные влюбленности несерьезны, а любовь к профессору Судакову вдруг показалась ей смешной.«Что же мне, – подумала она, – взять из детдома ребеночка?» Так никто ей, одинокому кандидату наук, наверное, его и не даст. Еще она подумала о том, что в жизни ее уж который год не происходит никаких событий, одни книжки, а кому это надо?! Может быть, жизнь домохозяйки – муж, дети, друзья дома – тоже скучна и никому не нужна, но ведь она ее не попробовала! И она ощутила потерю, черную дыру, куда падали никчемные дни, и вот этот наверняка исчезнет там же. Зима была серая, без запоминающихся метелей и морозов, без деревьев в инее, без зябкой утренней красоты, когда скупое солнце чуть расцвечивает горбы снега на бульварах, тускло отсвечивает в замороженных стеклах автобусов и трамваев, бодрит сгорбленных пешеходов, заставляет живее двигаться птиц... Оттого, что она была не дома и что вернуться туда собиралась не раньше вечера, ей вдруг захотелось есть. Поколебавшись, она двинулась к Курскому вокзалу, надеясь там подешевле перекусить в буфете.
На вокзале почти не чувствовалось приближения Нового года – в киосках мало было гирлянд, украшений из мишуры, елочных игрушек. Люди озабоченно толпились у касс, роились в залах ожидания, по радио объявляли прибытия-отбытия дальних поездов и электричек. Вероника Александровна вдруг пожалела, что никуда ей не надо ехать; теплые уютные купе займут другие люди; кто-то из них будет важничать и молчать, а кто-то расчувствуется и расскажет про свои беды. А ей вот некуда уехать и никого не надо встречать... Вероника Александровна поискала, куда можно пристроиться, но везде были стоячие кафе, минутные, а ей хотелось посидеть, убить время. Наконец в дальнем крыле, в отгороженном закоулке, она нашла небольшой, на четыре столика, буфет. Заказала: суп из пакета, две сосиски, помидор, стакан чаю и два хлеба. Буфетчица была разбитной, лет двадцати, девчонкой, и она обсчитывала Воробьеву, честно глядя ей в глаза. Не намного, и ловко, любезно. Костяшки счет так и летали туда-сюда. Буфетчица уточняла:
– Помидор нарезать? Нарежу. Сосиски с горчицей, с кетчупом? А хлеб горбушками или серединку?
Вероника Александровна пожала плечами: какая разница. Точка была не на бойком месте, заходили сюда редко, и суп она хлебала в одиночестве. Как и все синтетические блюда, он отдавал химическим запахом, будто лекарство. Она проглатывала невкусную жидкость и, как ни странно, успокаивалась. Все в ней уравновешивалось, простело.
Заглянули еще двое посетителей, видимо, старинные знакомые буфетчицы. Было им лет по тридцать, но она вела себя с ними снисходительно. Одного звала «солнышко мое», другого – «зайка». Подала им порционные пельмени, по стопке водки. Мужчины и так уже были навеселе, и буфетчица о них заботилась:
– Солнышко, много не пей, голова завтра будет болеть! – В голосе ее было много материнской нежности и одновременно женского зова, желания. Воробьева и дальше ловила обрывки буфетного разговора, узнала, что Шурка, сменщица, выходит замуж и взяла отгулы, а «солнышко» – бывший летчик, и еще почувствовала, что «зайку» буфетчица недолюбливает. За что? Может, за то, что тот постоянно сопровождает «солнышко»? Она не скрывала своих лет, говорила:
– Я с семьдесят девятого года, а вы постарше лет на десять, солнышко мое, будете. Пора бы уж научиться себя вести, а то завтра на самолет не взберетесь!
А Вероника Александровна точно знала, что никакой он не летчик, самое большее – механик или просто подметальщик аэродрома. И буфетчица – одинокая, завидует Шурке, делает вид, что равнодушна к «солнышку» и к «зайке», а сама рада их вниманию, но что нравилось Веронике Александровне, девчонка не подавала виду, что несчастна и что страдает без любви. Воробьева посмотрела на нее внимательнее – буфетчица была некрасива, но ее доброжелательность, улыбчивость скрадывала и лягушечий рот, и квадратное лицо, и тяжеловатый подбородок. Да и накрашена была искусно. Вероника Александровна подумала, что сама она симпатичнее буфетчицы, и здесь, за стойкой, смотрелась бы гораздо лучше ее. Она бы не обсчитывала посетителей, посуда у нее была бы чище, блюда – вкусней, и народ бы сюда потянулся поинтеллигентней, покультурней. Здесь, в привокзальном буфете, она конечно была бы гораздо счастливее и увереннее в себе, чем в институтской аудитории. А это ведь главное. Не для того же человек живет, чтобы мир внешний признавал его положение, заслуги и достижения, а для того, чтобы быть с внутренним в ладу... Она задумалась, механически допивая чай. И тут, словно в страшном сне, услышала знакомый голос:
– Вер, дай два пива и таранку!
Мишка Бондырев, в распахнутой фуфайке, сапогах уже шел от стойки. Увидел ее, вылупил глаза, бухнул:
– О! Вероника Александровна! Что это вы здесь? – и без церемоний опустился за ее столик с двумя бутылками «Тверского» и сушеной рыбиной.Но она уже столько пережила, перенервничала, передумала за сегодняшний день, что входить в преподавательскую роль у нее не было сил. К тому же, лекции на их курсе закончились, остался лишь экзамен.
– Обедаю, – сказала она нейтрально, безразлично. – А вы, Миша?
– Работаю, почтовые вагоны разгружаю, – охотно объяснил он. – В перерыве вот забежал пивка выпить. Хотите? – Он двинул ей навстречу бутылку.
Преподаватель Воробьева никогда за свою двадцатисемилетнюю жизнь не пробовала спиртного – детские воспоминания о папе-алкоголике отбили напрочь и подростковое любопытство, и юношескую тягу. Но сейчас, помимо своей воли, она пожала плечами:
– Давайте...
Мишка вдруг обрадовался:
– Щас. – И метнулся к Верке за стаканами.
Пиво оказалось горьковатым, довольно противным, по сравнению с квасом или лимонадом, напитком. Все же Воробьева воспитанно тянула из стакана бурую жидкость. Мишка рассказывал:
– Сила есть – ума, как говорится, не надо. Разгрузишь пару вагонов – мы в бригаде, – можно жить. Москва денежек требует. Не будешь ведь в таком возрасте из матери тянуть.
– А вы откуда, Миша?
– Из Костромы. До армии техникум закончил приборостроительный, служил, вернулся – работать негде. В ларьке торговал сутками – скука. Первая учительница, Полина Даниловна, спички у меня покупала, так еле узнала. «Миша, – говорит, – что вы с собой сделали? Вам надо учиться, иначе вы деградируете». А я правда, – Мишка был, как всегда, откровенен, – если умственно не работаю хоть немного, дурак дураком становлюсь. Вот, поглядите, карточка в паспорте – меня как раз из школы тогда выгоняли за непосещаемость – дебил, правда? – Он раскрыл паспорт на странице с фотографией. Вероника Александровна никогда бы не угадала на этом снимке Мишку – тупое самодовольное лицо, пустые, бычьи глаза, обстрижен в кружок – стопроцентный типаж подростка с дурными наклонностями и животными страстями.
– Дебил, – явно любуясь произведенным эффектом и пряча паспорт в карман, повторил Мишка. – Так я решил поступать на филфак, книжки всегда любил читать.
Он замолчал. Вероника Александровна чувствовала себя рядом с ним просто, и эта странная встреча в кафе уже не казалась странной, и Мишка вблизи не так раздражал, как в институтской аудитории, и ссора с матерью теперь съежилась, уменьшилась со вселенской беды до размеров рядовой размолвки.
– Пойду, – глянув на часы, сказал Мишка. – Полвагона осталось, быстро раскидаем. А вас – с наступающим, в этом ведь уже не увидимся! – пошли предпраздничные дни, и в институте не было занятий. – Желаю здоровья и успехов. – Он поднялся.
– Спасибо, Миша. И вам счастья, – тут она нашлась, – и чтоб тяжести были полегче, меньше на плечи давили!
– Ничего! – Он ушел быстро, а буфетчица сердито забрала со стола пустые бутылки. Вероника Александровна поднялась – делать ей тут было больше нечего.
Экзамен преподавателю Воробьевой поставили сразу после Рождества, во второй половине дня. Студенты заходили в аудиторию повышенно почтительные, предупредительные, с белыми лицами, и ей нравилось их волнение. Но на списывание она смотрела сквозь пальцы, прощала все их жалкие ухищрения, шпаргалки; Иохимсон вызывающе сел прямо перед ней, показывая, что он кристально чист, и эта демонстративная честность ей была почему-то неприятна. Списывали для верности все, но отвечали, несмотря на единый источник, по-разному; и она, в общем, справедливо ставила «уд.», «хор.», и «отл.»; курс воспрял; за дверью уже сдавшие экзамен уверяли трясущихся и сомневающихся – «Принимает душевно». Бородатый Головлев все время подготовки просидел, вперив взгляд куда-то в вышину, не написал ни строчки. Отвечал он ей медленно, странными склеенными фразами, как будто читал из космоса. Губкин честно списал и отбарабанил ей вопросы, совершенно не вдумываясь в смысл; но и он принарядился к экзамену – волосы его были красиво разложены по груди и спине. В пять часов за окнами уже было темно, зажгли люстры; яркий желтый свет выкрасил комнату; где-то была зима с пронизывающим ветерком, обиженным карканьем ворон, суетой воробьев у мусорных ящиков, а здесь шел экзамен, и на полном серьезе люди рассуждали о «структурных единицах», «подсистемах», «языковых рядах». Вероника Александровна как будто томилась, чего-то ждала. Чего же? Потом она поняла, что дожидается Бондырева, а его все не было и не было. Он заявился под конец экзамена; когда она уж и перестала его ждать, зашел в последней пятерке; видно было, что явился с мороза; здоровый, алый румянец заливал его щеки, лоб, подбородок, и даже уши пламенели. Он был в хорошем, ладно сидящем на нем костюме, впрочем, было заметно, что под мышкой он зажал книгу, а карманы, набитые «бомбами», оттопыривались. Он сосредоточенно взял билет – средней тяжести; сел за последний стол и, стесняясь, краснея через румянец, стал подглядывать ответы в учебнике.
Отвечал он последним, за дверью стих шум, смех, истерические крики – все разошлись. Она слушала его и не слушала, утомленная хлопотливым днем, и голова ее болела так, будто она сама сдавала очень ответственный экзамен. Мишка отвечал хорошо, не путаясь, но скудно, неразвернуто. Она хотела было поставить ему пятерку, но в последний момент передумала и вывела «хор.». Но он все равно обрадовался, и тогда она попросила его отнести сборники упражнений в читальный зал, а сама поднялась в деканат, отдала ведомость. Было как-то пусто, скучно, было жаль, что все кончилось. Она оделась, вышла из здания, зябко пожимая плечами, двинулась к метро.
– Такая толпа в читалке, – раздался над ухом голос, она даже вздрогнула – это был Мишка, – еле сдал. Вечер, разбирает их учиться.
– Сессия, – радостно поддержала разговор Вероника Александровна.
– А вы далеко живете? – Он был, как всегда, прямодушен.
Она назвала адрес.
– Давайте провожу, – по-рыцарски предложил Мишка.
Она обрадовалась, но постаралась не подать вида, пожала плечами:
– Проводите.
Но ей было приятно, очень приятно, и когда они тряслись рядом в метро и из-за шума не могли разговаривать, и когда шли по хорошо освещенной улице к ее дому (она выбрала путь подлиннее), и когда Мишка рассказывал о том, чем занимался с утра: «Встал, голова дубовая, Рождество с ребятами отмечали вчера; так под душ залез, освежился холодным, и – за книжку. В голову трамбовал, трамбовал, без обеда. Когда поешь – тоже работы никакой, в сон клонит. А сейчас, что ж, можно и закусить...» Они стояли у ее мрачного, безлюдного подъезда, даже собачников нигде поблизости не было. Флора Егоровна сегодня как раз была на сутках, сторожила проходную.
– Миша, хотите ко мне зайти, посмотреть, как живут преподаватели? – Она пыталась выговорить это в шутку, но голос ее предательски дрожал, вибрировал.
...Всю ночь она успокаивала себя, не спала, то тихонько плакала, то считала до пятисот; ее трясло как в лихорадке, и она осторожно, боязливо прижималась к Мишке. Он, напротив, спал глубоко, дышал ровно и тихо, без храпа. Мишка лежал на спине, удобно расположившись, занимая большую часть тахты; а она жалась в промежутке между ним и стеной, и может быть, еще и поэтому не могла уснуть. Лишь под утро она забылась тревожным, туманным сном, но как только Мишка открыл глаза, она проснулась, глянула в его усталое, озадаченное лицо и с готовностью заплакала. И в этих слезах, помимо ее воли, все же больше было счастья, чем страдания. Счастью принадлежала огромная, заповедная, не открытая до последнего времени территория ее души, и удивительно, сколько красоты, нежности, вдохновения здесь было сосредоточено, и страшно было теперь, с пробуждением, все это терять. Потому что она ничем не заслужила такого счастья, и лучше, может быть, и не знать его совсем, чем обрести лишь на одну короткую ночь. И ей было точно известно, что чувство это неделимо и что никогда, если она сейчас останется одна, оно к ней не вернется. И она плакала от жалости к себе и к нему, оттого, что в силу своей бестолковости не сможет объяснить Мишке, что она к нему чувствует и чего они с ним могут лишиться.
Он тронул ее рукой за плечо:
– Ну чего ты?
И оттого, что спросил он это не грубо и не нежно, а ласково-снисходительно, как спрашивают старого друга, разволновавшегося по незначительному повод у, она заплакала еще горше. И весь вечер, ночь, все, что между ними было тайного – и его настойчивость, и ее боль, и их близость, которой она желала, – теперь уже ей казалось, что давно – еще тогда, в буфете, или даже раньше, когда он ее осаживал, – «помедленнее, не на скачках», и уж, во всяком случае, тогда, когда он ее провожал, а потом они поднимались к ней и она еще обманывала себя, что просто так, «попить чаю», – все это теперь обнажилось, обозначилось после его слов с новой стороны, и он, такой уверенный в себе, видимо, уже принял какое-то решение – она почти не сомневалась, страшное для нее, и она боялась его услышать, и не понимала, как же ей теперь жить, как прожить хотя бы один наступающий день.
– Что же, – слезы и всхлипы не давали ей высказать свою мысль, – что же, что же будет?! – И она понимала, что, наверное, на чужой трезвый взгляд, смешна, и все равно ей было горько, и она плакала, совсем не заботясь о том, что лицо ее распухло и красное, в слезах, сморщенное от боли, выглядит ужасно.
Мишка жалеючи погладил ее белое нежное плечо. И сказал:– Да что же... – И добавил, вздохнув: – Поженимся, и все дела.
И тут она совсем разрыдалась, потому что даже не смела думать ни о чем таком определенном; и хотела ему сказать – пусть и он не думает, ей не нужна его свобода, ей нужен он, потому что она с ним счастлива; но она ничего ему не сказала – она уже любила его печальные синие глаза, чистое лицо с правильными чертами, его мощную, мускулистую фигуру, большие ласковые руки и все то, что было между ними ночью; и ей казалось, что никто, ни один мужчина ей уже не нужен и никого другого в жизни она не хотела бы знать. И она решила не думать о том, как воспримут их женитьбу в институте; и еще спохватилась, что она так распустила нюни – где-то она читала, что мужчины этого не любят. И она сразу постаралась умерить рыдания, и со второго или третьего вздоха это у нее вышло; она теперь лишь чуть икала и беззвучно вздрагивала телом. Она быстро, стыдясь, встала, набросила халат и деловито, будто они жили уже давно, сообщила:








