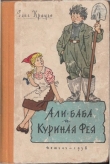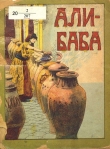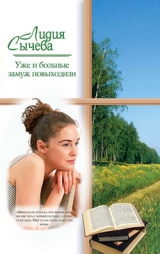
Текст книги "Уже и больные замуж повыходили"
Автор книги: Лидия Сычева
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 18 страниц)
Дерево
И дерево, и человек не помнят своего рождения.
Была весна, летели птицы, шли облака, таяли снега, пахло землей. Много лет с тех пор прошло. И весной, опять же, гостил у меня дядя, Федор Иванович.– Знаешь, – говорил он мне, – приезжаю я сюда раз в год, на Пасху. Ну, могилки оправить, все как положено. И ведь не из-за могилок, сукин сын, еду (дядя уже порядочно выпил и рассказывал всхлипывая). Весной дурею совсем – тянет понюхать землю, чернозем наш. Запах зовет страшно, голова кружится. Маша (жена) пихает пилюли, говорит, что авитаминоз. Фармацевтка! Слушай, какой к ... (дядя интимно, доверительно, словно к другу, склоняется ко мне и вставляет в рассказ крепкое словцо) авитаминоз?! Я же мальчишкой бегал, помню грязь теплую, борозду, земля – жир; семена – ячмень там, пшеница... Нет, ты понимаешь? – Дядя крепко вцепляется мне в плечо и продолжает со слезой в голосе, вкусно дыша водкой: – Сынов у меня нету, дом продал на бревна, живу с Машей... Имею я право раз в год приехать, походить по своей земле, а? – агрессивно возбуждается Федор Иванович. Беседа наша становится все более сбивчивой, дядя пьет, уже не закусывая, и, в конце концов, забывается прямо за столом буйным, со всхрапами и злым бормотанием, сном.
Да, была весна... Я представляю: проклюнулся росток, огляделся, увидел – летят птицы, идут облака, стоит солнце. В детстве как-то мало думаешь о земле, о ее холмах, долинах, извивах, горизонтах. Тянет к небу, к растекающимся весенним краскам. Бывают туманные тучи – самые загадочные, когда небесная жизнь видится мнимо доступной – за серыми густыми кудрями вот-вот откроется лицо иного мира. Но нет, назавтра лишь грустная синь, перистая холодность да земные, низко парящие птицы. А землю нашу (я поняла это со временем) я люблю не меньше, чем Федор Иванович. У чернозема – цвет вороньего крыла, и к осени пашни, точно набравшее силу перо, начинает отливать синевой.
Но не во мне дело, не в моих чувствах, а в дереве.
И вот дерево, деревце, родилось, росло год за годом, трепыхалось под ветром, не думая, сосало корнями земную силу, купало редкие, кокетливо-липкие по весне листья под дрожкими, бодрящими дождями. Что-то и я, конечно, начинала понимать. Молодая трава-мурава выходила из черной, блестящей, обильно напитанной влагой земли совершенно зеленой, и этот радостный, живой цвет разительно не соответствовал моим детским представлениям. Я грустно жевала молодую мураву, пытаясь разгадать тайну через вкус, обиженно сплевывала горечь. Пахло коровой, раскиданным по огороду навозом, яблоневой корой, силосом из ржавого корыта, теплым камнем колодца-журавля, и тонко, как я сказала бы сейчас, благородно пахло весенней землей. Свежесть – вечный запах жизни, и человеческое стремление к чистоте – вечная честность. Если отбросить родственные пристрастия, дядя Федор Иванович совсем не честных правил, и в каждый свой приезд напивается у меня до безобразия, но краска на родительских крестах у него свежая, ликующая – дядя обычно выбирает светло-голубые цвета. Летят, летят в небо кресты, и клонятся над ними мудрые кладбищенские дерева.
А мое дерево тем временем сильнело, развивало выровнявшийся ствол, густило новыми ветками крону, и бывало, что качались в листве галки, растрепанные, будто из драк, вороны. В прошлой, ушедшей жизни был у меня маленький, пыльный городишко. Оттого, что городишко был крохотный, что почти весь он был застроен частным сектором, что все улицы в нем были неглавные и тихие, и редко по ним проезжали машины, трактора, колхозные телеги, от всего этого становилось еще пыльней. Неизменно свежими казались только поставленные в окошках между рамами искусственные цветки да миниатюрные палисаднички у домов, где хозяйки настойчиво пытались взрастить красоту.
И вот в конце одной из неглавных улиц стоял широкий двухэтажный дом с плоской крышей. Издалека он сильно напоминал увеличенную до невозможных размеров коробку из-под сапог. Стены здания были серые, цвета упаковочной бумаги. В доме размещался интернат. Здесь я доучивалась два последних школьных года.
Стояла июньская жара, шли выпускные экзамены, и мы со Славой Левченко сидели в спальном отделении на подоконнике второго этажа (за что всегда ругали воспитатели). Окно, широкое, с тусклым от времени стеклом, со слоящейся краской на рамах, было распахнуто. Дерево, что росло у самой стены интерната, в тот год уже лезло в окно ветками, и директор наш, вечно испуганный глобальными хозяйственно-духовными проблемами, ничуть и не пытался ограничить его свободу. Помню дробящееся в кроне на тысячу бликов, ликующее солнце, блеск здоровой листвы, упругой, сильной; решетчатую, ажурную тень.
– Хорошее дерево, да? – говорил Слава, чуть притягивая к себе гибкую ветку.
Я радостно кивала, соглашалась, и во всю ширину глаз принимала его совершенно особенное, единственное в мире лицо; его глаза, ясные, не замутненные еще ни жестокостью жизни, ни предательством, ни болезнями; его руки, такие сдержанные и бережные даже к случайной июньской ветке.
Пусть, пусть проходит юношеская любовь, первая, наивная, восторженная, глупая, беспоцелуйная, всегда обреченная на гибель, любовь деревенского мальчика в красной байковой рубашке и бедной девочки в тренировочных, аккуратно заштопанных брючках. Нет, не о том дереве, что протягивало нам со Славой свои ветки, я тоскую и не ему завидую.
Жизнь моя сложилась вполне благополучно. Живу в селе, все мне здесь знакомо; ночью видны звезды, а днем облака. Быт налажен, домик небольшой, но еще по застойному времени завешан коврами, обустроен. Работа чистая, в библиотеке, а что деньги не платят, обидно, конечно, но не всегда же так будет. До обеда усмиряю в читальном зале пенсионеров, что приходят полистать газеты и каждый раз ввязываются в политические распри друг с другом; после обеда вожусь с редкими школьниками, перетолковывая им книжки по внеклассному чтению. Вечером... Раньше я мечтала о возлюбленном, о необыкновенном, идеальном мужчине. Представляла его непьющим, некурящим, состоятельным, красивым, энциклопедического ума, обладателем изысканных, рыцарских манер. А друг мой теперешний оказался совсем непохожим на вечерние грезы: он любит выпить – в хорошей компании и просто для настроения; может выкурить с расстройства сразу полпачки; ухаживает неумело и с явным изумлением, что ему приходится это делать; и вообще, как сразу выяснилось, человек он не свободный, женатый. Но я люблю его, и мне все в нем нравится: и абсолютное несовпадение с моими вечерними фантазиями; и его самостоятельность, особость; а главное, нравится то, что почти уже не попадается в людях – высокий душевный строй.
Встречаться нам тяжело: мало того, что мы живем порознь, так еще и далеко друг от друга. Если выбирается он ко мне, то я тащу из погреба квашеную капусту, огурцы соленые, готовлю картошку со свининой, завариваю с липой чай. Потом люблю смотреть, как он ест, люблю слушать о том, что должна быть в повседневности простая основа – два-три основных вкуса, а когда их начинают мельчить, смешивать, путать, ничего толкового не выйдет. Мне хорошо с ним днем и ночью – не страшно. Когда мы далеко друг от друга, когда тоскливо бьет в старые скрипучие ставни ветер, мне грустно, но у меня все равно нет чувства отъединенности и обреченности. Я вспоминаю его ласку, его нежность, и на сердце у меня становится тепло-тепло, как будто я – маленькая девчушка, которая счастливо засыпает у мамы под боком, набегавшись по весенней земле. Одна большая, добрая мама у всех нас, и имя ей – любовь... Так думаю я в разлуке долгими ночами. И особенно тяжело мне весной, когда просыпается земля, когда спешит на родину дядя Федор Иванович, когда в деревьях просыпается кровь жизни, а в душе – надежды...
Но вот я приезжаю в город, мы идем, нацеловавшись до одури в липовой аллее, нам бесприютно – негде побыть вдвоем, и свободно – город большой и никому до нас нет дела. Мой друг может рассуждать на любые темы, и во всем он доходит до непостижимых, совершенно мной не сознаваемых вещей. А тут вдруг говорит просто:– Знаешь, я однажды, лет пять или семь назад, провел такой эксперимент: поехал в поле, выбрал там березку, самую что ни на есть кривенькую, самую слабенькую, и посадил ее у себя под окном на даче. Стал за ней наблюдать, ухаживать. И ты представляешь, – живо поворачивается он ко мне, – теперь она совсем выровнялась! Такое деревце стало, – и мой друг пускается дальше уже в абстрактные рассуждения, и я слушаю его вполуха, почти ничего не понимая, а самой горько-горько, и я чувствую, как тихо, беззвучно стекают по щекам слезы.
А он очень чуткий, мой друг. Рассказывает, руками машет, увлекся, случайно глянул мне в лицо, мгновенно изумился: «Ты чего?» – и тотчас, в ту же секунду все понял.
– Дура! – говорит он мне совсем не возвышенно и мягко целует мои слезы, ласково.
– Ага, – радостно хлюпая, соглашаюсь я.
– Ну, будет-то жемчугами сыпать! – приказывает он мне и завершающе целует между бровей. – Все!
– Все... – согласно шмыгаю я.
И мы мирно шагаем дальше, кажется, даже в ногу, и говорим про его город и про мою деревню, про его работу и про моих пенсионеров, про нынешнюю осень, не похожую ни на какую другую – листья опали враз, зелеными, и странно видеть под ногами столько богатого, живого цвета. Мы любим друг друга и мысленно, конечно, говорим совсем, совсем о другом. О том, что взрослые деревья не пересаживают – даже в самую благодарную и наскучавшуюся землю; что надо жить и радоваться тому большому, что у нас есть; что еще долго – до самого неизвестного и потому нестрашного конца – встречать нам год за годом весну, лето, осень и зиму; и что все в этом мире придумано и сказано до нас...
Свиток
В Астрахань мы прилетели в два часа дня. Самолет долго заходил на посадку, и я увидела – реки, речушки, протоки; цвет был нездоровый, неяркий, будто кисти после акварели выполоскали. Серые домишки жались у воды как дикие утята-перводневки. Идеальные прямоугольники рисовых чеков, озерца, похожие на пересыхающие лужи. Редкая зелень у дорог и желтая голая земля.
– Влипли, – сказала Лера, приникая к иллюминатору.
– Разве это жизнь? – поддержала я ее. Мы вылетали из Домодедова, и я вздыхала, глядя на подмосковные леса: темные, упругие, они манили к себе, и мне мечталось – жить бы где-нибудь в глуши, вдали от людей, в теплой избушке, ходить по малину и грибы с легким лукошком, пахнуть костром, выучить все приметы... Ничего подобного от Астрахани ждать было нельзя – мы прилетели сюда работать.
В аэропорту нас встречал бородатый Гусев, хранитель местных музейных древностей. Он-то и обнаружил, разбираясь в запасниках, папирусный свиток с изречениями отцов пустыни. Коптский язык, приблизительно третий век. Свиток был настолько ветхим, что рассыпа´лся на глазах. Еще десять лет назад такая находка стала бы мировой сенсацией, но в стране было смутно и трудно, и никаких реставрационных консилиумов собирать не стали. Просто послали нас с Лерой: «Если можно что сделать – смотрите на месте. А нет – так нет».
Гусев на своем «Москвиче» вез нас в гостиницу и взахлеб рассказывал Лере про то, как он нашел свиток. Лера улыбалась, поддакивала, и я знала, что больше всего на свете она сейчас хочет есть – мы были на ногах с пяти утра. Машина бежала мимо унылых, вытоптанных лужаек, одноэтажных деревянных домов с кривыми палисадниками, домов побольше с облупленной старой краской. Было хмуро, ветрено; Гусев говорил о погоде, о том, что в июне всегда жарко, а мы вот привезли прохладу, что лучше всего бывать здесь в августе, когда арбузы, и что мы еще полюбим город. На административных зданиях трепыхались белые выцветшие флаги, и по такой же белой пыли исправно бежал наш «Москвич».
Мы остановились в «Лотосе», на самом берегу Волги. Гусев долго и вежливо прощался «до завтра», мы с Лерой улыбались из последних сил; а потом, когда он наконец-то ушел, я повалилась на кровать прямо в одежде, а Лера купила у дежурной по этажу банку соленых огурцов (больше ничего не было) и сразу начала есть. Я думала: про свиток – вдруг не справимся, про трудности коптского языка и про то, что надо бы встать и вымыть руки...
К вечеру, отлежавшись и отъевшись, мы решили осмотреть город. Это была моя идея – посетить базар и понаблюдать за местными нравами.
Мы вышли к набережной, река была пустой и серой, волны толкались в гранит и бежали назад. Над самой водой летали чайки, и я подумала, что здесь, конечно, очень глубоко... Лера напомнила мне про базар.
Несмотря на сравнительно светлое время, улицы казались подозрительно пустыми, изредка угадывался запах чего-то вкусного – мантов или бешбармака, но кафе и магазинчики были уже закрыты. У рынка два милиционера запирали на амбарный замок входные ворота. По тополиной аллее, качаясь, шел грузный черный турок.
– Такое чувство, что мы в Египте, – не выдержала Лера.
– Да, – сказала я, – не хватает только кальяна.
Но в одну минуту скучный, пустынный покой нарушился. Небо словно лопнуло по швам, и вслед за треском, скрежетом в одни прорехи хлынул дождь, в другие – ударил ветер. Он мгновенно испортил мне зонт и до груди задрал на Лере сарафан. «О-го-го», – кричали мы друг другу сквозь шум, цепляясь за тополя. Ветер бил со всех сторон, в черных лужах плясали сброшенные с деревьев молодые ветки, кроны над нами ревели, как реактивные турбины, и вообще было такое ощущение, что Астрахань вот-вот взлетит.
Но ненастье кончилось так же внезапно, как и началось. Исхлестанные дождем, мы робко толкнули дверь полуподвального заведения с голубыми фонарями. Публика «Золотой короны» из начинающих фотомоделей и местных купчиков презрительно отвернулась. К нам долго никто не подходил. Наконец официант, смуглый красавчик в красной жилетке, не спрашивая, принес два кофе и рюмку водки. Лера выпила, глаза ее увлажнились. «Пошли?» – «Пошли».
Тяжелее всего мне ночью, когда темно, не на чем задержаться взглядом и нельзя придумать себе никакого занятия – экскурсии по городу или реконструкции коптского текста. Лера спит. А я думаю, и жизнь представляется мне неправильной, несовершенной в части собственных поступков. «За каждый светлый день иль сладкое мгновенье// Слезами и тоской заплатишь ты судьбе» – разве это справедливо?! Во-первых, мне ни за что не расплатиться, а во-вторых, почему надо платить? Может, потому, что люди воспринимают счастье как должное и забывают, откуда оно? Бесценный дар – лично мне, чтобы я раздала его всем без разбора и счета...
Проснулись мы с Лерой в четыре утра. Было уже светло, за окном истошно, громко, жутко каркали вороны.
– Вы слыхали, как поют дрозды? – сонно подала голос Лера со своей кровати.
– Астраханские соловьи, – пробормотала я.
Мы потом весь день нервически посмеивались, вспоминая это карканье.
Наконец-то едем в музей смотреть свиток. Лера, как ни в чем не бывало, болтает с Гусевым, рассказывая о наших вчерашних приключениях, Гусев смеется и ведет машину без правил, а я беспокойно ерзаю. Все должно быть не так – я столько времени мечтала о настоящей работе, трудной, тяжелой, с которой никто не может справиться – только я, и вот теперь сердце мое молчит. С таким же успехом коптский список мог бы расшифровать любой другой переводчик.
– Остановите, – это Гусеву. – Без меня не начинайте, – на всякий случай предупреждаю я Леру.
Быстро сворачиваю в первый попавшийся переулок, потом еще. Сажусь на скамейку. Мальчик, совсем крохотуля – лет пять от силы, в розовых шароварчиках и светлой футболке рвет на лужайке ромашки. На плече у него висит прозрачный целлофановый пакет. Видно батон хлеба и сдачу.
– Эй, парень, – окликаю я, – тебе сколько лет?
– Сэсть сколо, – мирно отвечает мальчишка.
– Ты что, сам в магазин ходишь? – продолжаю я выпытывать.
– Сам, – кивает он.
– А цветы кому?
– Маме, – удивляется мальчик.
Потом я в одиночестве брожу по местному кремлю, обхожу несколько раз вокруг Успенского собора, так, впрочем, и не решившись войти внутрь – я была в брюках; проклинаю собственную лень и безволие и, не вполне довольная собой, расспросив дорогу, отправляюсь в музей.
Вечером мы сидим в буфете, и пока словоохотливая гостиничная хозяйка жарит нам яичницу, Лера подозрительно нюхает свои руки и делится: «У меня глаза полны физиологического раствора». Ей, конечно, досталось – свиток и впрямь ветхий. Я прокручиваю в голове варианты греческих, латинских переводов – нет, кажется, нигде не было! Открытие? Часть авв1 совершенно неизвестны. Можно переводить двояко. Ко мне возвращается утреннее состояние, и я уныло скребу вилкой по сковородке.
– Ты чего? – беспокоится Лера.
– Ничего, – вздыхаю я, – все нормально.
1 Авва (арам. абба – «отец», «настоятель») – титул ушедших в пустыню христианских подвижников, связанных с Ближним Востоком; изречения, притчи святых отцов.Сославшись на усталость, ухожу в номер. Лежу, уткнув голову в подушку, и думаю: на что мне счастье, если я не умею о нем рассказать?! Как будто нет женщин достойней меня! Иногда кажется, что твоим делом спасется мир, но когда, отстранившись, смотришь на жалкие потуги спасения, хочется выброситься в окно. Но жалко Гусева, Леру и всех, кто потом будет жить в этом номере.
Крещеные египтяне, копты, уходили в пустыню, монашествовали. Жизнь становилась проповедью, слово – действием. Ну не зря же этот свиток пропадал столько веков и был, в конце концов, найден именно сейчас?! Лера питает, клеит и фотографирует папирус – она два года училась в Египте. А у меня в горле застревают и спотыкаются слова, переводы никуда не годны – ложь, бессилие, глупость!
– Лера, – осторожно спрашиваю я, – а тебя часто волнуют высокие материи?
– Ага, – зевает Лера. – Только мне хочется казаться простой. Ну, чтобы люди не мучились. Чтобы им легко было и чтобы они чувствовали себя сильнее рядом со мной.
– Зря ты это, – говорю я в подушку. – Жизнь не обманешь. Это все равно что жить как блудница, а думать как монашка. Разве долго так можно выдержать?!
– Не знаю, – смеется Лера. – Тебе по твоим думам давно пора в монастырь, – она еще что-то говорит, но я ее уже не слушаю, судорожно хватаю свои сегодняшние записи, ищу: ага, вот! У меня получается:
«Авва Моисея. Шестая.
Брат некий пришел в скит к авве Моисею, прося у него поучения.
Говорит ему старец:– Ступай, затворись в келье твоей; и келья научит тебя всему».
Дни пошли похожие один на другой. С утра мы отправляемся в музей, работаем до обеда, перекусываем бутербродами и снова корпим над свитком. Текст оказался не вполне оригинальным, да и век – четвертый, как выяснилось позже. Гусев занимается происхождением, прорабатывает эрмитажную версию. Худо-бедно, но переводы двигаются. Правда, мне пришлось отказаться от многих жизненных удовольствий, и на вечерние прогулки Лера теперь отправляется одна.
Для себя я иногда оставляю совсем вольный перевод. Вроде такого:
«Авва Арсения. Вторая. И сказал Арсений:
– Взял Господь в руки хлеб и отломил край. То – женщина».
Лера смотрит на такое творчество скептически – параллельно с работой она учится в аспирантуре МГУ и собирается защищать диссертацию по феминизму. Впрочем, на ее передовые идеи я тоже взираю с подозрительностью – если она такая независимая, то почему покорный Гусев платит за ее ужины? Спорим мы часто, и я с тоской чувствую себя ископаемым, вымирающим видом. Аргументы мои рассыпаются как свиток. Лера здорово подкована и рьяно сражается за равноправие женщин. В труде, творчестве и политике. Я вяло соглашаюсь, но про себя думаю: «Какое равноправие? Все равно в мужиках больше и ума, и дури. Соответственно, дерзости и таланта. Какая конкуренция, если каждый месяц я на неделю стабильно выбываю из строя, плюс три дня неизбежной депрессии, не говоря уж о ежедневном бремени по обустройству жизни. И при чем тут участие в политической борьбе? Да не хочу я никакого участия! Бред, атеизм». Короче, все это меня злит. А тут еще слово, которое нужно тащить из себя, и делаю это я из последних сил, возмущаясь – вот тебе равноправие! Я вздыхаю и перевожу: «Авва Пимена. Шестьдесят третья. Сказал авва Пимен:
– Приучи уста твои говорить то, что есть в сердце твоем».
Нам потребовалось три недели. Конец свитка не уцелел – после тридцать седьмой аввы Сисоя Великого папирус кончался рваным краем. Мы заполняли последние бумажки, склеивали фотокопию. Пришел Гусев, довольный: «Едем на острова, в дельту».
«Дельта, черная земля, Египет – дар Нила» – вертелось у меня в голове. Гусев вел «Москвич», аккуратно объезжая лежащих прямо на дороге худых грязных коров. Мы ехали дальше на юг, в Караульное, к старинному гусевскому другу, у которого есть моторка, острога и икра.
Наконец-то впервые за все время распогодилось, и солнце щедро плескалось в бесчисленных протоках и ериках. Я взгрустнула, что не взяла купальник, что проходит лето и что меня занесло в такую даль... Но внешних причин для печали не было – розовый кустарник цвел по обочинам, качали метелками серые камыши, услужливый Гусев развлекал нас пристойными анекдотами, а к Лере я успела привыкнуть и привязаться.
В Караульном нас дожидались друг Коля и друг Костя, Тамара с натруженными руками, два матроса в задубелых бушлатах и длинных рыбацких сапогах. Три недели я просидела в музейной келье, а жизнь, оказывается, шла, и какая – моторка режет волну, брызги холодным веером; и вот уже остров – зеленый, нетронутый; матросы расстилают на траве маты, Тамара с Лерой раскладывают провизию, друг Коля варит уху. Пахнет ветром, перцем и жареной рыбой.
– Еще вчера здэсь фазана выдэл, – говорит мне дагестанец Костя, трогая за плечо. – Мы на моторке шли, цапля в камыше стояла.
– Да, – кивнула я, хотя ничего не видела.
Все прекрасно: Лера пьет с Гусевым на брудершафт, а я хлебаю пахучую уху с золотыми монетками жира; Тамара рассказывает, что муж ее бросил и давно уж помер от пьянки, но ничего, она приспособилась без мужика; друг Коля подкладывает в мою тарелку икру, ее так много, что она теряет всякую ценность; глаза у Коли синие, с поволокой, и чем больше он пьет, тем синее они становятся... Но почему вдруг такой тоской повеяло из дали, зеленой, зовущей?! На секунду сверкнуло и исчезло – человек богатый и знатный, оставил оазис и ушел в пустыню, для кротости набросив на себя власяницу. Желания мои, толком не родившись, стали противны.
– Будет дождь, – заметила я, пристально глядя в наглые глаза дагестанца Кости.
– Как дождь? – удивился он. – Э, – закричал Костя, вскакивая, – собирайсь!
Темный, кутающийся в клубы туч крокодил полз по небу. У горизонта на землю пролились толстые световые лучи. Замолчали птицы, и вода в реке казалась совершенно черной.
Самолет у нас был в три, а номер попросили освободить к двенадцати. Лера слегка похлюпывала носом после вчерашнего потопа. Мы вынесли вещи на пристань, опустились на скамейку. Катера в этом году не ходили – не было горючего, речной вокзал был пуст. Кавказец напротив гостиницы жарил шашлыки на продажу, и сколько я помню, никто у него их не покупал.
Мы поговорили с Лерой о Москве, о свитке, о том, как лечить насморк, и во сколько за нами приедет Гусев. Сумки у нас распухли и пахли селедкой.
Подошла цыганка, высокая, осанистая, глаза у нее азартно горели в предвкушении легкой добычи. Тряхнула юбками, фальшиво зачастила:
– Милые, красавицы, погадаю вам, прошлое-будущее расскажу, интерес укажу!
– У нас денег нет, – честно предупредила Лера.
– Эх, кудрявая, много кавалеров, да все неверные, хочешь приворожу? А ты, рисковая, – угрожающе повернулась она ко мне, – думаешь, твоей жизни никто не знает? Что молчишь?
– Правда, ничего нет, – сказала я и вывернула брючные карманы.
В Домодедове мы с Лерой расстались – сразу подвернулся ее автобус. Я растроганно помахала ей, ловя себя на мысли, что стала благовоспитанной как Гусев.
Оставшись одна, я первым делом бросилась к телефону. Номер не отвечал. «Ладно, – сказала я. – Ладно».
Автобус шел по МКАД, жаркий, как раскаленный сейф. И я думала: «Господи, надо было лететь на самолете и не разбиться, мучиться переводами, давить искушения, просыпаться под карканье ворон, спорить с Гусевым о политике, а с Лерой о феминизме; надо было просто выжить эти три недели, разворачивая свиток по сантиметру, и все для чего?! Чтобы, глядя в его веселые глаза, ответно улыбнуться и сказать: „Все хорошо“.