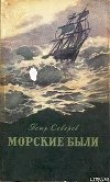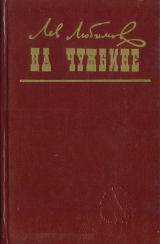
Текст книги "На чужбине"
Автор книги: Лев Любимов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 27 страниц)
Лихорадочно покупаем "Вечернее время" или специальный выпуск "Биржевки". Их чтение столь же захватывающе, как самый потрясающий фильм с убийствами и раздеванием.
Милюков публично обвинил царицу в измене! Пуришкевич, сам правый Пуришкевич, громит распутинцев с думской трибуны!
Мы в курсе самых скандальных интриг, распутинских сатурналий. Как и дома, в лицее уже не говорят ни о чем другом! Сейчас нас больше всего занимает Штюрмер, распутинский ставленник, на которого рассчитывают в Германии.
Под напором Думы царь скрепя сердце увольняет Штюрмера. Еще до своего премьерства этот старый хитрец, проныра, подхалим (так его теперь все величают) как-то заезжал к отцу по служебным делам. Отец острил, что вся его каверзная персона притаилась в бороде, удивительно длинной и напомаженной, словно вылепленной из глины. Он давно знает Штюрмера, всегда считал его интриганом и теперь радуется его падению.
Чтобы позолотить фавориту горькую пилюлю отставки, царь жалует ему на спину обер-камергерский бриллиантовый ключ! Мятлев, великосветский памфлетист, чьи стихи ходят по петербургским гостиным, спешит отточить новую шпильку по адресу высшей власти. Весь лицей, от старших классов до самого младшего, знает его стишок, мигом облетевший великокняжеские дворцы, все гвардейские офицерские собрания, все важнейшие канцелярии, редакции всех газет и кулуары Государственной думы. Да извинит меня читатель, что привожу эти четыре строки с неудобопроизносимой концовкой, – они уж очень характерны для предфевральской поры:
Не обижайся, мир сановный,
Что ключ алмазный на холопе?
Нельзя ж особе столь чиновной
Другим предметом дать по….
И все мы заучили другой мятлевский стишок, пожалуй самый знаменитый:
Аннушка гадает,
Гришка прорицает —
Про то попка ведает,
Про то попка знает.
Так высмеивал Мятлев триумвират, возглавляющий «темные силы». Всему лицею известен его состав.
Грязный, развратный, безграмотный проходимец Григорий Распутин, который держит в своей власти царицу, а через нее – царя. Они поклоняются его "магнетической силе", слепо верят, что этот продажный авантюрист выражает преданность престолу "простого парода", а главное, помнят его предостережение: "Когда меня не будет, и вам будет конец".
Анна Вырубова, ближайшая подруга царицы и самая исступленная распутинская почитательница, с которой царица предается болезненному, историческому мистицизму.
Министр внутренних дел Протопопов ("про то попка" – в мятлевских стихах), душевнобольной, с первыми симптомами прогрессивного паралича, которого "наш друг" – так царь и царица называют Распутина – объявил самым надежным из царских слуг.
А под ними и вокруг них целый клубок "темных сил", разной масти и дородности.
Это митрополит петроградский и ладожский Питирим. Мы знаем, что он связал себя окончательно с Распутиным и соперничает с ним в разврате, публично оскверняя свой сан. У того гарем из великосветских кликуш, а этот крестом и посохом гонит "женскую лукавую любовь", но зато в алтаре и в опочивальне окружает себя молоденькими смазливыми служками. Это Мардарий, тоже духовное лицо, про которого толком никто ничего не знает, но которому приписывают оккультную власть. Это банкир "Митька" Рубинштейн, которого все считают мошенником, но перед которым заискивают и министры. Это Манасевич-Мануйлов – жулик, уголовник и штюрмеровский секретарь. Это князь Андронников, который числится при Синоде, никакой важной должности не занимает, но все может и всем приказывает. И еще многие другие. Среди них и сознательные изменники, германские агенты, и такие, которые выросли в прогнившем государственном аппарате, как грибы на навозе.
Отец рассказывает про Андронникова:
– Мне сообщили, в чем секрет его влияния. Он подкупает курьеров! Да, простых курьеров "Правительственного вестника". По дороге в типографию они завозят к нему материал, предназначенный для печати. Андронникова интересуют только награды, назначения. Тотчас же звонит, кому выпала удача: "Рад вам сказать, что мои старания увенчались успехом. Государь уже подписал указ. Завтра прочтете в "Правительственном вестнике". Поздравляю!" Вот и все! В результате у этого проходимца каждый день в передней толпа.
Как мальчишки-лицеисты, как и все, отец захвачен внешней стороной нахлынувших событий. Когда у него сидит какой-нибудь добрый знакомый, из кабинета то и дело доносится:
– Это точно: он будет назначен.
– Но ведь это отъявленный негодяй!
– Потому и пошел в гору.
– А почему того уволили?
– Распутин велел.
– Но ведь это неслыханно!
– Не то еще будет! Если только…
К отцу приходит мой дядя Туган-Барановскин, знаменитый Михаил Иванович. Он либерал, он дружит с кадетами, он объявляет себя врагом самодержавия.
Но сейчас отец и он нашли общий язык.
– Это черт знает что!
– Ужас!
– И позор.
– Да, и позор.
Отец говорит в заключение:
– Он потерял голову. Он ничего не понимает.
Дядя улыбается в бороду. Видимо, ему нравится пикантность этого разговора. "Он" – это царь.
В "Войне и мире" на обеде у старого князя Болконского все бранили правительство, но каждый останавливался или бывал останавливаем "на той границе, где суждение могло относиться к лицу государя императора".
Начиная с осени 1916 года эта заповедная грань решительно перейдена.
Царя бранят среди нас открыто:
– Как был в молодости средним офицериком, так и остался!
– Воли нет никакой!
– Эх, кабы Александр III воскрес!
– Или Николай Павлович!
В один голос говорят, что он неумен, фальшив, нерешителен, необразован. Бранят не меньше, чем среди "презренной" интеллигенции. Но там называют просто "Николаем", а у нас он по-прежнему "государь". Вот, в общем, вся разница. Зато царицу величают "гессенской мухой", а то и просто "Алисой", по ее основному имени.
…Парадный молебен в лицейской церкви. Стройные шеренги. Мундиры с орлеными пуговицами. Директор в ленте – перед алтарем. Стоим неподвижно.
"Многая лета" царствующему дому. Гремит на весь храм голос дьякона. Сначала царю, затем:
– Супру-уге его-о, благочести-ивейшей госуда-арыне императри-ице Алекса-андре Фео-одоровне-е…
Ясно вижу, как некоторые лицеисты из старших классов чуть-чуть отворачивают голову для символического плевка.
Нас, мальчишек, дразнит сенсация. Сенсация взвинчивает настроение и взрослых. Но у них, кроме того, другое. Я понял это по следующему случаю.
К нам зашел мой дядя, Николай Иванович, сенатор не у дел. На этот раз он не надел парадного мундира и обошелся без фанфаронства. В отличие от брата Михаила, говорил с отцом без игривой улыбки, как всегдашний единомышленник. Передал ему какие-то новые вести о Распутине и о "тревожных симптомах", рисующих настроение "низов". Затем театральным жестом указал на стену, где висел портрет Николая II, и произнес мрачно:
– Он губит нас всех!
Я понял, что в душе его страх, Теперь же, когда вспоминаю об этой поре, я распознаю страх в словах и поступках решительно всех, кто возглавлял тогда цензовую Россию.
На фронте потоками льется кровь. Армию послали сражаться почти без оружия. Разве за это не придется расплачиваться? Страна устала. Разруха во всем. Во главе государства безумцы, изменники или прохвосты. Министры и главнокомандующие назначаются по указке безграмотного мошенника.
Сам царь в страхе и из страха ищет спасения в Распутине. Люди из "германской партии" хотят заключить сепаратный мир. Они тоже в страхе. Пускай же Россия будет под немецким сапогом: все лучше, чем торжествующий гнев народа! Прочие заявляют: до конца с союзниками! После войны союзники спасут от народа! За это можно им дать концессии, уголь, нефть – все что угодно.
В страхе Штюрмеры и Протопоповы. Но в том же страхе Милюковы и Керенские. Первые говорят, что только твердая власть может спасти от народа. А те им возражают: вы уже не власть, вы прогнили вконец; только Дума, только ответственное министерство способны остановить гнев народа.
Не как спасти Россию, а как спасти свой социальный строй, спасти себя! От кого? От народа. Значит, от России.
– Куда они нас ведут?! – восклицают старшие и в лицее и дома.
"Они" – это "темные силы"; "нас" – это значит наш социальный слой. О России говорят тоже, но лишь во вторую очередь. Если погибнет этот строй, то и ей конец! Так само собой разумеется, раз мы, только мы, ее сердце и голова!
За обедом отец рассказывает очередную сенсацию.
Княгиня Васильчикова, урожденная княжна Мещерская (это высшая знать), отправила по почте письмо императрице (уже дерзость), заклиная ее прогнать Распутина и не вмешиваться больше в государственные дела. По приказу царя Васильчикова выслана в свое имение.
Отец одобряет эту меру: налицо "оскорбление величества". Но одобряет и Васильчикову, вновь резко порицая царя за слабость, за подчинение Распутину. Каждый раз, как входит слуга, он останавливается или продолжает по-французски.
При "них", при "людях" негоже говорить о царе откровенно. Отец мне уже объяснял это. Народу незачем знать такие дела.
Зато самого Распутина отец готов ругать хоть публично. Распутин ведь тоже "из народа". Пусть же во всем будет виновен он, а не царь.
Царь не годится. Но свергать его страшно. Может рухнуть все. Так думает не только правый Пуришкевич, но и кадет Милюков, – это известно отцу из самых верных источников. Дворцовый переворот – это крайний шаг.
В лицее старшие товарищи говорят открыто:
– Надо бить по "темным силам" и в первую очередь – по Распутину.
Декабрьские сумерки. В руках у меня только что купленная газета. На видном месте странное сообщение: о таинственных выстрелах, раздавшихся ночью в каком-то дворце, о городовом, которого не впустили за решетку, объявив, что во дворце убита бешеная собака.
Читаю, перечитываю, пожимаю плечами. Рядом на тротуаре тоже читают остановившиеся прохожие. Встречаюсь глазами с одним, другим – и вдруг у меня буквально захватывает дыхание.
Мчусь домой. Звоню у подъезда, пока не открывается дверь. Кричу так громко, что отец выбегает навстречу:
– Распутин убит!
Князь Феликс Юсупов, женатый на племяннице царя, двоюродный брат царя – великий князь Дмитрий Павлович и правый депутат Пуришкевич организовали убийство Распутина в надежде спасти трон и социальный строй, с которыми они связывали свою судьбу.
Юсупов был инициатором и физическим исполнителем всего дела. Он заманил Распутина в свой дворец, резиденцию "особы императорской крови", куда полиция не имела права проникнуть, он угощал его там отравленными пирожными и вином, а когда яд не подействовал, он стрелял и убил. Почему же именно он решился на такой шаг?
Феликс Юсупов был в ту пору кумиром петербургской "золотой молодежи". Очень красивый (тому свидетельство – портрет его кисти Серова в Русском музее), наследник колоссального состояния (знаменитое Архангельское под Москвой, дворцы в обеих столицах с художественными коллекциями, оценивавшимися в миллионы, имения по всей России; выдавая за него свою дочь, сама сестра царя считала, что это выгодная партия), он, кроме того, славился "утонченностью вкусов и манер", объявлял себя почитателем Ницше, а главное Оскара Уайльда, давая понять, что он из тех людей, которые возвышаются над прочим человечеством, а потому не обязаны подчиняться общим законам. В этом отношении он импонировал не только офицерам гвардии, но и поэтам-декадентам.
После революции Юсупов поселился в Париже. Последний раз я видел его в 1947 году. Ему было уже шестьдесят лет, но выглядел он моложаво, так же изящно одевался, так же, как в юности (до и после женитьбы), слегка красил губы и щеки и любил принимать расслабленые позы, между тем как на лице его играла давно заученная, двусмысленная улыбка. Все десятилетия, отделяющие нас от ночи на 18 декабря 1916 года, когда он совершил свой самый значительный поступок, Феликс Юсупов прожил как убийца Распутина и больше уже не пускался ни в какие политические авантюры. В парижских, лондонских и нью-йоркских гостиных шушукались при его появлении, глядели на него с жгучим любопытством, и он как должное принимал такие знаки внимания.
Я несколько раз разговаривал с ним, наблюдал его, много слышал о нем. Думается, в поступке его сыграли значительную роль такие теории, как "красота дерзания", ницшеанская вседозволенность "для избранных, жажда острых, не изведанных еще ощущений" и при этом… полная уверенность в безнаказанности.
Убивая Распутина, Юсупов, вероятно, мечтал стать кумиром всей России. Это не вышло. Но себе он обеспечил безбедную старость. Впрочем, тут ему повезло.
В первые годы эмиграции у Юсуповых было достаточно денег: какая-то часть состояния оказалась у них за границей. Но привычка к роскоши скоро подорвала эту базу. Пришлось работать. Юсуповы открыли в Париже ателье мод. Опыта не было, и дело прогорело. Тогда князь Феликс взялся за перо. О чем же писать? Конечно, о главном событии в своей жизни. Книга доставила ему некоторые хлопоты. Дочь Распутина тоже бежала во Францию. И вот, после выхода в свет юсуповских воспоминаний, она возбудила против него дело во французском суде, требуя возмещения "убытков" за убийство отца! Основание было такое: виновность Юсупова не приходится доказывать, раз он сам печатно в ней признается! Французский суд долго возился с этой дикой жалобой и в конце концов отпустил ни с чем распутинскую дочь, рассудив, что дело было давно, в другой стране и уже подлежит лишь суду истории. Но кроме хлопот, книга доставила Юсупову и солидный доход. Особым успехом пользовались строки, где изящный и изнеженный автор рассказывал с чисто аристократической брезгливостью, как, обрадовавшись, что наконец прикончил удивительно живучего мужика, он пришел в неистовство и бросился топтать мертвое тело. Однако доходы от книги быстро улетучились. Вот тут-то Юсупову и выпала удача.
Голливуд выпустил фильм об убийстве Распутина. Это была очередная американская клюква "из русской жизни", причем клюква с порнографией. Личность Распутина и его окружение давали для этого достаточный материал. Но, забыв, что Юсуповы – живые люди, Голливуд изобразил главной распутинской фавориткой княгиню Ирину, придав ей образ разнуздаинейшей Мессалины. Это было нелепо, так как жена Юсупова всегда считалась крайне скромной женщиной, жила в уединении и почтительно обожала мужа.
Не знаю, что испытали Юсуповы, смотря этот фильм. Но действовать стали немедленно. Было возбуждено дело об "опорочении доброго имени матери семейства". Опять собрался суд. На этот раз в возмещении "убытков" не было отказано. Причем особенно высоко был оценен в долларах "моральный ущерб", так как фильм успел появиться на сотнях экранов.
С тех пор Юсуповы уже не нуждались в деньгах.
В февральские дни моих родителей не было в Петрограде. Мать находилась на фронте, отец – в Москве, по служебным делам.
Я ходил по улицам среди толп, метавшихся взад и вперед. То там, то здесь раздавалась стрельба. Раз на Невском я не только слышал выстрелы, но и странный свист мимо ушей, и понял, что это пули, когда все вокруг бросились в подворотни.
Поздно вечером в воскресенье, 26 февраля, я снова пошел на Невский вместе с моим двоюродным братом, правоведом. Народу было гораздо меньше. Толпа отхлынула после бурного дня. Посреди площади, у памятника Александру III, стоял, как обычно, городовой. Он предупредительно откозырял нам и, с готовностью отвечая на наши вопросы, объявил, что беспорядкам конец: с утра вводится осадное положение.
Было совсем темно, чуть порошило. Пошли обратно к Литейному. Из какого-то ресторана слышались музыка и заглушенное пение. Распознав "Боже, царя храни", мой двоюродный брат приложил руку к треуголке. Я сделал то же. По Невскому двигались всадники. То была конница, спешно вызванная в столицу для подавления восстания. Под звуки гимна они проходили высокими тенями в морозной мгле.
Глава 4
После февраля
Мы занимали в то время особняк на углу Фурштадтской (ныне улица Петра Лаврова) и Литейного, против нынешнего магазина «Гастроном». Из окон моей комнаты виднелся проспект в сторону моста.
Утром 27 февраля я был разбужен бурными криками с улицы. Но хотелось спать, и я не поднялся с кровати, радуясь, что из-за событий не надо торопиться в лицей. С возбужденными лицами, даже не постучавшись, в комнату вбежали горничная, повар и еще кто-то из прислуги. Разом прильнули к окнам. Шум все усиливался.
– Что случилось?
– Вставайте, вставайте, Лев Дмитриевич, – сказала старая горничная. – Уж вы нас извините, что так ворвались к вам. Сами поймете…
Мне уступили место у окна. То, что творилось "а улице, было еще более необычно, чем накануне.
По Литейному шли войска. А на тротуаре стояли люди всякого звания и что-то кричали, женщины махали платками. В первую секунду меня больше всего поразили белые платки над толпой.
– Сдаются, что ли, войскам? – проговорил я в недоумении.
Старая горничная как-то странно посмотрела на меня. Остальные даже не оглянулись.
В следующее мгновение я уже заметил, что солдаты идут нестройно, сами что-то кричат и машут толпе.
Не раз слышал рассказы отца о первой революции: московское восстание, волнения во многих городах были подавлены войсками.
Пока войска верны правительству, нет опасности, – говорил отец.
"Неужели конец?" – пронеслось в голове.
Я долго оставался у окна. Вот, пожалуй, что произвело на меня самое сильное впечатление.
На Литейном, у Сергиевской (ныне улица Чайковского), была воздвигнута баррикада, за которой укрепились восставшие. Ближе к Невскому стояли части, еще верные правительству. Оттуда затрещали пулеметы, Проспект мигом опустел. Несколько солдат укрылось в подворотню, как раз напротив Фурштадтской; лежа или на коленях они открыли стрельбу по правительственным войскам. Так продолжалось несколько минут. Вдруг один из солдат поднялся во весь рост и, отстранив товарища, схватившего его за рукав, вышел из подворотни.
Я смотрел, не понимая.
"Зачем он это делает? Пьяный?"
Но он не был пьян. Твердым и мерным шагом перешел через тротуар, и вот уже сапоги его вдавливаются в снег на самом проспекте. Он все ближе ко мне, а все яснее вижу его лицо – молодое и энергичное, с прядью волос, выбившихся из-под папахи.
"Куда он? Зачем переходит улицу под огнем?"
Но он не собирался переходить.
Остановился как раз посередине, между трамвайными рельсами. Повернулся лицом к Невскому. Поднял винтовку. Прицелился не спеша. Выстрелил.
И тем же спокойным шагом пошел обратно в подворотню.
Как все, вероятно, кто смотрел на него в эту минуту, я с трудом переводил дыхание.
Пальба усиливалась.
Я старался различить в подворотне солдата, совершившего этот непонятный поступок. Но там в дыму была лишь волнующаяся масса серых шинелей, – и я подумал, что уже никогда не увижу его… Как вдруг он вновь, отделился от товарищей и вновь пошел под огонь. Да, вот он опять на снегу. Опять останавливается между рельсами. Опять медленно прицеливается. Выстрел! Но обратно не идет. Еще раз поднимает винтовку. Другой выстрел! Затем тихо возвращается к своим.
Эта была какая-то фантасмагория. Но меня уже ничего не могло удивить. Я был уверен, что этим не кончится, и ждал, что он снова выйдет на середину этого страшного, пустого проспекта. И он так и сделал.
Я прильнул к окну, впиваясь в его фигуру, Опять он на том же месте. Прицеливается. Жадно разглядываю его черты. Прямой лоб в ракурсе, вздернутый волевой подбородок, голова набок – к стволу винтовки, глаз, угадываю, ищет врага. Весь его профиль кажется мне удивительно прекрасным в это мгновение!
Выстрел! Дымок. Он все стоит. Снова выстрел! Снова дымок. Но он не уходит. Понимаю: решил выстрелить три раза подряд.
Опять плечо уперлось в винтовку, и палец готов спустить курок. Но выстрела нет. И не будет! Солдат роняет ружье и как сноп валится в снег.
Не вышло до конца! Но как красиво, как дерзко все это было! А зачем? Не знаю. Но, вероятно, дышала в этом юноше великая ненависть к тому, во что он стрелял, и великая уверенность в своей правоте, в своем превосходстве.
Подросток в ушанке выглянул из-за дома и махал платком, пока не прекратилась пальба. Затем выскочил на улицу и поволок труп к подворотне, из которой, горя отвагой, этот русский солдат выходил стрелять в старый режим.
От трамвайных рельсов до тротуара тянулся по снегу кровавый след[7]7
Одновременно со мной и из того же дома, но из подвального помещения, с тем же жадным любопытством глядел на первых солдат революции другой подросток, мой сверстник, плямянник нашего повара. Теперь это видный советский инженер. Он от начала до конца видел ту же сцену, как и я, был поражен до глубины души и до сих пор с изумлением вспоминает об отчаянной отваге этого молодого борца за свободу, славная смерть которого, кажется, нигде еще не была отмечена.
[Закрыть].
…Вечером, в шапке и штатском пальто я пошел смотреть на пожар Окружного суда. Огромное здание пылало, и никто его не тушил. Горели дела политических и уголовных. С треском рушились лестницы и потолки. Зажженный народом огонь пожирал без остатка, без разбору старый строй, весь уклад его, все его законы. На улице стояла толп? веселая, торжествующая.
На другое утро к нам наведался дядя Михаил Иванович. Кадетские его чувства выражались широкой улыбкой и большим красным бантом на груди. Намерения его были наилучшие: он хотел успокоить племянников, оставшихся в городе без родителей. Но меня это не тронуло. Я был оскорблен, что дядя является с красным бантом в дом моего отца.
– Будет провозглашена республика, – сказал он с довольным видом.
Я взглянул на его грузную, барственную фигуру, от которой веяло таким покоем, таким старозаветным усадебным бытом, и, ясно помню, удивился его улыбке: "Чему он радуется? Или это напускное?"
Штатское пальто скрывало лицейский воротник. Мне нечего было бояться.
В эти февральские дни я впервые увидел народ. Все, что я видел на улице, – красные флаги, солдаты и матросы с винтовками на крыльях автомашин, лица с горящими глазами, этот юноша, который так презирал старую власть, что не страшился ее пулеметов, – все это было торжеством народа. Да, народа, а не дяди Михаила Ивановича! Торжество солдатской толпы, всех этих курносых деревенских парней, которых привыкли хлестать по щекам армейские и гвардейские офицеры, а не нового думского военачальника, элегантного полковника Энгельгардта, дамского угодника и доброго нашего знакомого, с бородкой точь-в-точь как у отрекшегося царя!
Против восставшего народа бессмысленно было бороться. У него была сила, в нем горел настоящий, огонь. И у него была крепкая, очевидно, давно и незаметно для нас налаженная организация. А Энгельгардты и дяди Михаилы Ивановичи были точь-в-точь такие же, как мы сами. Раз измельчали ученики Дурново, раз промахнулись они, занеся над народом руку, то не этим благодушествующим хитрецам обмануть его ныне Грошевыми поблажками!
Народ торжествовал. И это торжество представлялось мне не только решительным, но и ужасным. Оно знаменовало крушение "нашего мира". Пафос народа, воля его и отвага были направлены против нас, против исключительности нашего положения. Что могло быть общего между нами и этой грозной толпой, радостно затопавшей и загоготавшей перед растреллиевскими колоннадами, монументами царей, под арками и триумфальными воротами в славу империи Петра и Екатерины! Нас, весь "наш мир" спихнула в первую очередь революция с разбитого пьедестала.
Все это, конечно, ощущал я гораздо более смутно, чем описываю сейчас. Но ощущал несомненно. Именно эта пора наложила особенно четкий отпечаток на мою сознательную жизнь. Несмотря на короткие вспышки протеста, безнадежность борьбы против революции крепко внедрилась в мое сознание. И одновременно внедрилось на многие годы другое: любование прошлым, упорное стремление уберечь "наш мир" хотя бы в самом себе, противопоставить его до конца новому торжествующему миру.
Такие настроения не были единичны.
Я не припомню товарищей, знакомых, да и вообще людей из "нашего мира", у которых февральский переворот вызвал бы искренний энтузиазм. Первыми жертвами явились мы, потому сознание обреченности было во многих.
Занятия в лицее возобновились. Новая власть о нас как будто забыла. Директор генерал Шильдер сам отстранился от дел. Усы его и звон шпор слишком уж отдавали старым режимом. Гвардейского генерала заменил штатский инспектор.
Экзамены. Мы переводимся в следующий класс. Что будет после – никто не знает.
Лицейские традиции не отменены. Перед выпуском "генералы" прощаются с младшими товарищами. Обходят класс за классом. Полностью соблюдается вековой церемониал. Стоим на вытяжку друг против друга. Один из "генералов" выходит из строя и произносит речь. Еще никогда такая речь не раздавалась в стенах лицея. Он говорит резко и кратко:
– Лицея больше нет. Все толки о превращении лицея в какую-то пушкинскую гимназию – оскорбительный для нас вздор. Пусть приспосабливаются другие. Мы предпочитаем не быть. Сейчас мы прощаемся не только с вами, младшие товарищи. Все мы вместе прощаемся с лицеем.
Наш курсовой председатель выступает вперед. Он приготовил обычное прощальное приветствие. Но речь старшего так его взволновала, что он не может, выговорить ни слова.
Дальше все идет по ритуалу. "Генералы" вручают нам прощальные серебряные жетоны, каждый из нас удостаивается традиционной чести: старший товарищ, от которого он получает жетон, переходит с ним на "ты". Затем мы окружаем наших "генералов" и качаем их, подбрасывая как можно выше. Громовое "ура" несется им вслед, когда они покидают класс.
* * *
Лето 1917 года. Позади революция, сокрушившая царский строй, впереди другая, которой все страшатся. Но как ни в чем не бывало мы отправляемся за границу, забирая с собой гувернантку и горничную. Едем недалеко (ведь война), в Норвегию, на морские купания.
Для отца все, что происходит, – ужас, содом. Но именно потому он крепко уверил себя, что так продолжаться не может. Как часто бывает, вся обстановка рисуется отцу словно в фокусе – в одном конкретном, хоть и незначительном случае. За несколько месяцев до революции его камердинер взломал несгораемый шкаф и похитил драгоценности. Камердинера арестовали, и сам отец дал о нем благоприятное показание, чтобы смягчить приговор суда. Но в февральские дни его освободили вместе с другими заключенными. Вот он и вернулся домой, то есть к нам, так как женат на нашей прачке. С тех пор и живет у нас. Для отца это доказательство, что "все пошло прахом".
Да, хорошо проехаться на месяц-другой за границу!
Ханкебад. Элегантный пляж. Роскошная гостиница. Вышколенная прислуга. Чистота и порядок. Никто не лущит семечек. Нет красных флагов. Нет криков, нет демонстраций. Вообще никаких политических событий. Как замечательно!
Утренний завтрак. У нас гость, тоже отдыхающий от петроградских тревог. Это – Мамантов, старый сослуживец и приятель отца, еще совсем недавно главноуправляющий "собственной его величества канцелярии по принятию прошений. Обходим стол с десятками норвежских закусок. Мамантов в отличном настроении, шутит по-курортному. Широко улыбаясь, низко кланяется отцу:
– Теперь я никто – человек без чина и звания, можешь меня презирать!
– Но все мы в том же положении, – возражает отец.
– Совсем нет! Тебе повезло! Ведь Сенат-то не упразднен! А вот я: управлял канцелярией его величества – нет больше величества, был егермейстером – нет больше придворных, был членом Государственного совета – нет больше верхней палаты! Кто бы мог подумать, что важнее всего попасть в Сенат!..
Хохочет. Отцу тоже весело.
– Ты знаешь, – продолжает Мамантов, – я видел здешнего короля. Он шел пешком по улице, как самый простой смертный. В штатском! Это, конечно, странно на наш взгляд! Но какое почтение кругом! Очень многие кланялись, уступали дорогу. Счастливая страна! Да, кстати, я вчера получил из Петербурга письмо со стихами, кажется Мятлева. Он, ты знаешь, в полном раскаянии. Как мог бранить Александру Федоровну! Да и в самом деле, "темные силы" – это ведь пустячок в сравнении с Совдепами. Так вот слушай же, что теперь про Керенского сочинено, не то им, не то Пуришкевичем:
Правит с бритою рожей
Россией растерянной
Не помазанник божий,
А присяжный поверенный.
Не правда ли, хорошо? Но скажи, ведь так продолжаться не может?
– Не может, – решительно подтверждает отец.
Обратный путь. Пока едем через Финляндию всюду только и разговоров, что о корниловском выступлении. В наше купе заходит едущий в том же поезде старый знакомый родителей, польский адвокат Ледницкий, известный общественный деятель, кадет.
– Ну что ж, ваше превосходительство, – в шутку говорит он отцу. – Скоро снова будем под вашим начальством, И слава богу!
Но когда приезжаем в Петроград, корниловский мятеж уже ликвидирован. Дядя Михаил Иванович, любящий исторические сравнения, говорил про Корнилова: это русский Кавеньяк. Теперь, вероятно, он назидательно объявляет: Корнилов оказался неудачливым Кавеньяком.
На вокзале нас встречает другой дядя – Николай Иванович. Он нервничает:
– Корнилов свел все наши усилия насмарку. Это уже второй человек…
Спрашиваю:
– А кто первый?
– Государь, – отвечает дядя шепотом. – Ни тот, ни другой ничего не понимают в политике. Вот теперь и жди победы большевиков. Впрочем, еще посмотрим!
Не только дядя, но и отец понижает голос, когда осуждает Николая II. Почему так? Ведь нет больше царизма. Вот именно поэтому. Теперь о царе не принято говорить непочтительно в нашем кругу.
Корнилов споткнулся. "Керенщина" выдохлась. Готовились к решительной схватке. Петроград был насыщен слухами: о Савинкове, о каких-то офицерских союзах, о тайных сговорах между царскими генералами и правыми эсерами, о текинцах…
Ведь корниловцы доводили почти до столицы! О грозных всадниках "дикой дивизии" складывались легенды.
– Совершенно не разбираются в обстановке.
– Это и хорошо!
– Прямо заявили делегатам Совдепа: "Что такое старый рэжим, новый рэжим? Мы просто режем".
– Их и пустим снова против большевиков!
Большевики не были еще у власти, а уже организовалось белое движение. Однако будущие корниловские и деникинские офицеры были на первых порах не очень уверены в себе. Как подчинить снова солдат? Как покончить с "проклятой демократией" в армии? Впрочем, раз довелось мне услышать вполне самоуверенную речь.
К нам зашел уланский офицер, известный главным образом как бальный распорядитель, лихой танцор. Рассказывает в возбуждении:
– Знаете, мне все это безобразие, в конце концов, надоело! Решил навести порядок. Выхожу на Невский. Останавливаю первого солдата: "Ты что мне чести не отдаешь, болван?" Он сразу во фронт: "Виноват, ваше высокоблагородие, большевики попутали!" – "То-то", – говорю я. А кругом уже десяток солдат стоит навытяжку. Спешат показать свое благонравие. Вот видите, обошлось даже без рукоприкладства. С этим народом надо говорить решительно!
Всем неловко. Глаза уланского офицера налиты кровью, смотрит пристально в одну точку. Когда он уходит, звоним его близким. Те тоже обеспокоены. Подтверждают, что с ним в последнее время происходит неладное.
Неделю спустя он уже был в сумасшедшем доме.