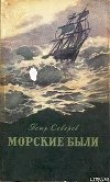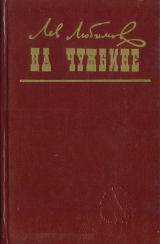
Текст книги "На чужбине"
Автор книги: Лев Любимов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 27 страниц)
Именно с этого разговора во мне зародилось убеждение, что людям со свастикой на рукаве не так трудно будет расправиться с персоналом и руководством подобного рода партийных организаций – департаментов.
Париж, 1931 год. Экономический кризис, бушующий во всем капиталистическом мире, больно задел столицу Франции! в деловой жизни, в торговле застой. Международная обстановка обостряется. Идея реванша торжествует по ту сторону Рейна. В то же время позиции Франции слабеют. Победа, Версальский мир – все это далеко. Глухая борьба между победителями выявила новое соотношение сил: французская великодержавность на ущербе. Французской буржуазии неприятно сознавать свою несостоятельность, ей хочется доказать и себе и другим, что силы ее еще внушительны. А кроме того, нужно принять какие-то меры, чтобы оживить экономическую жизнь, созвать какую-то сенсацию, которая привлекла бы к Франции внимание, выделила бы ее среди других стран. И вот в Венсенском лесу, у самых ворот Парижа, открывается грандиозная Колониальная выставка.
Какое богатство красок и образов, какая роскошная панорама!
Вспоминаю, как я в первый раз приехал на эту выставку и увидел над Парижем, над этим лесом с вычищенными дорожками и серебристыми прудами, главную ее достопримечательность: огромный храм Анкор-ват, французскими архитекторами и археологами (кстати, под непосредственным руководством мною уже упомянутого русского ученого Голубева) воспроизведенный из недолговечного материала в натуральную величину и чуть ли не во всех деталях! Ни храмы Индии, ни храмы Борнео, таящиеся в тропических зарослях, не обладают такими колоссальными размерами. Великий памятник древней кхмерской архитектуры, окруженный в Индокитае почти непроходимым лесом, возвышался теперь в двух шагах от метро. Миллионы людей были буквально ошеломлены его красотой. Конусообразные башни, подобные кущам деревьев, над галереями, террасами, над главным святилищем, над лестницами и башнями меньших размеров. Величественность, простор, сложнейшая архитектурная композиция, развертывающаяся с предельной ясностью, с предельной гармонией… Подымаясь по ступеням, вы проникаете в особый мир далекой Юго-Восточной Азии (не Индия и не Китай), обретающий в этом памятнике одно из своих самых законченных воплощений. Вы идете по главной галерее вдоль рельефов, которые тянутся почти на километр. Они изображают сцены из "Рамаяны" – это тысячи и тысячи фигур, никогда не повторяющихся. Проходят перед вами вереницы священных танцовщиц, застывших в медлительном, размеренном танце, мелькают таинственные и манящие улыбки, и всюду, в мельчайших узорах и в огромных башнях, вы различаете единый мотив: тюльпанами вырастающие, теснящиеся, друг над другом возвышающиеся все в том же стройном порядке семиглавые змеи.
А у ног этого светлого храма, от которого веет покоем, древними преданиями и той неповторимой и неувядающей красотой, которая свойственна только самым высоким творениям человеческого духа, простирается пестрый и шумный Индокитай.
Павильоны, в которых представлены все богатства огромного края. Чуть ли не каждый вечер в этом отделении выставки давались спектакли или устраивались блестящие" приемы. Маленькие девочки-танцовщицы, изящные и желанные, в платьях "лунного блеска", воскрешали образы, запечатленные в скульптурах храма Анкор-ват. Суетились прислужники-аннамиты, с юных лет обученные низко кланяться белым и бояться их гнева. Подавались дымящиеся пряные индокитайские блюда и ледяное шампанское. Ярко горели лампионы, и пахло душными тропическими растениями. Атмосфера была совсем "колониальная"; в общем, не хватало только опиума. А среди черных фраков и светлых вечерних туалетов яркими синими, красными или золотыми пятнами мелькали облачения из шелка и парчи принцев индокитайских династий.
Главным комиссаром выставки был знаменитый маршал Лиотэ. Этот высокий, представительный старик долгие годы был повелителем Марокко. Его прозвали "строителем империй", потому что он упрочил французскую колониальную власть, и славили как самого искусного, твердого и в тоже время дипломатичного проводника французской колониальной политики. Вспоминаю его на одном из приемов на выставке в полной парадной форме, в эполетах и красной ленте Почетного Легиона через плечо, низко, буквально по пояс склонившегося, приветствуя какого-то индокитайского принца. Это должно было обозначать здесь для каждого – вот как Франция уважает местные порядки, традиции и власть. Оба прекрасно играли свою роль: маршал Франции, для которого этот властитель был пешкой, но пешкой, необходимой в сложной и рискованной колониальной игре, и принц, который надеялся, что при гаком этикете не зашататься массивному трону аннамского императора в его "Дворце совершенной гармонии" в Гуэ.
Так же компезно были организованы и североафриканские отделы выставки. И столь же роскошные устраивались в них приемы.
Раскрашенные флаконы с восточными ароматами источали благовония, смуглые руки проворно разливали турецкий кофе парижанам и парижанкам.
– Как хорошо! – умилялся французский буржуа, созерцая с террасы элегантного кафе Северную Африку, тщательно вычищенную, принаряженную и надушенную для его услаждения. – Как прекрасен Восток, наш французский Восток!
Проходя между двумя шеренгами алжирских спаги с саблями наголо, точеные лица которых дышали отвагой, приближенные султана Марокко в белых бурнусах до пят и тунисского бея в мундирах и фесках, паши, предводители племен и просто богачи феодалы дополняли своим медлительным шагом, важным видом и французскими орденами на груди общую картину мира, согласия и прочности, которые, по мысли организаторов выставки, должны были открываться посетителям в Венсенском лесу.
В павильонах Черной Африки французского буржуа опять-таки охватывало умиление. Какие нужные народы! Как хорошо, что французские колонизаторы извлекают из них такую огромную пользу!
В первую мировую войну более полумиллиона солдат из колоний сражались в рядах французской армии.
Кроме того, несколько сот тысяч туземцов были использованы как рабочие. Французский буржуа знал эти цифры: надежда приумножить их в следующий раз буквально пьянила его. Людские и материальные ресурсы колоний способствовали его спокойному сну в годы, предшествовавшие второй мировой войне, и, так как это было ему приятно, он крепко уверил себя в том, что размеры и богатства французской колониальной империи вполне компенсируют упадок французской великодержавности в Европе.
Во времена, о которых я вспоминаю сейчас, французский буржуа не предвидел освежающей бури, уже разрушившей ныне французскую колониальную империю, не предвидел, что уже не "дряхлый" Восток противостанет силам империализма, а – юный и решительный, сверкающий справедливым негодованием. Да и не мог предвидеть, так как ничего не хотел знать, что шло ему "против шерстки".
Приятно думать, что Францию обожают в колониях! А потому полезно прочесть, например, в словаре "Ларусс", что маршал Бюжо проявил себя в Алжире "просвещенным администратором". Но когда один из офицеров армии Бюжо, граф д’Эриссон, сообщает: "Правда, что мы привезли бочку, наполненную ушами, отрубленными у пленных", – об этом лучше и позабыть.
Это давние дела, но ведь последующие оказались еще ужаснее.
Колониальная выставка жестоко обманула французского буржуа, вернее – он сам пожелал обмануть себя этой выставкой. Ибо даже сам французский буржуазный суд утвердил формулу присяги, которая обязывает говорить не просто какую-то правду – это позволяло бы показывать лишь часть правды, а кроме того, ложь;– но "правду, всю правду, только правду".
И вот против этой формулы и погрешили коренным образом организаторы выставки, то есть те же французские буржуа. Впрочем, французские буржуазные правители грешили и продолжают грешить против нее решительно во всем.
Париж, 1934 год. Чудный летний вечер. На ипподроме Лоншан еще невиданный, грандиозный "праздник элегантности" – главнейшее событие всего сезона. Ночные скачки при электрическом свете, переливающемся серебром по зеленому лугу.
Небо в звездах, "весь Париж" в самых дорогих своих нарядах.
Море света, трепещущее среди окружающей темноты холодным, фосфорным блеском, море цветов, море цилиндров и фраков, море вечерних туалетов, белоснежных, золотистых, муаровых, море женских головок в сверкающих диадемах, море бриллиантов, рубинов и изумрудов на обнаженных плечах банкирских жен и маркиз.
Да, конечно, нигде, в Европе, а подавно в Америке не увидеть такого сочетания баснословной роскоши с изяществом, самым подлинным, которое создается для услаждения денежной знати многовековой парижской кузницей мод.
Не только скачки, но и пиршество: под навесом столы в цветах и блеск хрусталя – обед для самых избранных. Не только пиршество, но и бал: кружатся пары у подножия трибун, оглядываясь то на ложи, где президент республики, послы, министры, американские миллиардеры, английские лорды, индийские магараджи, то на далеко уходящих по кругу, бешено мчащихся лошадей, на которых поставлены миллионы.
И говор именно бальный: легкий, беспечный, не без злословия и с очередными сенсациями.
"Ах, какое восхитительное платье!" – "А вы слышали, у Зизи новый роман!" – "Не верю, мне Андрэ говорил, что такая женщина не может нравиться мужчинам!" – "Вы про Андрэ? Правда, что он нажил целое состояние на последнем крахе?" – "Не он, а брат его, Поль, чья жена в лучших отношениях с министром и который сам проводит все вечера у Мари-Клод". – "Кстати о Мари-Клод… Она недавно ездила в Берлин и познакомилась с Герингом, который преподнес ей колоссальный букет с запиской: "От первого летчика третьего рейха первой красавице Франции". – "Вздор, вздор, вздор! Я никогда не любила вашу Марн-Клод. Ведь такой человек, как Геринг, мог бы найти француженку и поумней и поинтересней!" – "Геринг? А вы слышали, будто что-то произошло сегодня в Германии? Мне знакомый диплома" только что говорил. Гитлер и Геринг раскрыли какой-то заговор. Масса убитых. И среди них генерал фон Шлейхер, с которым так дружил наш милый Франсуа-Понсе. Но это ловкий, – человек, он с самим Гитлером душа в душу и, я уверена, удержится в Берлине послом, кого бы там ни убивали!" – "Это главное… Но Гитлер? Вот бы нам такого правителя! Гений! Бедная Франция с ее бесцветными Лебренами да Думерами…." – "Позвольте, дорогая, а Петэн…"
То был последний июньский вечер, вечер страшного дня, когда по ту сторону Рейна, в "стране Нибелунгов", произошли кровавые трагические события. В этот день Гитлер, объявив себя высшим источником правосудия, лично руководил расправой, то есть расстрелом на месте – в кроватях, за утренним завтраком или среди сна, в министерских кабинетах, и клубных гостиных – всех, в том числе и самых близких ему персон, которых он заподозрил в недостаточной готовности к полному повиновению.
С этого дня власть Гитлера стала самодержавной, а сам он самодержцем, даже не божьей милостью, как былые монархи, а собственной, гитлеровской, божьей милости равной.
Угроза войны придвинулась еще ближе.
"Да, Петэн… Я ставлю на Петэна! Он и полковник де ла Рок – Ха-ха-ха, ведь политика – это те же скачки. Но обязательно с препятствиями!" – "Вот Гитлер и перескочил через все! Только бы нам не ссориться с этим человеком. Как ловко ликвидировал коммунизм! Но что поделаешь, когда у нас всем распоряжаются евреи да масоны…" – "А вот и мой муж, он тоже что-то слышал про Гитлера, но сейчас он очень зол, крепко проиграл, поставил на лошадь нашего дорогого барона". – "И вовсе нет! Ведь я сразу поставил на трех… Так-то надо и в политике… А каков Гитлер! Страшные дела, однако всех сокрушил! А в нашем министерстве иностранных дел, конечно, ничего не предвидели. Но в какое интересное время мы живем!.. Прямо замечательно!"
Женева, 1935 год. Первый акт фашистской агрессии совершен. Лига Наций обсуждает жалобу на Италию, вторгшуюся в Эфиопию.
Некогда в Лиге Наций царил Аристид Бриан, царил в том смысле, что все восхищались его красноречием. Так же царил там Поль Бонкур. Много лет подряд французские делегаты произносили в Женеве эффектные речи, награждаемые шумными аплодисментами делегатов других держав. Впрочем, этим дело часто и ограничивалось: англичане не удостаивались подобных оваций, зато слово их сплошь и рядом определяло исход голосования.
Францию представляет в Женеве делегат особого типа. Речи его не потрясают сердец, ораторский стиль достаточно бесцветен, вульгарен; от Бриана, к которому некогда был близок, он унаследовал главным образом дар закулисной интриги, но присовокупил к этому и кое-что свое: недоговоренность, двусмысленность, поиски темных путей. И в этом его сила: во французском парламенте и в Лиге Наций опасаются этого политического деятеля, так как не знают, что кроется за его внешней сговорчивостью, отсутствием резкости, извилистой предприимчивостью, – это Пьер Лаваль.
Во всем облике этого человека есть что-то ординарное, как буржуа полагает, "простонародное", но простым человеком его никак назвать нельзя – это по виду скорее внезапно разбогатевший конский барышник, любящий щегольнуть эксцентричностью, нелепым белым галстуком, например, над которым потешаются и в театриках Монмартра и на международных ассамблеях, или фамильярными заявлениями какому-нибудь чопорному иностранному дипломату: "Послушайте, старина, ведь мы с вами всего лишь маклеры!.."
Прямая его противоположность – изящнейший английский министр Антони Иден.
Я наблюдаю, как у двери в зал заседаний каждый из них предлагает другому пройти первым: Лаваль явно порываясь, но все же не решаясь похлопать Идена по плечу, Иден легким поворотом головы, с чуть заметной улыбкой показывая на дверь. Так стоят они друг против друга, а между тем, слегка вразвалку семенит к двери Литвинов: кивок Идену, кивок Лавалю – и, не задерживаясь между ними, первым входит в зал.
Советская делегация приковывает все мое внимание. Испытываю минутами то же чувство, как на польско-советской границе, когда не мог оторваться от арки с пятиконечной звездой и столбов, уходящих в родную даль. Так хотелось бы поговорить с этими людьми, ну хотя бы с А. М. Коллонтай, чтобы рассказать, как шестнадцатилетним мальчиком шел на ее квартиру, вот так же как сейчас, смутно желая найти общий язык с новой, неведомой мне Россией. Но между вами черта. Вышло так, что я чуть не перешагнул ее на миг.
В то время как я разговаривал в кулуарах с литовским посланником в Париже, мимо нас прошел Потемкин. Мой собеседник поздоровался с ним и вдруг ко мне: "Вы незнакомы?" Но в ту же секунду вспомнил, осекся и поспешил заговорить о другом.
Советская делегация привлекает не только мое, но и всеобщее внимание. И сознание этого мне приятно. Эфиопов жалеет здесь большинство, но жалеет как обреченных. Против Италии будут приняты санкции, но в их эффективность мало кто верит. Темный клубок интриг, где сразу не разберешь, кто за кого, чьи и какие затронуты интересы. Ну, например, польский министр иностранных дел, сухой и длинный как жердь, полковник Бек… В какой-то комиссии обсуждаются данцигские дела. Слушая Бека, можно подумать, что он нанят в качестве адвоката данцигскими нацистами, то есть злейшими врагами Польши. Лаваль говорит в кулуарах: "Если мы озлобим Италию, она бросится в объятия Германии!", но сам он, как и Бек, действует только с оглядкой на Берлин.
Правый французский журналист, поклонник фашистских авантюр, сообщает мне откровенно:
– Беда! Советская делегация занимает сейчас самую ясную и последовательную позицию. Она заявляет, что Советы против агрессии, и все знают, что это действительно так. Писать об этом, конечно, нельзя, но признать приходится. Позиция советской делегации очень сильна. Моральный вес ее все растет. И это чрезвычайно неприятный симптом.
Итак, агрессия была развязана.
Съездив по этому случаю в Рим, редактор "Возрождения" Семенов привез оттуда открытки, которыми одарил всех сотрудников газеты. Они изображали высокого курчавого мальчугана в черной фашистской рубашке, удовлетворявшего естественную потребность на разложенное у его ног торжественное постановление Лиги Наций о санкциях против Италии.
Глава 13
Перед экзаменом
Около десяти лет я был парламентским корреспондентом и несколько сот раз побывал в Бурбонском дворце, где заседала французская нижняя палата, палата депутатов, переименованная после войны в Национальное собрание.
Середина тридцатых годов…
С трибуны печати зал заседаний кажется человеческим муравейником. Лишь на крайнем левом секторе, на "горе", что под самой этой трибуной, устойчивость и сосредоточенное спокойствие. Правее, куда ни взглянешь, полукругом расходящиеся сиденья кишат ерзающими, суетящимися фигурками. Вот одна встала и снова опустилась на мягкую скамью, другая машет руками, третья семенит к выходу, четвертая только что вошла и хлопает сидящих по плечу, а То и по животу, что здесь означает приветствие. Шум разговоров часто заглушает ораторов, а внутреннее непрекращающееся движение создает впечатление чего-то зыбкого и, в общем, мало внушительного.
Под великолепным гобеленом блеклых зеленых и розовых тонов, который воспроизводит знаменитую композицию Рафаэля "Афинская школа", восседает председатель.
Это один из первых сановников республики. Прямо на него указывает с гобелена рафаэлевской Аристотель, а когда он следует в зал заседаний из своих роскошнейших апартаментов, выстраивается караул, бьет барабан и генерал, командующий охраной Бурбонского дворца, салютует ему шпагой.
Со своей вышки, сложного и парадного сооружения, именуемого на интимном парламентском жаргоне "насестом", председатель определяет своей персоной места, занимаемые фракциями. Важно здесь не как сидишь сам по себе, а как сидишь по отношению к этому человеку; такова парламентская традиция. А посему правым, например, восседающим по правую руку председателя, пришлось бы повернуться к нему спиной, если бы они захотели увидеть левых в самом деле налево от себя. Но это, конечно, мелочь, одна из условностей буржуазного парламентаризма, а реальные противоречия можно найти в нем и более существенные.
Внизу, как раз напротив председателя, скамьи членов правительства. Если голосование оказалось неблагоприятным для кабинета, министры, во главе с премьером, хмуро поднимаются с этих скамей и гуськом выходят из зала. Но пройдет несколько дней, и новые министры, из которых очень часто многие входили и в прежний кабинет, сядут на те же скамьи, и все пойдет по-прежнему, то есть будет проводиться все та же архибуржуазная политика.
Но зал заседаний открывает наблюдателю лишь официальную, показную сторону французского парламента. Зал "Потерянных шагов", где в углу стоит бронзовая группа Лаокоона, и зал "Четырех колонн" – преддверье его внутренней, так сказать, интимной жизни. С них, собственно, начинаются кулуары. Достаточно побыть несколько часов в этих залах, чтобы ясно ощутить кто на самом деле люди, которых официально принято называть правителями Франции.
В буржуазных странах есть банкиры и торговцы, есть военные и полицейские и есть политики, точнее – политиканы. Политика для буржуазии – это профессия, тем отличающаяся от прочих, что скрывает свою сущность.
Эта профессия совсем не требует от людей, как будто призванных управлять государством, знания государственной машины, умения руководить той или иной отраслью хозяйства или общественной жизнью страны. На это есть чиновники. "Министры проходят, чиновники остаются" – старая аксиома, на которой покоится французская буржуазная государственная машина. А чиновникам действительно все равно, служат ли они под начальством радикала, правого или социалиста: в конечном счете, это ничего не меняет.
Вот разразился министерский кризис. В кулуарах Бурбонского дворца непроходимая толпа парламентариев, журналистов и членов партийных комитетов. Много поучительного можно услышать здесь в такие дни.
– Вы знаете, – говорит, например, какой-нибудь парламентарий про своего коллегу, – он человек настойчивый: не теперь, так в другой раз непременно попадет в министры. С тех пор как начался кризис – не выходит из дому! Ждет звонка. А вдруг будущий премьер захочет дать ему портфель? Вот и сидит у себя и своим нетерпением буквально сводит с ума домочадцев.
Депутат, которого вызывает к себе лицо, формирующее кабинет, обычно не имеет понятия, будет ли ему предложено, например, возглавить министерство земледелия, морское или же общественных работ. Как правило, ни для одного из них у него нет соответствующей подготовки. Но опять-таки, как правило, он согласен на любой портфель. Решение же премьера зависит чаще всего от того, не зарится ли на данный портфель другой, еще более напористый и влиятельный парламентарий.
Быть дома, когда может вызвать будущий премьер, быть в кулуарах, когда там подготовляется какая-нибудь чреватая выгодными последствиями махинация, – это политика. Знать, когда надо откровенно голосовать против правительства, а когда выгоднее передать свой голос коллеге, который будет голосовать за доверие, но затем, уже после объявления результатов голосования, "уточнить" с занесением этого в протокол, что на самом деле хотел голосовать против, и, таким образом, высказаться против правительства, фактически не лишив его голоса, – это тоже политика. А главное во всей этой "политике" – защищать интересы финансовых групп, от которых зависишь, говоря неизменно об "общем благе", об "общей пользе" и о "великих идеалах" с таким видом и таким голосом, будто готов отдать за них жизнь. И потому адвокаты с сомнительной репутацией, краснобаи и плуты, всегда занимали во французском парламентском мире перворазрядное положение.
Как-то еще во времена Тардье и Лаваля социалисты обвинили министра Фландена, будущего премьера и будущего петэновского сотрудника, в том, что он связан с банками и выполняет их волю. Фланден поднялся на трибуну и чуть ли не в двухчасовой речи подробнейшим образом рассказал о финансовых связях и о зависимости от банков и трестов виднейших социалистов во главе с Леоном Блюмом. Произошел шумный скандал, который, естественно, ни к чему не привел, так как это была стычка всего лишь "для галерки": с глазу на глаз депутаты конкурирующих фракций, конечно, не обвиняют друг друга "в таких пустяках".
В зале "Потерянных шагов", всегда наполненном клубами табачного дыма, и в более интимном зале "Четырех колонн", где много мягких кушеток, депутаты буржуазных фракций чувствуют себя в своем кругу и ведут себя совсем непринужденно. Бывало, здесь Леон Блюм длинными цепкими руками обнимет за талию Пьера Лаваля, против которого только что "яростно" выступал с трибуны, и что-то зашепчет ему, лукаво улыбаясь из-под усов. Под руку, как лучшие друзья, крайний правый и радикал отправятся отсюда в парламентскую "пивнушку". Фракции здесь – не более как подразделения одного и того же соединения. И члены их – все "копэны", однокашники, которые друг с другом на "ты". Да, наконец, разве фракции – понятия, к чему-то обязывающие?… Вот этот, что был избран как социалист, отсел правее, когда оказалось, что хозяевам выгоднее и ему самому доходнее такое несущественное изменение в секторе профессиональной работы. А тот правый, по тем же причинам, примкнул к радикалам. Избирателей это не касается: выбрали – значит, дали бесконтрольную власть на целых пять лет!
Из всех моих парламентских воспоминаний вот, пожалуй, самое яркое, оставшееся на всю жизнь.
Я стою около небольшого окошка, перед дверью в буфет журналистов. Это окошко, скорее люк, выходит на мост через Сену и на площадь Согласия. Нас много тут, журналистов и депутатов, то и дело прибегающих на минутку из зала заседаний. И каждый из нас протискивается поближе, поднимается на цыпочки, жадно вглядываясь в вечернюю темноту и жадно прислушиваясь. Из этого окошко лучше всего видна площадь. Она вся полна народу, который стеной надвигается на мост, уже вступает на него с гулом и ревом. Вдали – языки пламени. Это горит подожженный дворец морского министерства. Людская стена все ближе, рев все громче. Около меня толстый депутат-радикал апоплексически краснеет и хватается за голову. Войска, охраняющие парламент, шаг за шагом пятятся на мосту. Люди оборачиваются, видимо ожидая подмоги. В свете фонарей мелькают их сумрачные лица, каски, карабины, ремни.
Я выхожу во двор без пальто, не чувствуя холода от нервного возбуждения. У главного входа, как раз против моста, молоденькие солдаты выстраиваются с ружьями на изготовку. Слышу, как один говорит: "Сейчас прорвутся, тогда все пропало!" На самом мосту какой-то водоворот: бегают офицеры, отдавая приказания, рев толпы то чуть удаляется, то снова прокатывается все ближе, и тогда слышится явственно: "Долой мошенников! Долой воров!" Взад и вперед, засунув руки в карманы, шагает перед палатой префект полиции Бонфуа-Сибур; скулы его судорожно подергиваются, глаза прищурены, шея втянута в плечи.
Это 6 февраля 1934 года. Фашистские лиги штурмуют Бурбонский дворец.
Возвращаюсь в палату. Из зала "Потерянных шагов" устремляются к выходу, тоже, очевидно, чтобы взглянуть на мост, какие-то депутаты с растерянными лицами.
В зале заседаний такой же гул и рев, как на мосту. Председатель социалист Бюиссон без устали потрясает звонком, лицо его багрово и выражает крайнее напряжение. На правительственной скамье различаю широкий затылок Даладье: премьер-министр сидит, опершись на локти и низко опустив голову. Сосед-журналист сообщает мне, что министра внутренних дел Фро только что вызвали из зала: он выбежал, возбужденно размахивая руками. На трибунах для публики разгоряченные лица дам и господ из "всего Парижа". Вижу, как кто-то из них показывает плакат с огромной надписью: "Я не депутат". "Когда ворвется толпа, всюду замелькают такие надписи! – говорит мне тот же сосед-журналист, сотрудничающий в правых газетах и вполне сочувствующий такому обороту событий. – Вы заметили, как перепуганы на левых скамьях? Сегодня французскому парламенту конец!"
Но вот в зал вбегают несколько депутатов: одни устремляются к Даладье и что-то говорят ему наперебой, другие спешат на правый сектор, и вокруг них тотчас образуются возбужденные группы.
Затем правые депутаты Скапини, Анрио, Валла – все будущие вишисты, коллаборационисты – подступают к Даладье, а за ними еще другие из тех же правых фракций, из тех же лиг, которые хотели свергнуть в этот день парламентский строй.
Под непрекращающийся звон председателя они кричат, обращаясь к главе правительства:
– Вы дали приказ стрелять?
– Как вы смели!?
– Убирайтесь вон!
Даладье молчит, все так же опустив голову.
Еще несколько минут перед тем охваченные смятением, радикалы и социалисты устраивают бурную овацию премьеру. На лицах ясно читаешь: "Ура! Мы спасены!"
Открыв буквально в последнюю секунду огонь на мосту, подвижная гвардия остановила толпу, уже почти прорвавшуюся к главному входу. Фашисты бежали. Но вслед за ними ретировался и радикал Даладье. Только могучая контрдемонстрация трудящихся и всеобщая забастовка, охватившая более четырех с половиной миллионов рабочих, предотвратили в последующие дни установление авторитарного режима.
Событиям 6 февраля предшествовало раскрытие грандиозного мошенничества, "героем" которого был некий выходец из России Стависский. Действуя через подставных лиц, Стависский разместил акции Байонского муниципального ломбарда на колоссальную сумму, никак не соответствовавшую реальному значению этого довольно скромного предприятия. При аресте Стависский погиб. "Покончил самоубийством", – гласило официальное сообщение; "Убит тайной полицией по приказу премьер-министра Шотана, боявшегося разоблачений", – писали правые газеты.
Дело это было замечательно тем, что оно раскрывало пружины коррупции при парламентском строе, всю ее, так сказать, технологию.
Почему, например, такая-то газета, пытавшаяся кое-что сообщить об аферах Стависского, вдруг прикусила язык? А потому, что предприятие, которое контролировал Стависский, начало помещать объявления в газете за плату, вскоре составившую основной доход этого органа "свободной демократической мысли".
Почему ряд сотрудников Стависского были в свое время привлечены к уголовной ответственности, но дела их в суде постоянно откладывались, так что все они могли продолжать свою деятельность? А потому, что защитником их выступал сенатор-радикал Рене Рену, неоднократно занимавший пост министра юстиции. Рене Рену судили затем за сообщничество, по суд его оправдал, В самом деле, формально состава преступлении не было в его поступках. В адвокатской мантии, значит в качестве адвоката, он являлся к судье и просил его по таким-то и таким-то причинам отложить слушание дела своего клиента. Никакого давления он при этом не оказывал, ничего не говорил, что выходило бы из рамок его профессиональных адвокатских обязанностей. Но мог ли судья устоять перед человеком, который, когда был министром юстиции, назначил его на этот пост и от которого, когда он снова станет министром, опять будет зависеть его карьера?
Почему липовые акции Байонского ломбарда приобретались рядом предприятий, близко связанных с государственной машиной? А потому, что соответствующие ведомства рекомендовали их приобретение. Почему рекомендовали? А потому, что во главе этих ведомств стояли лица, занимавшие в предприятиях самого Стависского различные фиктивные должности (например, юрисконсульта), за что и получали огромные оклады, причем обязанности их сводились только к такого рода рекомендациям.
Характерным во всех этих подробностях было именно отсутствие формального состава преступления. Получалось так, что самая власть, ее методы и организация таили в себе состав преступления. Благодаря делу Стависского это вдруг стало ясно всем. Да, всем!
В этом отношении дело Стависского ярко напомнило мне распутинщину. Точно так же, как иные сановники империи не стесняясь бранили тогда царя и царицу за потворство "темным силам" и объявляли, что самодержавие сгнило, ныне сановники Третьей республики открыто говорили, что парламентский строй превратился в помойную яму. При этом, подыскивая прецедент в отечественной истории, они ссылались на знаменитое дело "ожерелья королевы", непосредственно предшествовавшее революции 1789 года, дело, в результате которого оказались забрызганными грязью и королевский скипетр и архипастырский посох.
На выборах 1936 года победил Народный фронт, в котором самой динамической силой были коммунисты. Таков был непосредственный ответ французского народа на коррупцию буржуазного строя, на события 6 февраля.