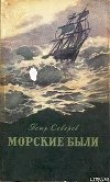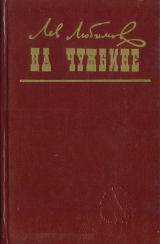
Текст книги "На чужбине"
Автор книги: Лев Любимов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 27 страниц)
В огромный город стали возвращаться жители, но жизнь в Париже не наладилась.
Вскоре начались продовольственные затруднения: все шло на вермахт. Захват Англии откладывался, из чего буржуа-краснобаи заключали, что немцы выдохлись и Англия вот-вот спасет Францию от их владычества.
В кино, кажется уже на второй месяц оккупации, я был свидетелем едва ли не первой антигитлеровской демонстрации: когда на экране появились кадры немецкой кинохроники, в темноте раздались шиканье и иронические возгласы. Кинохронику стали с тех пор показывать при полусвете.
Фашистский сапог был пока что на мягкой подошве, но Франция начинала ощущать всю его тяжесть. Все оказывалось задавленным: национальная гордость, живая мысль, сама жизнь. Внешняя корректность победителей уже не скрывала фашистского высокомерия, надменности, презрения к побежденным.
И одновременно чувства французов проявлялись все смелее и все откровеннее.
Как-то на улице ко мне подошел немецкий солдат, откозырял и молча протянул листок бумаги, на котором было написано по-французски: "Если вам не противно, объясните этой скотине, как пройти на такой-то вокзал"…
Шли месяцы. Наступила зима без топлива. Как и в дни "странной войны", Париж охватило смутное нервное ожидание. Один и тот же вопрос вставал для парижан, для всей Франции, для Европы, для всего мира, в том числе и для нас, потерянных в вихре событий, не знающих больше, за кем и куда идти, русских людей, лишившихся родины: что дальше?
Глава 3
22 июня
К концу первой половины июня 1941 года в Париже распространились странные слухи. Общий смысл их сводился к следующему: что-то очень важное не то готовится, не то уже происходит на востоке Европы.
Передавались три версии. Согласно первой, наиболее распространенной, Германия получила от Советской России согласие на прохождение через Кавказ большой армии, которая, действуя одновременно с африканским корпусом Роммеля, должна взять в клещи англичан и сокрушить позиции Британской империи на Ближнем Востоку и в Северной Африке. Согласно другой, Советский Союз "передавал" Германии на время войны хлебные ресурсы Украины с правом для Германии не то оккупировать всю Украину, не то "контролировать украинскую экономику. Наконец, согласно третьей, Советский Союз отклонил такие требования Германии относительно Украины, однако этот отказ носил чисто формальный характер, и германская армия уже вступила на Украину, не встречая сопротивления.
Слухи эти передавались и французами и русскими. Слышал я их также в Париже от итальянцев, венгров, румын. Люди, как-то разбирающиеся в политике, понимали их нелепость, но придавали значение той настойчивости, с которой они распространялись, указывая, что они пущены, очевидно, не зря.
После нападения Германии на Югославию многим уже стало ясно, что в германо-советских отношениях образовалась трещина. Однако всего за несколько недель до 22 июня один из лидеров французских коллаборационистов Марсель Деа, особенно выдвигаемый немцами и наиболее авторитетно выражающий их точку зрения в печати, выступил со статьей в которой доказывал незыблемость германо-советского договора.
В эти годы я жил вместе с родителями. Мой брат, женатый на английской поданной, покинул с семьей Париж до прихода немцев и затем перебрался на родину жены – в Индиго. Моя мать была поглощена работой по управлению созданным ею большим домом-убежищем для престарелых соотечественников. Мой отец же, написавший в эмиграции интересные воспоминания о первой революции, давно уже отошел не только от политики, но как бы и от самой жизни. Лет ему тогда уже было под восемьдесят.
Было еще совсем рано, когда меня разбудил голос моей матери, спешно звавшей меня к себе. Она сидела у радиоприемника, и я сразу же по ее лицу понял, что произошло что-то исключительное, огромное.
– Немцы начали войну с Россией – быстро сказала она. – Сейчас передавали речь Геббельса.
В эту минуту мне послышалось всхлипывание. Я не заметил, что вслед за мной вошел мой отец. Он стоял в дверях и судорожно крестился, повторяя сквозь слезы:
– Господи! Господи! Спаси Россию!
Я не знаю, как бы он реагировал на это известие, если бы был на двадцать лет моложе. Он уже не интересовался происходящим, но слова моей матери, очевидно, дошли до него во всем их точном и страшном смысле: немцы напали на Россию! Накипи многолетних эмигрантских расчетов в нем уже не было никакой. В этот час он помнил только одно: он русский.
В памяти своей я сохранил навсегда образ отца (он скончался в следующем году), каким он запечатлелся тогда вместе со старческим всхлипыванием и мольбой:
– Господи, спаси Россию!
Тогдашний советский посол во Франции А. Е. Богомолов рассказывал впоследствии на собрании новых советских граждан, как 22 июня к нему в Виши явился русский эмигрант молодой князь Оболенский с просьбой отправить его в Красную Армию, чтобы защищать отечество, каковой просьбы посол не мог выполнить, не зная, как с ним самим поступит правительство Петэна.
В Париже другой русский эмигрант, служащий у немцев шофером, не вышел 22 июня на работу. Немцы потребовали у него объяснений. Он заявил, что не большевик, но так как немцы напали на его отечество, он не может дольше служить у них. Остался непреклонным, как немцы ни уговаривали его изменить свое решение. Тогда они арестовали его и посадили в бывшую французскую военную тюрьму Шерш-Миди, где Он и умер, кажется, через год. К сожалению, я не помню фамилии этого твердого духом русского человека.
В ночь на 23 июня русский эмигрант Крылов, тоже шофер по профессии, а в прошлом полковник, человек угрюмый и одинокий, застрелился из старого русского нагана, сохраненного еще с гражданской войны. Оставил письмо, в котором заявлял, что жить больше нет смысла: если старая Россия не была способна один на один бороться с Германией, то где уж Советской России выдержать ее натиск! Писал, что все кончено, так как вермахт разгромит Красную Армию, Россия будет навсегда уничтожена как государство, а русский народ обращен в рабство.
Страшное известие меня ошеломило, как бы придавило все мое существо. Вместе с отцом я повторял мысленно; "Господи, спаси Россию!" Но старая накипь эмигрантских прогнозов, оценок, расчетов мутила мое сознание. Всю жизнь я верил твердо, упрямо, безоговорочно в величие своего народа, своей страны, и эта вера – утверждаю это – была всегда неотделима от моего существа. Но свой народ и страну я считал ослабленными, сбившимися с пути. И потому лишь подсознательно, едва слышно, никак не фиксируясь, проскальзывала мысль; а вдруг устоит перед непобедимым вермахтом эта новая неизвестная мне, загадочная Россия? И уже тогда на миг становилось ясно: если устоит, значит, правда на ее стороне. Но логические выводы из всех предпосылок, утверждавших эмигрантское сознание, слишком отчетливо говорили о другом.
…Значит, мою родину ожидало страшное, кровавое испытание, дымы пожаров, попрание ее гордости, ее культуры, всего ее национального бытия алчным врагом, который, конечно, проявит себя беспощадным. Но каюсь, и в этот день и еще в течение некоторого времени подлинный патриотизм не определял еще моего сознания. Решительный перелом произошел во мне не сразу, а в результате сложной, хоть и сравнительно быстрой эволюции, о которой я расскажу подробно.
Во дворе русской церкви на улице Дарю всегда в воскресенье толпа. Сюда приходят как в клуб. Но в это воскресенье народу было вдвое больше, чем обычно: людям хотелось быть вместе в такой час. Когда я подоспел туда, кое-кто уже слышал по радио сообщение советского правительства и знаменательные слова: «Наше дело правое… Победа будет за нами» – передавались в толпе.
Итак, церковный двор был полон русскими эмигрантами, то есть людьми, в большинстве своем полагавшими много лет подряд, что война с СССР будет знаменовать крушение большевистской власти, той власти, которую они не хотели признать и против которой некогда боролись с оружием в руках. Были среди них ликующие, некоторые даже целовались на радостях друг с другом, но они составляли ничтожное меньшинство. Общее настроение, то самое, что и я ощущал в себе, выражалось тревогой, которая сильнее и убедительнее всех рассуждений вошла в душу людей. Мало кто говорил, понимая, что словами не выразить своих переживаний в такие минуты.
"Что будет с Россией?" – вот вопрос, который впился клещами в сердца очень-очень многих из нас. Впоследствии произошло расслоение, и каждый нашел какую-то формулировку для своих дум, опасений и надежд. Но в это воскресенье, 22 июня, я наблюдал, ощущал некое единство – единство тревоги.
Вернувшись домой, я узнал по телефону об аресте русских. Несколько сот человек было задержано немцами и в качестве заложников отправлено в лагерь Компьен, недалеко от Парижа. Чем в точности руководствовались немцы при этих арестах, сказать трудно, много в то время гадали на эту тему, но так и не добрались до истины, Впрочем, быть может, и гадать было нечего: немцы попросту пожелали иметь у себя под рукой в качестве заложников представителей самых различных эмигрантских течений. Были арестованы профессор Д. М. Одинец, И. И. Бунаков-Фундаминский, И. А. Кривошеин, занявшие еще до войны патриотическую позицию. Но попали в Компьен и белогвардейские вожаки, даже лица, известные своим германофильством. В числе заложников оказались граф С. Игнатьев, по-видимому потому, что был братом советского генерала; В. Красинский, сын великого князя Андрея Владимировича и М. Ф. Кшесинской, тоже занявший патриотическую позицию, но кроме них генеральный секретарь РОВСа полковник Мацылев да бывший начальник штаба Врангеля генерал Шатилов, всегдашний сторонник вооруженной акции против Советов.
А в так называемой "свободной зоне" полиция Петэна перестаравшись, задержала 22 июня чуть ли не всех русских эмигрантов.
Обычно парижане очень неохотно читали газеты, выходившие под немецким контролем, но в этот день у киосков стояли длинные хвосты. Весть ведь была потрясающая, грандиозная – каждому хотелось узнать все подробности хотя бы из вражеского источника.
Многие французские друзья звонили мне в тот день.
В их голосе я чувствовал радость двойную, все удобнейшим образом согласующую: у немцев новый противник – значит, что-то существенно изменилось в пользу Англии, "от которой придет спасение", и этот противник – советский коммунизм, по которому ненавистные немцы (они только на это и годятся) нанесут "спасительный для европейской цивилизации" удар. Я слушал, угадывал мысли говоривших, отвечал нехотя и вешал трубку с чувством, что физически не могу разговаривать "об этом" с изощренно расчетливыми иностранцами. Что-то свое, глубокое, сокровенное мучило, волновало меня – и весь их мир был для меня уже чужим.
Глава 4
Вопреки прошлому
Да позволит мне читатель отвести первое место в этой главе своим личным переживаниям, тон эволюции, которая наполнила новым содержанием всю мою дальнейшую жизнь. Эта эволюция определялась событиями и людьми и потому, как мне кажется, представляет общественный интерес.
Уже 23 июня гитлеровская ставка объявила, что не будет сообщать до поры о ходе военных действий на Востоке, дабы… не давать противнику сведений о продвижении германской армии. При этом пояснялось, что противник дезорганизован и уже не ориентируется в обстановке.
В следующие дни из немецких источников стали распространяться самые сенсационные слухи. Вермахт, дескать, одерживает полную победу! Передавались слова, будто бы сказанные бравым генералом Ганессе, командующим германскими воздушными силами Парижского района и главным дамским угодником в коллаборационистских салонах:
– Война продлится четыре недели, а то и меньше.
Настроение, которое я наблюдал в церковном дворе в день 22 июня, по-прежнему было характерно для эмигрантской массы. Зато в некоторых так называемых "светских кругах" эмиграции началось бурное ликование.
…Я сижу у Горчаковых – у внука канцлера, зубра-маньяка, о котором я уже говорил, и жены его, дочери знаменитого некогда сахарозаводчика Харитоненко, простого крестьянского сына, нажившего колоссальное состояние и построившего себе против Кремля, на Софийской набережной, дом-дворец, где ныне помещается английское посольство.
Горчаковы – мои соседи в Нейи. У них большая квартира со старинной мебелью, ценными картинами! какая-то часть горчаковского состояния всегда была за границей. Это люди гостеприимные, общительные, я часто бываю у них, играю в бридж, воспринимая в общем как буффонаду политические разглагольствования хозяина. У них в этот день много народу, и все ликуют. Самого Горчакова разбирает прямо-таки телячий восторг, От какого-то русского, служащего в немецком учреждении, он узнал, будто офицеры вермахта характеризуют следующим образом обстановку на фронте: "Советские войска так бегут, что мы едва поспеваем за ними".
Горчаков повторяет в десятый раз эту фразу, смакует каждое слово и добавляет!
– Конец! Конец! Конец! Можете считать, что уже нет большевиков.
Я не располагаю никакими данными, опровергающими его информацию. Но мне не хочется верить такой оценке, и слова его режут мне сердце.
А между тем Горчаков последователен в своей радости, мое же уныние только удивляет собравшихся. "Малейший удар извне – и все там разлетится как карточный домик", – так ведь твердили из года в год и Семенов, и Муратов, и Головин, и тот же Горчаков. Я так не говорил, но сотрудничал в органе, где это проповедовалась как аксиома. И вот как будто сбывается… В самом деле, почему бы Горчакову не ликовать? Но мне тягостно и неприятно его слушать.
– Гений! Гений! Гений! – вопит про Гитлера Горчаков. – Наведет настоящий порядок! Никакой демократий! Не даст разгуляться какому-нибудь Милюкову, Настало наконец наше время! Воспользуемся благами гитлеровской власти, а там и сами возьмемся за руль.
Ясно, что, если немцы восторжествуют, с ними придется считаться и в то же время хитрить, "ловчиться", чтобы дать русскому духу пробиться сквозь путы тоталитарной гитлеровской власти. Но все это меня не радует. Я допускаю такую возможность лишь как печальную необходимость. И потому восторг Горчакова опять-таки коробит меня, оскорбляет.
Затем, поддержанный гостями, Горчаков говорит серьезнейшим тоном, как о чем-то само собой разумеющемся, что скоро во владение землей, заводами и домами вступят вновь их "законные владельцы", то есть они, Горчаковы, Харитоненко и другие еще, здесь присутствующие.
Я ввязываюсь в спор, неумный, мучительный, так как почти ни одно мое слово не доходит до тех, у кого даже глаза заискрились от таких радужных перспектив. Говорю, что вряд ли возможно совершить новую социальную революцию. Земли и заводы отняты уже более двадцати лет, в их эксплуатацию вложено столько новых средств и сил, что претензии прежних владельцев были бы уже юридически неоправданны, противны здравому смыслу. С другой стороны, можно как-то понять, что помещик, с юности занимавшийся сельским хозяйством, упорно считал себя прирожденным хлеборобом. Но разве годится для этой важнейшей социальной функции какой-нибудь парижский приказчик, шофер или профессиональный танцор, если даже отец его и владел в России землей? Да, наконец, зачем Гитлеру так стараться для русских эмигрантов? Уж скорей всего он поделит земли и предприятия между своими людьми…
Только последний довод как-то задевает Горчакова.
– Поймет, поймет, Гитлер все поймет! – кричит он. – Ведь у большевиков не осталось и следа культуры. Там нет по-настоящему образованных людей. Такие, как мы будут редкостью, уникумами. Без нас не обойтись! Итак, милости просим на Софийскую набережную. Попросторнее будет, чем здесь…
Я прекращаю, спор, вспомнив, что Горчаков уже пробыл некоторое время в доме для душевнобольных. Однако прочие гости выражают полное сочувствие его словам.
Пусть Горчаков и был в своем роде живой карикатурой. Надежды, соображения, расчеты, которые он высказывал, еще долгое время пьянили воображение наиболее тупых и алчных эмигрантов из бывших помещиков и капиталистов.
Не менее недели гитлеровское командование медлило с официальным сообщением о положении на фронте. Тем временем слухи становились все сенсационнее: Красная Армия бросает оружие, дороги на Москву, Ленинград и Киев открыты!
Наконец все было объявлено "гуртом", причем специальную радиопередачу немцы обставили с особой торжественностью.
Бравурная музыка, марши и затем краткое сообщение: "Такого-то числа наши войска заняли такой-то город". Затем опять бравурная музыка, марш – и новое сообщение: "С такого-то числа по такое-то нами сбито столько-то самолетов". И так в течение получаса о захваченных городах, прорывах, трофеях. Что и говорить, картина получалась внушительная: продвижение было быстрое, занятые территории обширны, успех несомненен. И однако ни о каком "все рассыпалось, разлетелось в прах" говорить не приходилось. Было ясно, что сопротивление не сломлено, Красная Армия оружия не бросает и никакие дороги не открыты. За первую неделю боев на французском фронте гитлеровская армия добилась куда больших результатов. Правильного вывода я еще не сделал из этого, но ясно помню, как чувство национальной гордости стало постепенно наполнять мою душу.
В тот же день я случайно встретил генерала Головина, рассуждения которого о водопаде и дикарях в свое время произвели на меня известное впечатление.
– Да, да, внимательно проштудировал немецкую сводку, – сказал этот бывший штабной генерал, профессор, автор многих трудов, которого в эмиграции, да и в некоторых французских кругах считали выдающимся военным ученым. – Не верю тому, что они сообщают о сбитых советских самолетах.
Я был искренне удивлен, услышав из его уст такое суждение. Головин многозначительно взглянул на меня я тонко улыбнулся:
– Советские летчики массами перелетают на их сторону, вот и всё!
Поняв, что я изумлен еще более, он добавил с глубокомысленным видом:
– У Гитлера тут свой политический расчет, на мой взгляд, неверный. Ему, как я полагаю, хотелось бы доказать, что разгром Красной Армии – результат не антисоветских настроений русского народа, а всесокрушающей мощи германской военной машины. Ничего! Немцам все равно придется считаться с этими настроениями…
Я даже не нашел что ответить, однако подумал: "Какая ахинея!"
А между тем Головин вовсе не был дураком. Очевидно, как специалист военного дела он еще лучше меня понял, что немецкое официальное сообщение опрокидывает все классические эмигрантские прогнозы, но, не имея мужества даже самому себе в этом признаться, предпочел переиначить гитлеровскую сводку на свой лад.
Через месяц, а может быть и больше, мне пришлось беседовать с писателем Борисом Зайцевым. Мы сидели в опустевшем при немцах помещении газеты "Возрождение" и обсуждали положение на фронте. К тому времени уже не могло быть никакого сомнения, что идут тяжелые бои и что Красная Армия оказывает упорное сопротивление. Но, теребя бородку и нежно поглаживая тщательно зачесанные волосы, Борис Зайцев как-то задумчиво, неопределенно откликался на мои слова.
– Да нет же, нет же, – вяло говорил он, – это только фикция отпора, фикция сопротивления. Ох, не верю я в новую отечественную войну. Где уж нам, русским, задерживать вермахт!
Головин и Зайцев были людьми различной формации. Первый и видом и убеждениями выкристаллизировался как продукт, дворянско-гвардейский, петербургский, при этом высшего сорта – с работоспособностью, начитанностью, даже ученостью. Второй представлял верхние слои московской либеральной интеллигенции. Первый питал симпатии к авторитарным формам правления, второй считал фашизм явлением варварским и преходящим. И тем не менее оба представляли старую Россию, пусть и в разных ее аспектах. А потому оба явно не верили в наличие мужественного, волевого, организующего начала у советского народа.
Эти два разговора мне показались особенно типичными, но я мог бы привести еще множество подобных бесед с людьми старого мира как имперской, военно-бюрократической, так и интеллигентской традиции. И вот первое новое убеждение, которое принесла мне война, сводилось к следующему: мы, люди старого мира, мы, бывший правящий класс России, не были бы способны руководить народом в войне с таким могучим противником, как Германия. Значит, мы больше не годились для правления, и хорошо для России, что революция заменила нас другими людьми. Да, будь мы у власть, Россию ожидала бы в этой войне участь Франции, ибо мы выродились, измельчали. Румянцевы и Суворовы уже были для нас только далекими предками.
Шли недели, месяцы. Я думал об этом много, думал иногда целые ночи, уходил в себя, подвергая почленно новой оценке исторические события, явления, которых я был свидетелем в жизни. И теперь я уже решительно отбрасывал то положение, будто Россия ослаблена революцией. Но ясности, твердого вывода еще не было в моем сознании.
Париж. Одна из первых ночей декабря 1941 года. На улице ни одного огня. Тихо. В комнате лишь бледное пятно света: диск радиоприемника. «Говорит Москва! Говорит Москва!» Слушающий наклоняется к аппарату: звук слишком силен, услышат соседи, услышат на улице этот язык и эти слова! Вот теперь хорошо – словно шепот, но четко звучит каждое слово на короткой волне. Что принесет она этой ночью? Что долетит по эфиру оттуда, сначала сквозь стены, затем сквозь просторы и ночь, и снова сквозь стены сюда, к уху слушающего?
Вот отчет корреспондента, который где-то на фронте разговаривал с генералами тотчас после военного совета. Голос оттуда звучит спокойно, совсем по-обычному: на этом совете обсуждались меры по скорейшему изгнанию немцев из-под Москвы. У слушающего что-то дрогнуло в груди, и бледный свет радиоприемника как-то странно замигал, расплываясь и теплея. Москва спасена! Да, спасена, раз там так уверенно, так спокойно говорят о ее судьбе. Он сидит здесь, в этой парижской комнате, бессильный, тайно, с "опаской" слушающий голос Москвы, но слезы роднят его с теми, кто в этот миг сражается за нее в огне и снегу. И с теми роднят они его, – кто пал за Москву прежде в такую же страшную годину.
Год 1812-й перекликался с 1941-м:
"Ребята! Не Москва ль за нами? Умремте ж под Москвой, как наши братья умирали!"
И – "Велика наша страна, а отступать некуда: позади Москва".
Таким, с такими думами, переживаниями ясно помню себя. То лучшее, что есть в каждом человеке, пробуждалось тогда во мне.
– Я всегда это угадывал, – как-то говорил мне в ту пору Семенов. – В вас никогда не было настоящей ненависти к большевизму. Вот и докатились до того, что желаете победы большевикам!
И такое его суждение мне было приятно.
Первым этапом моей эволюции было признание того, что, раз не "рухнуло все", раз, обливаясь кровью, новая Россия обороняется изо всех сил, значит, эмигрантские суждения, будто все советские достижения – блеф и будто советская власть – искусственное, неорганическое явление, оказались ложными в корне.
Некоторые это поняли раньше меня, другие позже, третьи, из категории законсервированных или лишенных нравственного мужества, так и не поняли и продолжают мыслить и сейчас, как в 1918 году.
Но мне надо было пройти еще один этап, особенно трудный, потому что в нем предстояло преодолеть расчеты и установки, как-то перекликающиеся с настроениями моих юношеских лет.
"Защищают не власть, а родину; Россию, а не коммунизм…" Вот такие суждения стали распространяться в эмиграции вместе с надеждой, что волна патриотизма, поднятая войной, обернется против самой власти. Это был старый тезис Деникина, младороссов. На таком представлении, на этой оценке событий застряли многие из признавших, что социальные завоевания революции и экономическое ее строительство выдержали испытание и укрепили Россию.
Но я не застрял. Каждую ночь я слушал советское радио, слушал все, стараясь постичь тот подлинный дух, который направлял борьбу моего народа. И мало-помалу мне становилось ясно всем нутром, всем сознанием, что русские люди защищают свою страну под знаменем революции, под знаменем коммунизма, более того, что сила их в той идее, которую они утвердили первыми в мире.
Я думал: "Их дело правое, а значит – и их идея. Да, та самая идея, которую я не хотел признавать годами, от которой отворачивался упрямо, так и не постаравшись вникнуть в ее смысл".
Этот вывод, ставящий крест на всем моем активном прошлом, но проясняющий наконец сомнения былых лет, естественно завершающий все, что отталкивало меня подсознательно от мировоззрения эмигрантских вожаков, подкреплялся примером Франции.
Движение Сопротивления разрасталось в стране. В Париже по ночам стреляли в германских офицеров. Прокламации, листовки, зовущие к борьбе, распространялись по городу. В этом движении участвовали все слои общества, но главенствовал пролетариат. Чувствовалось, что какая-то здоровая сила рвется наружу, обновляя нацию в борьбе. Передавали, что сами нацисты поражены геройством расстреливаемых ими французских коммунистов. Значит, Франция – не выродившаяся страна, как я думал, и для нее благотворна обновляющая идея, та самая, что спасает сейчас мою родину от фашистских поработителей.
Да, не сразу далась мне эта правда. Только торжеством ее в грозную годину подкреплялось во мне новое сознание, Поэтому хвалиться мне нечем. И все же, когда вспоминаю о многих людях, с которыми протекала моя общественная жизнь, мне отрадно думать, что я нашел силы переломить в себе прошлое.