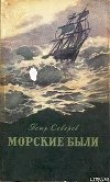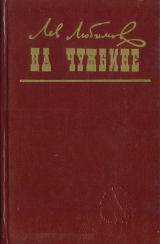
Текст книги "На чужбине"
Автор книги: Лев Любимов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 27 страниц)
Глава 11
Перед роковым часом
Эмиграция ведь потому и была эмиграцией, что не приняла революции.
И вот в Испании вспыхивает длительная война. Эта война воспринимается всюду как событие мирового значения, как борьба двух начал, как схватка между старым миром и новым. Гитлер и Муссолини открыто поддерживают Франко. Германские и итальянские фашистские части отправляются в Испанию; одновременно из разных стран туда же едут добровольцы, чтобы поступить в интернациональные бригады, которые вместе с испанскими демократами борются против фашизма. На страницах печати, на всевозможных собраниях вожаки эмиграции кадят Франко, заявляют, что он продолжает дело Корнилова и Врангеля, что вся русская эмиграция желает ему успеха и готова ему помочь.
Логика на их стороне. Логика, но не факты. Да, русская эмиграция почти целиком детище белых армий. Да, испанские генералы совершают у себя то же дело, которое не удалось русским белым генералам. Но вот русские эмигранты, поклонники Франко, от слов перешедшие к делу, исчисляются единицами. Поехали к Франко казачий генерал Калинин, которому надоело работать в Париже у станка, еще несколько человек, и всё! А число русских эмигрантов, поступивших в интернациональные бригады и в их рядах проливавших свою кровь за демократию, против фашизма, против Франко, против Гитлера и Муссолини, – число таких эмигрантов, некогда покинувших родину как раз потому, что они отказались тогда принять демократию и социализм, достигает несколько сотен.
– Черт знает что! – изумлялся Гукасов. – Думаю, думаю и никак не пойму, как это могло получиться. Русские эмигранты, а сражаются за революцию.
Да, сражались за это дело и умирали за него.
Подвиг их ожидает еще своего историографа. Некоторые из этих людей сейчас в Советском Союзе: Н. Н. Роллер, который работает в Москве (гардемарин старого флота, получивший в интернациональных бригадах звание лейтенанта испанской республиканской армии), товарищи его Д. Г. Смирягин и Г. В. Шибанов (тоже бывшие гардемарины), П. П. Пелехин, А. В. Эйснер, К. В. Хенкин, сражавшиеся против Франко в партизанских отрядах, и другие.
Пал в Испании за демократию бывший царский артиллерийский офицер Глинаевский. Пал геройской смертью русский эмигрант Лидле, работавший в Париже шофером такси и потом занимавший в Интернациональной бригаде должность, комиссара. Республиканская Испания почтила его память, выбив золотую медаль и послав ее затем в Париж для передачи через Всеобщую конфедерацию труда его дочери. Вместе с этими людьми пали многие другие, которых я не знал, подвиг которых мне тогда не был понятен и перед чьей памятью я преклоняюсь теперь.
В "Общевоинском союзе" старые генералы буквально рвали на себе волосы.
– Какой стыд! А мы-то столько лет уверяли наших иностранных единомышленников, что можем в любой момент выставить целую армию кадровых офицеров!
Отметим знаменательное явление: уже давно в эмигрантских "низах", то есть среди трудовой эмиграции, начали проявляться настроения, совсем не соответствующие идеологии белых генералов и "Возрождения". Пока эмигрант ощущал себя прежде всего представителем того класса, к которому он принадлежал в России, лишь "временно", в силу обстоятельств, начавшим во Франции трудовую жизнь, – он мыслил не как член своего трудового коллектива, а как бывший участник белого движения и в соответствии с этим ревностно посещал "Союз галлиполийцев" или "Объединение первопоходников". Но вот в 1936 году торжество Народного фронта на выборах всколыхнуло всю Францию. Трудящиеся добились некоторого улучшения своей участи. Русские рабочие во Франции тоже выиграли от этого, но в массе своей все еще оставались в стороне от движения, охватившего их французских товарищей. Работая у станка, бывший корниловский офицер мыслил примерно так: "Очень хорошо, отныне я буду пользоваться оплачиваемым отпуском, социальным страхованием. И очень хорошо, что все это произошло" без моего участия в стачках и демонстрациях. Не действовать Же мне заодно с пролетариями!" Но он мог так рассуждать лишь потому, что за его кровные интересы боролись другие.
А вот как он поступил, когда жизнь заставила его выбрать между коренной своей идеологией белогвардейца и своими же насущными потребностями трудящегося.
Коллектив наборщиков и типографских рабочих "Возрождения" состоял в большинстве своем из бывших белых офицеров, среди которых были и самые махровые зубры. Рожденное Народным фронтом новое законодательство предоставляло им более высокую зарплату и обязывало работодателя заключить с ними коллективный договор. Ознакомившись с текстом нового закона, Гукасов заявил категорически:
– Я своей пишущей братии плачу по самому низкому тарифу, и она покоряется. Ясное дело: я терплю убытки во имя России, пусть терпят и господа журналисты! Ведь они считают себя не меньшими патриотами, чем я!.. Все это относится и к наборщикам.
Как рассчитывал Гукасов, слова эти немедленно дошли до наборщиков. Однако ожидаемого действия не возымели. Весь персонал типографии, обслуживавший "Возрождение", потребовал от Гукасова коллективного договора по новым ставкам.
Ошеломленный Гукасов велел вызвать к себе для переговоров "самого благонадежного" из наборщиков. Таковым почитался туповатый и угрюмый человек, ярый белогвардеец, единомышленник Горчакова.
На зов Гукасова этот наборщик, однако, не явился, а посланцу заявил:
– Не понимаю, при чем тут всякие идеи., Закон есть закон. Пусть платит больше, вот и все! А коли нет, ну его к лешему!
Гукасов в ответ холодно объявил:
– Ах так! Ни одного сантима больше и тратить не стану. И без того уже понес достаточно жертв для возрождения России. Подчиняюсь закону, но газета из ежедневной станет еженедельной.
Гукасовское решение привело в ужас Семенова.
– Не все еще потеряно, – сказал он Гукасову. – Я переговорю с Рождественским – его "мальчики" все устроят.
Рождественский был тогда одним из вожаков уже упомянутого мной "Национально-трудового союза нового поколения". Собрав членов редакции, Семенов объявил им, что "нацмальчики" по его просьбе и "во имя общего дела", конечно, выделят из своей среды трех-четырех человек, которые, как ему, Семенову, известно, или уже работают где-то наборщиками, или обучаются этому ремеслу и, значит, могут как-то заменить "предателей" из типографии.
Среди сорокалетних "мальчиков" своего союза Рождественский пользовался в то время репутацией расторопного организатора, крепко державшего в руках эту "молодую эмигрантскую смену". Рождественский мечтал: малейший удар извне – советский строй рассыплется как карточный домик и к в части придут те эмигранты, которые, как он. Рождественский, остались до конца верными "белой идее". С Семеновым они в политическом плане жили, так сказать, душа в душу.
Но и вмешательство Рождественского не помогло. На другой день он явился к Семенову и деловито принялся ему объяснять, что члены организации живут на заработок, которым не могут рисковать, и что, следовательно, жертву надлежит принести Гукасову. Но Гукасов на жертву не пошел: "Возрождение" стало выходить раз в неделю. Так в результате победы Народного фронта на выборах во французский парламент руками самих же белых эмигрантов был нанесен серьезный удар "белой идее" в лице самого крупного ее печатного органа.
Однако с первых же лет эмиграции в ее среде появились люди, которые сумели порвать с прошлым, слиться со своим новым классом и жить мечтой о возвращении домой, о родине, не мифической, старого образца, а о реальной родине сегодняшнего дня, которую они старались понять, чтобы послужить ей. Люди эти хлопотали о советском паспорте, образовали "Союз возвращения на родину" и ждали часа, когда их упования сбудутся. Вначале их было мало, но в конце тридцатых годов в одном Париже уже объединилось до четырехсот "возвращенцев", а во всей Франции – более тысячи, причем в их число входило много некогда мобилизованных в белую армию простых русских людей. Из среды "возвращенцев" и вышло подавляющее число русских эмигрантов – бойцов интернациональных бригад. Поехали в Испанию, чтобы сражаться против международного фашизма, который угрожал их родине. То были самые решительные, самые смелые и раньше всех прозревшие сыны России, волей судьбы оказавшиеся в изгнании. Именно волей судьбы, так как кроме насильно мобилизованных и эвакуированных очень многие из них либо выехали детьми за границу вместе с родителями, либо, участвуя некогда в "белом движении", были тогда в политическом отношении совершенными детьми (юнкера, гардемарины).
В своей решимости они были одинокими в эмигрантской массе. Но многие тревожные для эмигрантских "верхов" настроения распространялись и в широких кругах эмиграции.
– …Весь день ходил по советскому павильону. Вы ведь знаете, я непримирим к большевикам, но, право, это едва ли не самый интересный павильон на всей Международной выставке. И как все эффектно, нарядно! Скажу вам откровенно, мне было приятно, что французы валом валят туда. И долго так Все рассматривают, похваливая. Право, очень уже глупо пишет "Возрождение", что все там показное – блеф. А скульптурная группа над зданием! Юноша и девушка в таком стремительном, победном порыве! Поразительно! Кажется, автор – женщина, Мухина, что ли?
– …Нет, лучше этого быть ничего не может! Я говорю о Красноармейском ансамбле песни и пляски Александрова. Самое замечательное из всех артистических выступлений по случаю выставки! Весь зал всколыхнуло. А мы, русские, так прямо плакали. Почти, что навзрыд! И теперь, как соберемся вместе, напеваем "Полюшко". Ведь вся Россия в этой песне – и старая и новая! Вся русская слава! Знакомые французы нам говорили в антракте: "Мы понимаем ваши чувства, мы бы на вашем месте тоже гордились".
– …Нет, нет, самый лучший фильм за всю эту четверть века – "Броненосец "Потемкин", конечно! А самый лучший роман – "Тихий Дон".
Это – тоска по родине.
А вот отъезд Куприна, Билибина, да и еще десятков других эмигрантов, менее известных, это уже – тяга на родину.
– …Идут впереди меня по бульвару двое русских. Слышу, один говорит другому: "А я послезавтра обратно, в Москву!" Значит, советские… Вы знаете, мне вдруг так завидно стало, ну прямо до отчаяния, до боли!
Но тяга на родину не могла развиться потому, что густая сеть эмигрантских организации, всё равно "правых" или "левых", всасывала в свою орбиту рядового эмигранта. Этот рядовой эмигрант верил далеко не всему, что писали "Возрождение" и "Последние новости", но кое-чему все же верил и потому не смел порвать с эмигрантскими "авторитетами", а когда порывал, то чаще всего уходил лишь в обывательщину. Однако и у него бывали проблески смутного патриотического сознания.
– …А здорово наши всыпали японцам у Хасана! Слава богу, отомстили за Мукден!
– Э… ничего мы не знаем, что творится на родине. А там, может, великая сила народилась.
В общем, два течения ясно обозначились в эмиграции накануне второй мировой войны. Первое находило, пожалуй, наиболее точное выражение в словах уже упомянутого мной профессора, генерала Головина, человека способного, написавшего неплохие книги о старой русской армии, но не в меру самоуверенного и без особых оснований почитавшего себя искушеннейшим политиком.
Публично и в частных беседах Головин говорил так:
"Советская Россия слаба – это аксиома. А другая аксиома: гитлеровская Германия – могучая, несокрушимая сила. Трезвый политик должен сделать соответствующий вывод из этих аксиом.
Вот с грохотом падает водопад. Челн дикаря, возмечтавшего побороть стихию, низвергается с потоком и разбивается в щепки о скалы. А другой дикарь, оставшийся на берегу, в ужасе припадает к земле и поклоняется водопаду, как божеству. Но цивилизованный человек поступает иначе. Он знает, что противиться стихии не в его силах. И он присматривается к ней, расценивает все ее возможности и в конце концов извлекает из нее для своей пользы электрическую энергию.
Не будем же подобны дикарям, когда Гитлер пойдет на Советскую Россию. Постараемся обратить в конце концов на пользу России его неизбежную победу".
Другое течение получило конкретную форму еще в 1935 году. Возникший осенью этого года "Союз оборонцев" был ответом наиболее сознательной части эмиграции на агрессивные замыслы японского милитаризма и гитлеровского фашизма. "Надо быть с Россией. Надо познать родину, изучать советскую жизнь. Надо верить в новую Россию" – таковы были лозунги "оборонцев" вначале собиравшихся по нескольку человек друг у друга, в том числе и у А. Н. Михеева, специалиста парфюмерной промышленности. Тогда он входил в техническое руководство знаменитой фирмы Коти, а теперь работает в Киеве.
В "Союз оборонцев" вступили главным образом люди из трудовой эмиграции или люди, сложными путями пришедшие к оборончеству, в том числе фигуры, примечательные по своему прошлому, по происхождению, например А. А. Колчак, племянник адмирала, генерал Махров, бывший одно время начальником штаба Врангеля в Крыму. Постепенно организация расширилась. Ее ежемесячный орган "Голос Отечества" рассылался по 1200 адресам. Открытые собрания "оборонцев" в том самом большом зале "Лас Каз", где обычно выступал Керенский, становились все многолюднее – там разгорались жаркие прения с инакомыслящими, а в своем помещении – "Доме оборонцев" – члены организации собирались для докладов о пятилетке, о советском строительстве. Как за "Союзом возвращения на родину", так и за "Союзом оборонцев" зорко следила (гласно и негласно) французская политическая полиция, и списки тех, по кому намечался удар, были, очевидно, уже давно готовы.
По существу, оборонческую позицию занимали накануне войны многие лица, в союз не входившие, даже из тех, что принадлежали к эмигрантским "верхам". Так, разойдясь в этом отношении с убийцей Распутина, Юсуповым, его главный сообщник, внук Александра II, великий князь Дмитрий Павлович, всюду заявлял (даже в иностранной печати), что в случае войны русская эмиграция должна быть на стороне родины. "Уж мы-то, Романовы, достаточно пострадали от революции, – добавлял он, – так что меня никак нельзя заподозрить в предвзятой симпатии к большевикам…"
По инициативе "главы" младороссов А. Л. Казем-Бека, все более отходившего к тому времени от монархических позиций (впоследствии он окончательно порвал с эмиграцией и несколько лет тому назад вернулся на родину), устраивались периодические обеды, получившие название "обедов параллельных столов", так как участники их собирались в отдельном зале какого-нибудь ресторана за параллельно расставленными столами, что символизировало параллелизм подлинно патриотических настроений в остальном очень различных эмигрантских деятелей и групп. Обеды эти имели ярко оборонческий характер и проходили под лозунгом "Советская власть защищает исторические интересы России. Все за родину, каких бы взглядов мы ни придерживались!" Среди участников были, например, адмирал Вердеревский, бывший морской министр Временного правительства, умерший Париже после войны советским гражданином; профессор Д. М. Одинец, историк, преподававший в Парижском русском народном университете и умерший несколько лет тому назад в Казани, где тоже преподавал в университете; И. А. Кривошеин, сын упомянутого мной царского министра, видный французский инженер-электрик, ныне работающий в Москве; бывший эсер Бунаков-Фундаминский, погибший несколько лет спустя в гитлеровском лагере смерти; К. К. Грюнзальд, автор исторических трудов о России на французском языке, ныне советский гражданин..
После мюнхенского антисоветского сговора у того же Бунакова-Фундаминского на квартире стал собираться "литературный кружок", имевший на самом деле определенно русский антифашистский, патриотический характер. В нем, между прочим, принимали участие некоторые лица, которым впоследствии было суждено сыграть крупную роль в борьбе против фашистских оккупантов.
Глава 12
Калейдоскоп
Сдвиги, происходившие в тридцатых годах в эмиграции, были прямым отражением общей международной обстановки.
Надвигалась вторая мировая война. На Советский Союз со всех сторон нацеливались захватчики. Это рождало во многих рядовых эмигрантах тревогу за родину.
С другой стороны, вздорность всех утверждений вожаков эмиграции о "провале пятилеток", о слабости новой России становилась все очевиднее. Экономические успехи Советского Союза были несомненны. Роль его возрастала на международной арене.
Наконец, сам буржуазный мир, в котором мы жили, все более обнаруживал свои внутренние язвы.
Патриотические настроения среди эмиграции, общавшейся с этим миром, зрели от злобности, которую он проявлял к новой России, от его необоснованного высокомерия и в то же время от сознания, что в борьбе с готовящейся гитлеровской агрессией новой России придется рассчитывать только на свои силы.
В 1930 году со мной вступили в переговоры довольно влиятельные представители польских правящих кругов. Сущность переговоров сводилась к следующему.
"Польская общественность" приветствовала бы появление в русской эмигрантской печати и во французской, за подписью русского (это особенно подчеркивалось), "объективных, правдивых очерков", о современной Польше. С этим делом обращаются именно ко мне, потому что знают меня как публициста "широких взглядов", к тому же жившего в Польше, где его родители "занимали видное положение и пользовались всеобщим уважением".
Мне до сих пор неясно, по каким причинам органы диктатуры Пилсудского сочли в ту пору полезным пойти при моем посредничестве на какое-то сближение с русской эмиграцией. Надо думать, что ими руководили соображения "хитрые" и сложные. Как бы то ни было, такая поездка меня интересовала, и я на нее тем охотнее согласился, что ведь от меня ожидали всего лишь… "правдивости и объективности".
Поездка получилась в самом деле интересная. В Варшаве директор канцелярии премьер-министра водил меня по привислинскому саду резиденции своего принципала, которая некогда была резиденцией моего отца. Виленский воевода Рачкевич, в прошлом министр внутренних дел, а впоследствии эмигрантский "президент" в Лондоне, игриво объявлял, знакомя меня со своими сотрудниками: "Господа, это сын одного из моих предшественников…" Все, кто знал русский язык, предупредительно говорили со мной по-русски, а когда я сам заговаривал по-польски, официальные лица восхищались моей "способностью к языкам", хотя я и владею польским весьма посредственно. Угощали меня старкой, старинными медами, бархатно-розовым раковым супом, едва вылупившимися цыплятами в тесте и прочими польскими деликатесами. Возили куда хочу и решительно ни в чем меня не стесняли.
Вернувшись, я написал серию очерков, которые вышли затем отдельным изданием. Писания мои очень не понравились министрам, воеводам и епископам, принимавшим меня в Польше, и, как мне стало известно, лицам, устроившим мою поездку, очень попало за "явно неудачное мероприятие".
Дело в том, что я недостаточно почтительно и слишком откровенно описал механизм польской фашистской диктатуры. Диктатура эта была действительно своеобразна. Вы, например, изъявили желание повидать директора такого-то департамента. Осведомленные лица тотчас же предупреждали, что вам гораздо интереснее поговорить не с самим директором, а с таким-то начальником отделения: директор – фигура чисто декоративная, а начальник отделения видится регулярно с таким-то полковником, который, в свою очередь видится регулярно с маршалом, то есть с Пилсудским. Так как большинство лиц, вхожих к самому Пилсудскому, состояло из полковников, некогда служивших в его легионах, то и тогдашняя польская правительственная система получила название "правления полковников". Полковники были разных рангов, в зависимости не от занимаемой должности, а от своей близости к Пилсудскому, который формально тоже не был первым лицом в государстве, не президентом и даже не всегда премьером, а чаще всего лишь военным министром. Особенностью всей этой системы были ее неоформленность и оккультный характер. По-видимому, у "полковников" не хватило пороху на утверждение официальной фашистской власти. Формально существовали и оппозиция и свобода печати. Лидеры этой оппозиции, представители разных буржуазных партий, с которыми "полковники" не пожелали делить выгоды власти, в беседах со мной не стесняясь ругали самого Пилсудского и его сотрудников дурными словами. Но всей Варшаве были известны пресловутые "маршальские слова" (так обозначались ругательства, к которым любил прибегать польский диктатор): "Я скорее могу заставить себя питаться навозом, чем сотрудничать с партиями, правившими Польшей до меня". Когда в оппозиционных газетах правящую группу слишком резко критиковали, журналисты-оппозиционеры либо совсем исчезали, либо увозились какими-то лицами за город и там избивались ими до полусмерти. В общем, Польшей правил тогда какой-то орден, вроде масонского, со своей строгой иерархией и тайными собраниями. Вся программа этого ордена выражалась одним словом – "санация", то есть оздоровление, что в действительности означало самый жестокий произвол во внутренней политике, нещадное преследование демократических элементов, угнетение национальных меньшинств, а во внешней – бахвальство ("Побьем всех – и немцев и большевиков!"), блеф, беспечность, самодовольство, которые и привели к тому, что в 1939 году Польша могла противопоставить гитлеровским полчищам армию без танков, без авиации, без намека на современную технику, но зато с лихими кавалеристами, такими же усачами, как Пилсудский!
Что же касается до отношения этой правящей клики к Советскому Союзу, то ее представители в один голос заявляли мне:
– Мы лучше всех в Европе знаем СССР. Советская Армия никуда не годится. Мы можем разгромить ее в любой момент. Вы, русские эмигранты, должны быть вместе с нами, так как мы – самая реальная сила, противостоящая большевизму.
Так, в частности, говорил мне полковник Коц, один из самых высокоразрядных полковников, после крушения Польши Пилсудского занявший руководящий пост в лондонском "польском правительстве".
Так вот тот факт, что я обрисовал характер польской правительственной системы, был признан лицами, меня приглашавшими, очень неуместным поступком. Напускная великодержавость "полковничьей" Польши таила в себе сугубый провинциализм с заискивающей оглядкой на Вашингтон, Лондон и Париж: "Как бы там нас не осудили и не сделали нам выговора!" Вероятно, по этой же причине я навлек на себя крайнее неудовольствие "полковников" разных степеней тем, что рассказал об ужасающем угнетении белорусского и украинского населения в их государстве, представлявшем собой новую тюрьму народов. А особенно негодовал на меня некогда хорошо известный среди петербургских декадентов мистик и "либерал" Д. Философов, друг Мережковского и Зинаиды Гиппиус, поступивший к "полковникам" на службу в качестве главного редактора варшавской газеты на русском языке, полностью субсидируемой правительством Пилсудского, в которой с лакейской угодливостью восхвалял ясновельможное польское начальство. Кстати отмечу, что сами поляки относились к Философову с нескрываемым презрением, а некоторые из тех, которые снабжали его казенными деньгами, даже не подавали ему руки.
Поездка в польские восточные воеводства навсегда останется у меня в памяти. Рано утром поезд остановился на станции, откуда я решил проехать по волынским местечкам. В мыслях у меня еще были "полковники", их кичливые заявления да пышные варшавские министерства, где подобострастно повторялись очередные "маршальские слова". И вдруг, выйдя из вагона, я увидел море ржи и нищих босых мужиков на перроне, жадно ищущих глазами, кому бы понести чемодан. Со щемящей остротой я в тот же миг ощутил себя на своей земле, среди своего народа. И сознание того, что эти родные мне по крови хилые бородатые мужики, очевидно, принимали меня за поляка, то есть за начальство, за пана, который может накричать на них, а то и прибить безнаказанно, вдруг взорвало и оскорбило меня. Я обратился к ним по-русски, спрашивая, где найти подводу, и на лицах их прочел радость, недоумение и инстинктивный испуг. А затем через убогие деревни, от ухаба к ухабу, я долго ехал по равнине, где со всех сторон поле сходилось с голубым небом. И, глядя на эту русскую ширь, я слушал возницу, который доверчиво говорил на полурусском, полуукранском языке о горестях своего народа, томящегося под панской пятой. Каждый раз, как мы проезжали мимо хорошего жилища, он кнутом показывал на него, добавляя со вздохом: "Это осадника дом. Здесь живет, проклятый! Хуже, чем с собакой, обращается с русским человеком". "Осадниками" называли польских колонистов-кулаков, наделенных "полковниками" землей за счет волынских крестьян.
Вот о нуждах этих крестьян, по-прежнему неграмотных, батрачащих за гроши, которых хотели ополячить теми же жестокими и бездарными методами, которыми царское правительство некогда тщилось русифицировать польское население, я и рассказал в своих очерках.
А для меня лично самым волнующим воспоминанием осталось следующее.
Я стою с польским офицером у колючей проволоки. Впереди – полотно железной дороги, арка с пятиконечной звездой, за аркой строение и люди в военной форме у крыльца. Минуя проволоку, мы делаем несколько шагов по полотну, и я жадно вглядываюсь в их лица.
Польский офицер говорит мне с улыбкой:
– Дальше идти рискованно. Это советская территория.
Я все смотрю на эту арку, на этих людей. Ветер оттуда доносит звуки гармошки. И я думаю о том, что телеграфные столбы, исчезающие там, где-то за лесом, так же тянутся дальше на сотни, тысячи километров среди русских лесов и полей. Мне хочется стоять здесь и стоять, глядеть вперед да слушать эту дальнюю музыку. Так проходит минута, две, и вдруг у меня захватывает дыхание, и я ясно ощущаю на миг всю безысходность, всю трагическую фальшь моего положения. И так это невыносимо, что, скрывая волнение, я быстро говорю офицеру с белым одноглавым орлом на конфедератке:
– Пора возвращаться! Спасибо за вашу любезность, капитан.
В том же 1930 году одна французская газета послала меня в Берлин корреспондентом на выборы в рейхстаг. То были пресловутые выборы, на которых национал-социалисты собрали 6,4 миллиона голосов, что впервые дало им в рейхстаге внушительное представительство. Во всех странах мира этот неожиданный по своим размерам успех был воспринят как мрачное предзнаменование. Именно вслед за этими выборами угроза новой войны явственно нависла над Европой.
После уютного, самодовольного, беспечного, живущего только настоящей минутой буржуазного Парижа Берлин произвел на меня впечатление бурлящего котла. Я помнил Берлин моих студенческих годов, только что оправившийся от испытаний войны, стремившийся подражать Парижу в удовольствиях, но и в этом какой-то болезненный, отмеченный "комплексом приниженности". В то время немецкий бюргер почитал начальником каждого офицера Антанты, победившей его страну и еще оккупировавшей часть ее территории. Теперь этот Берлин распирало от жажды реванша и власти. В новом обличье национал-социализма германский милитаризм сулил этому бюргеру мировую гегемонию и благоденствие за счет других народов.
Я был в памятный вечер выборов в огромном зале, который заняли национал-социалисты, чтобы за кружкой пива отпраздновать ожидавшуюся победу.
Из лиц, сидевших в президиуме, я запомнил Геббельса, возглавлявшего берлинскую организацию нацистов и бывшего здесь "главной фигурой, да еще одного – долговязого, остроносого, с явно дегенеративным лицом, в коричневой рубахе со свастикой на рукаве, которого крохотный Геббельс, поднявшись на цыпочки, покровительственно похлопывал по плечу. Это был "августейший" нацист, принц Август-Вильгельм, сын Вильгельма II.
За маленькими столиками тысячи мужчин и женщин пили пиво и поедали груды сосисок. По виду, да и в самом деле, очень многие из них были мелкими бюргерами, лавочниками. В то время одним из демагогических лозунгов Гитлера была борьба с универмагами, разорявшими мелкие торговые предприятия. Лавочники увидели в Гитлере своего спасителя, не подозревая, что огромные суммы, которые он тратил на пропаганду, шли от крупнейших капиталистов…
И вот эта публика пришла сюда с полной уверенностью в победе. Но размеры этой победы были ей еще не известны. По мере поступления данные о голосовании вывешивались на стене, над столом президиума. Несколько часов подряд дано было мне здесь наблюдать нарастание сумрачных и беспощадных страстей.
Вместе с Геббельсом, с дегенеративным принцем и их приспешниками вскипал весь огромный зал. Лавочники сжимали скулы, залпом осушали огромные кружки пива, подняв руку, шумно поздравляли друг друга, по-военному щелкая каблуками.
Недалеко от меня сидели люди в коричневых рубашках, несколько иного типа – нацисты-интеллигенты, поджарые, с острыми чертами лица и холодными глазами, из тех, очевидно, которые проповедовали расизм как новую религию германского владычества. Помню, один из них произнес стих из "Фауста", однако без оттенка иронии, вложенного в него Гёте, а надменно, торжественно: "Немец не терпит французов, но их вина пьет с удовольствием".
Он сказал это после того, как новая многозначная цифра над столом президиума окончательно подтвердила размах гитлеровского торжества, а затем добавил:
– Ведь это целая политическая программа! А теперь у нас имеется для нее и реальная база…
Бюргеры в зале воодушевлялись, по-видимому, теми же чувствами. То и дело слышалось: "К черту Версальский договор!" Гремел старый гимн прусского милитаризма: "Германия превыше всего!" Борьба с универмагами явно отходила на второй план.
На эстраде Геббельс сидел теперь в каком-то оцепенении. Лицо его было бледно, глаза неподвижны. Рядом с ним сын последнего императора ерошил жидкие волосы, судорожно вскидывая голову в сторону огромного красного полотнища, на котором в белом кругу, словно паук, распласталась черная свастика.
На другой день я беседовал с одним из лидеров германской социал-демократии, главным редактором газеты «Форверст». Сама редакция с бесчисленными кабинетами и совершенно невероятным множеством сотрудников, по виду напоминавших чиновников, общим стилем своим, атмосферой скорее всего походила на какой-то очень важный департамент. Главный редактор уделил мне полчаса своего времени. Это был крайне приятный в обращении, очевидно очень образованный человек. Но попытка его объяснить мне создавшееся положение явно не удалась, в чем он и сам признался:
– Надо еще многое передумать, взвесить все имеющиеся данные, собрать новые, сопоставить их со старыми, снова взвесить, и тогда уже что-нибудь, быть может, и станет понятно. А сейчас никакой, решительно никакой ясности еще нет.