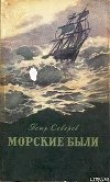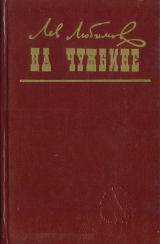
Текст книги "На чужбине"
Автор книги: Лев Любимов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 27 страниц)
Глава 10
В едином лагере
…Нудная и беспощадная эмигрантская грызня… Порождением этой грызни да страшной безысходности на чужбине были и казацкий сын Павел Горгулов, и светлейший князь Михаил Горчаков, внук канцлера, вероятно и ныне мечтающий обуздать всех инакомыслящих в эмиграции. Я знал его хорошо, бывал в его доме, и мы полушутливо, полусерьезно ругали друг друга не раз. Этот Горчаков, мужчина истерически бурного темперамента, хронически пребывал в состоянии нервной экзальтации. Он не читал ни одной советской газеты, ни одной книги, изданной в СССР, крепко уверив себя в том, что русский народ жаждет возвращения Романовых. Главными врагами Горчаков считал «жидо-масонов»: они организовали революции – Февральскую и Октябрьскую, они заставили иностранные правительства признать СССР, они руководят в эмиграции всеми группами, органами печати, объединениями, которые стоят за «проклятую демократию», то есть за Милюкова, Керенского, против монархистов. К «жидо-масонам» он причислял и архиереев" не отрекшихся публично от Московской патриархии, и бывшего царского премьера графа Коковцова просто потому, что тот был не склонен упрощать все политические вопросы до его, горчаковского, уровня, и младороссов, потому что они читали советские газеты, и самого «царя Кирилла», который соглашался править вместе с какими-то «совдепами», и «Возрождение», в котором, кстати, было действительно много масонов.
Я предвижу, что советский читатель будет несколько удивлен моими упоминаниями о масонстве. Но дело в том, что орден "вольных каменщиков" (я состоял в нем несколько лет) действительно получил в эмиграции широкое распространение. Тут сыграли роль и культ старины – торжественный церемониал давал иллюзию, позволяющую забыть хоть на миг убожество всего эмигрантского существования, и возможность вообразить во время масонских радений, что ты на равной ноге с хозяевами: французскими парламентариями, журналистами, чиновниками.
В контакте с антисемитскими иностранными организациями, под высшим руководством пресловутого Маркова-второго, старого думского хулигана, недурно устроившегося в Берлине при каком-то отделе антисоветской пропаганды, Горчаков издавал в Париже монархический журнальчик "Двуглавый орел", где отводил целые страницы печатанию списков русских масонов, в которых видел изменников и предателей. Он ничем не гнушался для пополнения своей информации: подкупал прислугу лиц, подозреваемых им в масонстве, с тем чтобы получить какой-нибудь выкраденный документ, а когда узнавал об очередном масонском собрании, сам отправлялся туда и часами, даже в проливной дождь, выстаивал перед входом с записной книжкой в руке. Раз при этом произошел такой обмен репликами. Увидя выходившего из масонского помещения князя Вяземского, Горчаков крикнул ему:
– Позор! Рюриковичи – масоны!
На что Вяземский ответил:
– Нет, позор, что Рюриковичи – шпионы!
Горчаков всюду шумел, скандалил, стыдил инакомыслящих. Его ругали, гнали, кто-то вызвал светлейшего князя на дуэль, кто-то попросту надавал ему пинков. В общем, мало кто к нему относился серьезно, Однако это не выводило Горчакова из себя, он был маньяком, но маньяком комическим, а не трагическим, как Горгулов.
На другом полюсе парижском эмиграции стоял в ту пору тоже маньяк: желтый, длиннолицый, с отвислым носом и короткими, прямо стоящими волосами. Появлялся раз в месяц на публичных собраниях, которые он устраивал, чтобы доставить себе удовольствие поговорить (с выкриками, обильной жестикуляцией, ерошенном волос) перед какой бы то ни было аудиторией. То был Керенский. Он вопил, что в Советском Союзе голод, что народ, великий русский народ, жаждет избавления от большевиков, жаждет возвращения "февральских свобод". Топал ногами, проклинал советскую власть и столь же яростно тех монархистов, корниловцев, которые в свое время помешали ему "довести благополучно страну до Учредительного собрания". После него слово брали два главных его сторонника, эсеровские начетчики Самсон Соловейчик и Марк Вишняк, которые говорили то же, что их шеф, но в тоне более "деловом", ссылаясь преимущественно на самокритику в советской печати да на какую-то информацию, полученную "негласным путем".
Горчаков и Керенский на фоне горгуловской тени!.. Эти два человека публично обливали друг друга помоями. Но вот как-то одно из своих выступлений Керенский посвятил историческому экскурсу: почему ему, Керенскому, не удалось спасти, то есть переправить вовремя за границу, отрекшегося царя. Керенский винил Ллойд-Джорджа, сначала пригласившего Николая II в Англию, а затем под влиянием общественного мнения переставшего "настаивать" на этом приглашении. О самом же Николае II (кстати, тоже похвалившем Керенского в своем дневнике) Керенский отозвался уважительно.
Выступление бывшего "премьера на час" умилило Горчакова. Писатель Алданов решил этим воспользоваться. Этот весьма обходительный в личных отношениях человек кокетничал тем, что умеет относиться ко всем взглядам терпимо и смаковать людей и события, как гурман, любящий особо пряные, пикантные кушанья.
И вот Алданов (по происхождению – еврей, его настоящая фамилия Ландау) позвал к себе на обед ярого погромщика Горчакова, Керенского, еще какого-то эсера и гитлеровского поклонника Муратова из "Возрождения". Вторая мировая была уже не за горами. Горчаков и Муратов уповали на эсэсовцев и самураев, Керенский же и его эсеры – на "западные демократии".
Но на этом обеде они пришли к одному знаменателю, объявив, что спор между старым миром и коммунизмом будет решаться железом и кровью, и, как бы ни развивалась будущая война, в результате ее советский строй рухнет непременно. Выпили за скорейшее исполнение столь радужного прогноза, а затем долго перешучивались на тему о том, как приятно, вдоволь поругавшись публично, найти за вкусным обедом общий язык.
А вот еще эпизод.
В русском масонстве в Париже была ложа "Северная звезда", где всем заправляли бывшие члены временного правительства Авксентьев и Переверзев, оба незаурядные ораторы, ратовавшие на масонских и иных собраниях за "установление в России демократических свобод". Это были тот самый эсер Авксентьев, который в качестве министра внутренних дел пытался расправиться в 1917 году с большевиками, и тот самый министр юстиции Переверзев, который распорядился в июльские дни о привлечении Ленина к суду. Оба они стояли на позиции милюковских "Последних новостей" и с "Возрождением" были, так сказать, на ножах. Но эмигрантская грызня одно, а реальная политика другое: лишь только явился повод для действий на более широкой арене, эмигрантские консерваторы и правые социалисты выступали единым фронтом. Произошло это так.
После третьего своего премьерства (в 1932 году) Эдуард Эррио вторично съездил в Советский Союз. Вернувшись оттуда, он в ряде публичных выступлений рассказал об успехах советского строительства, о России, обретающей новые силы, и указывал, что новая Россия – естественный союзник Франции.
Такие речи Эррио совсем не устраивали лидеров антикоммунистического лагеря.
Во французском парламенте всегда были превосходные ораторы. Красноречие, умение без подготовки, эффектно ответить на неожиданно поставленный каверзный вопрос, умение так красиво защитить свою точку зрения, чтобы даже противники слушали с удовольствием, – все это качества, необходимые для "большой парламентской игры". Действительно, слушать, например, Аристида Бриана считалось отменным удовольствием. Сирена! Скрипка! С модуляциями, с хватающими за душу аккордами! На выступления Бриана отравлялись как на концерт знаменитого артиста. И зал и трибуны Бурбонского дворца были набиты до отказа. Всюду только и слышалось: "Сегодня большой день, сейчас будет говорит Бриан". И буржуазные делегаты внимали ему с благоговением. Противники не только не прерывали его, а сами спешили ему аплодировать, если только бриановская речь не затрагивала остро принципиальных вопросов. Но странно: я не помню, чтобы в кулуарах Бурбонского дворца предстоящее выступление Бриана вызывало какие-либо особые надежды или опасения. И в самом деле, послушав Бриана, депутаты голосовали совершенно так, как если бы он вовсе не говорил. Его ораторское искусство было в своем роде искусством для искусства. Согбенный, седовласый маэстро спускался с трибуны под гром аплодисментов. Он был доволен, и все выли довольны, между тем как соотношение сил в парламенте не менялось после его речи ни на йоту. И то же можно сказать о многих тенорах французского парламента. Но никак нельзя сказать об Эррио.
Сколько раз, когда решалась судьба очередного кабинета или парламенту приходилось высказаться по вопросу действительной важности, слышал я в кулуарах: "Рано подсчитывать голоса, ведь будет говорить Эррио!.."
Какой-нибудь десяток-другой депутатов часто определяли во французском парламенте исход голосования. И вот я помню, как пафос Эррио порой склонял в нужную ему сторону такой десяток прожженных политиков. Достижение поистине поразительное в парламенте третьей Французской республики, где соперничество буржуазных фракций отражало конфликты между различными группами капиталистов, как правило, отнюдь не руководящихся эмоциональными порывами. В этом отношении я не помню ни одного французского парламентария, который мог бы сравниться о Эдуардом Эррио.
В чем же заключался секрет его дара? Если речь Бриана в стенограмме теряла почти все и в ней важно было не что сказано, а как сказано, то лучшие выступления Эррио всегда содержали простые, ясные и сильные истины, которым он своим голосом, да еще и внутренним горением умел придать максимальное звучание.
И вот почти тридцать лет тому назад, когда уже ковалось оружие для второй мировой войны, прозвучали слова Эррио: "Новая Россия могуча. Я люблю Францию превыше всего, а потому я за дружбу с этой новой Россией".
Воспользовавшись тем, что Эррио не был тогда членом правительства, Гукасов нацелил на него "Возрождение", так сказать, в плане свободной дискуссии, не возбранявшейся законами страны, оказавшей газете приют. Однако какая-то мера была определенно перейдена. На знаменитого французского государственного деятеля со страниц эмигрантского органа посыпалась колкая брань.
Авксентьев и Переверзев тоже пошли в атаку. Ложа "Северная звезда" разослала французским ложам справочку, "доказывающую", что население Советского Союза поголовно пухнет от голода, между тем как Эррио предпочитает об этом не говорить…
Поддержанное французской правой печатью "Возрождение" вышло сухим из воды. Однако ложа "Северная звезда" (как и все русские ложи во Франции, входившая во французское масонство) должна была временно поплатиться… Учитывая, что "дискуссия" вышла за рамки дозволенного, высшее руководство французского масонства признало поступок ложи неуместным и приказало ей "уснуть", то есть до нового распоряжения прекратить активное бытие.
Я был на собрании "Северной звезды", посвященном выполнению этого приказа. В знак траура "братья" перевернули наизнанку свои синие ленты и таким образом оказались в черных лентах с белыми черепами и скрещенными костями. Зрелище было достаточно мрачное. Таким же мрачным голосом Авксентьев и Переверзев произнесли речи о том, что "свобода и демократия" попираются вновь, уже во Франции, в угоду большевикам, но что они, Авксентьев и Переверзев, будут бороться за "великие идеалы" до конца. Затем все, как полагается, прокричали: "Свобода! Равенство! Братство!" И молча разошлись по домам.
В русском масонстве ритуал выполнялся особенно тщательно и торжественно. В ложах было много бывших офицеров, вносивших в собрания эффектную строевую выправку. Приходившие к нам французские масоны всячески выражали восторг, сожалея о том, что у них этого уже нет.
Текст ритуальных заявлений, возгласов и т. д. был заимствован у старого русского масонства начала прошлого столетия.
При посвящении это выглядит так.
"Брат", приводящий посвящаемого, стучит в дверь не три раза, как полагается, а беспорядочно, с большим шумом.
Досточтимый мастер (председатель ложи) вопрошает со своего места:
– Кто стучится в двери храма обычаем профанов? Кто осмеливается нарушить наши высокие труды?
Ответ:
– Это профан, который ищет быть вольным каменщиком.
Снова вопрос:
– Как дерзнул он такие питать надежды?
Ответ:
– Потому что он свободен и добрых нравов.
– Если подлинно так, – объявляет тогда досточтимый мастер, – введите профана.
И "профан" вводится, согнутый (как выходит новорожденный из чрева матери), в власянице, опоясанный бечевкой, с открытой грудью, завязанными глазами и одной штаниной, поднятой выше колена.
Да, совсем как при посвящении Пьера Безухова…
А затем – холод шпаги, приставленной к груди, и голос досточтимого мастера, предлагающего "профану" "зело ощущать" ее острие. Клятвы, непонятные ритуальные слова, символические "испытания" (посвящаемого куда-то толкают, чем-то дуют ему в лицо). "Малый свет" – с посвящаемого снимается повязка, и в полумраке перед ним – "братья" в масках, в синих лентах с красной каймой, в белых передниках и белых перчатках со шпагами, направленными в лежащего на полу человека в вымазанной красными чернилами рубашке: вот, мол, что ожидает того, кто откроет тайны ордена! И, наконец, "Большой свет": "братья" уже без масок, как "брата", приветствуют новопосвященного. А в глазах у него рябит от циркулей, молотков, треугольников со "всевидящим оком" посредине, пятиконечных звезд, причудливых храмов, колонн, начертанных на полотнище, и людей, из которых он знает многих как самых обыкновенных "Иван Ивановичей", "Иван Петровичей" и которых странно ему видеть вдруг в бутафорских регалиях, не сидящих, а восседающих и обращающихся друг к другу торжественным голосом, чтобы на простой вопрос "который час?" получить в ответ: "Полночь наступила, и час настал". А между тем…, всего лишь время обедать! Масонство не играет руководящей политической роли ни во Франции, ни в других капиталистических странах. Но его стройная, замкнутая организация часто используется теми или иными буржуазными кругами и партиями. Русское же масонство в Париже являлось в тридцатых годах как бы синтезом различных эмигрантских течений, попыткой объединить эмиграцию.
Я встречал в ложах людей, различных во всех отношениях. Кроме сотрудников "Возрождения" тут были, например, сотрудники "Последних новостей", с которыми на страницах печати мы обменивались лишь руганью. Здесь же не только величали друг друга "братьями", но и мирно беседовали на масонских "агапах", то есть на обедах с обильными возлияниями, всегда следовавших за ритуальными церемониями. Бывшие гвардейские офицеры часто в ложе переходили на "ты" с самыми типичными представителями "разночинной интеллигенции". Еврей, зубной врач, ходил, обмявшись с графом Шереметьевым или князем Вяземским. Бывший нефтяной магнат Лианзов или "сам" Путилов, бывший владелец путиловских заводов, сохранившие и в эмиграции солидный капитал, подчеркнуто воздавали масонские почести шоферу такси, а в прошлом скромному бухгалтеру, занимавшему в ордене довольно высокое положение. Некогда видный адвокат Слиозберг, талмудист, почитавшийся ученее самых знаменитых раввинов, объединялся с людьми, тесно связанными с православной церковью. Научившиеся в ложе терпимости, эсеры и меньшевики на дружеской ноге общались с монархистами и вместе смеялись над монархистом-изувером Горчаковым. Решив" что "Общевоинский союз" выдохся, поступали в масонство и белые генералы, не порывая, однако, связей с остатками врангелевской армии.
Была еще и другая сторона дела. Связи парижского русского масонства уходили за океан, к американским "христианским" организациям. Через русскую ложу в Берлине оно имело до прихода Гитлера к власти заручки в различных влиятельных германских кругах. Многие русские масоны достигали самых высоких масонских степеней и в избранных собраниях ордена общались с влиятельными французскими депутатами и чиновниками. Досточтимым мастером английской ложи в Париже был русский эмигрант генерал Половцев, тот самый, который в 1917 году командовал Петроградским военным округом.
Русские масоны обосновались в небольшом особняке с садиком в тихом архибуржуазном квартале Отей. В этом особнячке "братья" находили клубный уют; большую библиотеку, столы для бриджа в комнатах, украшенных старинными русскими масонскими реликвиями, оживленные товарищеские обеды, возможность устраивать разные дела путем знакомства с нужными лицами.
Вспоминаю, как в масонской гостиной, усевшись на диване, беседовали три "брата", самым своим общением напоминая о предках в день Бородина: Голенищев-Кутузов, Бенигсен, Барклай де Толли.
Царил в этом особняке руководитель русского масонства, полновластно распоряжавшийся с высоты председательского креста в собрании русских "верховных князей королевской тайны" (так именуются масоны 32-го градуса), старорежимный вице-консул в Париже Кандауров Леонтий Дмитриевич.
Кандауров умер в середине тридцатых годов. В антибольшевистской акции он играл немалую роль. Несомненно, что он был одарен изворотливым, острым и достаточно циничным умом. Как-то в своем кабинете, увешанном масонскими лентами всех градусов, он поведал мне кое-что о своих взглядах.
– Понимаете ли вы, – спросил он меня, – такую истину: если бы в каждом уездном городе старой России работала масонская ложа, революцию удалось бы предотвратить.
– Почему вы думаете?
– А потому, – отвечал Кандауров, – что во всякой уездной ложе помещики, офицеры, купцы, земские врачи, учителя, то есть дворяне; капиталисты и интеллигенты – одним словом, правые и левые в тогдашнем толковании относились бы друг к другу терпимо, находили бы общий язык, а значит, могли бы образовать общий сплоченный фронт. Против кого? "Против народа!" – скажут большевики. – Кандауров хлопнул себя ладонью по тучному колену и захохотал. – Ну и пусть они говорят, а мы скажем: против революции, то есть против бунтарства, против пугачевщины, против всего, что обрушилось на нас. Вот здесь, в наших ложах, я насаждаю это самое единство, общий язык – в этом наша сила. С большевизмом надо бороться не криком, не огульной критикой, а сплоченностью, сознанием общности интересов. Надо уметь быть гибким. Я пускаю в ложах такую мысль: некоторые социальные завоевания революции можно и признать – это не страшно, но надо при этом сохранить лазейку, при которой мы оставались бы всегда тем, что мы есть. Ну, скажем, примат духовного начала. Борьба с материализмом – это ведь очень широкое понятие, которое можно применять по самым различным поводам. А пока что объединимся. Для этого хороши и храм Соломонов, и стальной свод, и ленты с черепами на изнанке, и наши агапы. Вы видели, как добросовестно какой-нибудь бородатый дядя, адвокат, а то и профессор, стучит в ложе бутафорским молотком? А наши достижения уже сейчас немалы. Масонство стало цементом, связывающим воедино эмигрантские силы. А кроме того, русских высокоградусных масонов знают где следует – там, где творится мировая политика. Это может очень пригодиться, так как рано или поздно судьбы человечества будут вновь решаться в громе орудий.
Но он обманывался, как обманывались иллюзиями и другие политики от масонства. "Цемент" оказывался некрепким. Масонские иллюзии чахли за стеною "храма". Реальная жизнь с ее противоречиями разбивала кандауровскую концепцию…
Отражением этих противоречий, вторгавшихся в плавный, разработанный "верховными князьями" священной тайны церемониал, явился тот факт, что даже в масонство проникала новая струя, окончательно размывавшая пресловутый кандауровский "цемент".
За несколько лет до второй мировой войны в русском масонстве возникла совсем новая по духу ложа "Гамаюн". Большинство "братьев" этой ложи были скромные люди: шоферы такси, мелкие служащие, наборщики или даже простые рабочие. Скромными были они и по положению в самой эмиграции: их имена не упоминались на страницах газет, в эмигрантских организациях они не занимали руководящих постов и принадлежали в большинстве к тому поколению, которое покинуло родину в детском возрасте. Люди старше их жили только прошлым. Совсем же молодые, уже родившиеся в изгнании, если и не полностью офранцузились, то русскими чувствовали себя весьма смутно. Эти же считали себя русскими, только русскими. Но прошлое не довлело над ними. Попав в масонство по различным причинам (кто из любопытства, кто действительно в жажде самосовершенствовании), они начали сближаться между собой, выйдя из лож, где состояли, образовали новую. Эта новая ложа была направлена лицом к родине, к России. Члены ее старались понять жизнь родины, ее чаяния, сущность тех процессов, которые в ней произошли. Они следили за всеми советскими изданиями, собирались для обсуждения книжной новинки из Москвы, любили советские песни и в советской печати не зачитывались одной самокритикой. О, конечно, они были еще весьма далеки от перехода на конкретную просоветскую платформу. Однако они отказались не только от всех "профанских" эмигрантских трафаретов, но и от масонского, "кандауровского", ибо искали новых путей, а не стремились, исподволь, под видом какого-то "посвятительства" объединить эмиграцию на старых путях. Они шли дальше кандауровского "признания" социальных завоеваний революции и даже евразийство считали пройденным этапом. Они искали для себя-возможности признать самую идею революции, сочетать эту идею со своими сокровенными думами и чаяниями. Очень скоро ложу "Гамаюн" объявили в русском масонстве "просоветской".
Само образование ложи "Гамаюн" и тот характер, который приняла ее работа, отражали очень значительные сдвиги, происходившие тогда в эмиграции.
Испытанием для этих новых настроений явились события в Испании.