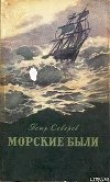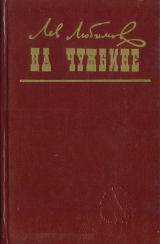
Текст книги "На чужбине"
Автор книги: Лев Любимов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 27 страниц)
Предположим, я закурил в саду, прячась за деревом от начальства. За соседним деревом тоже стоит с папиросой лицеист, старше меня на один курс. Я его не заметил. Он подзывает меня:
– Доложите генералу от фронта, что вы закурили, не испросив разрешения старшего воспитанника.
Являюсь к генералу от фронта, становлюсь "смирно" и сообщаю о своей провинности.
– Я вас записываю, – объявляет он. – Останетесь в субботу на час.
Наступает суббота. Все, кроме записанных, уходят. Курсовой воспитатель (я не значусь в его списке наказанных) осведомляется, почему я замешкался. Отвечаю:
– Запись генерала от фронта.
Он не спрашивает, за что – это его не касается.
Согласно тек же правилам, установленным "генералами", лицеистам запрещалось сидеть в театре ближе седьмого ряда. Появление лицеиста в первых рядах считалось щегольством сомнительного вкуса. Лицеистам строго-настрого запрещалось ездить на лихачах. Лихачи – это для купчиков, то есть для люден совсем дурного вкуса.
Говоря о лицейских традициях, стоит вспомнить традиции другого, тоже привилегированного заведения – училища правоведения, где военная муштра была сильнее внедрена при Николае I.
Это училище было основано после лицея. Правоведы старались подражать лицеистам, но, с точки зрения лицеистов, не всегда преуспевали в этом.
Старший правовед останавливал младшего и спрашивал его, например:
– Сколько шагов между вами и мной?
Младший мерил глазами расстояние и отвечал.
– А между мной и вами? – опять вопрошал старший.
Обязательный ответ гласил:
"Шаг младшего воспитанника несоизмерим с шагом старшего воспитанника".
В стенах лицея подобная издевка не практиковалась.
Хотя в обоих учебных заведениях условия приема были одинаковы, лицеисты стояли несколько выше по имущественному состоянию и родству. Между тем правоведам запрещалось пользоваться трамваем, а лицеистам разрешалось. В данном случае внутренний правоведский распорядок выражал опасение: "Как бы люди из другого мира не подумали, что мы недостаточно богаты", а лицейский – спокойную уверенность: "Мы – знаем, кто мы, и нам безразлично, что о нас подумают люди из другого мира".
Перещеголяв правоведов, юнкера Николаевского кавалерийского училища должны были нанимать извозчика, как только выходили на улицу, А если молодому человеку хотелось пройтись пешком, извозчик ехал с ним рядом. При виде такого юнкера, который, браво звеня шпорами, прогуливался по Невскому в шаг с… извозчичьей клячей, мы говорили себе: "Вот недотянутый джентельмен".
В самом деле, кто были люди, которых мы считали из "другого мира"? Все, кроме нас, ибо в той или иной степени каждый из нас рос, как "сын губернатора". Лицей укреплял сознание, что мы прирожденные хозяева страны. Кто "мы"? Люди "дворянской культуры", то есть единственно "подлинной", которая выражает "все возможности России".
Пушкинское солнце осветило когда-то лицей, и лучи его еще доходили до нас. Поэтому дух лицея не был сугубо чиновничьим, казенным. Лицеисты даже мнили себя вольнодумцами, так как в силу исключительности своего социального положения разрешали себе отпускать шпильки по адресу самых высоких персон. Но опять-таки это "вольнодумство" дышало только в том кругу, где цвела "дворянская культура".
Лицей, вероятно, единственное учебное заведение, которому величайший национальный поэт посвятил несколько своих самых вдохновенных стихов. Чуть ли не каждый лицеист знал наизусть все пушкинское "19 октября", и мы гордились тем, что день лицейского праздника известен в России каждому образованному человеку. В лицее был богатейший пушкинский музей; им тоже гордились, но о пушкинских товарищах декабристах предпочитали не вспоминать. Кроме Пушкина, в лицее учился Салтыков-Щедрин. В лицее учился Я. К. Грот и многие еще лица, заслуживающие почетную известность в словесности и науках. Лицеистом был Петрашевский. И из лицея вышли такие столпы монархии, как князь Горчаков, граф Рейтерн, граф Дмитрий Толстой. Со времени Горчакова чуть ли не все российские министры иностранных дел были лицеистами. Как в коллекции отца, верхи русской культуры неразрывно переплетались в "лицейском мире" с императорской властью.
Под ними, где-то очень далеко, глубоко, был народ. Мы находили в нем много симпатичных черт. Мы любили его пляски, его пение, и мы гордились его героизмом. Но нам не приходило в голову, что жить за его счет противоестественно и преступно.
Ясно помню, как в начале первой мировой войны, возвращаясь из-за границы, под свежим впечатлением шумных парижских манифестаций с криками: "В Берлин! В Берлин!" я был поражен словами деревенского парня, встреченного чуть ли не на первой русской станции. Отправляясь на фронт, он заявил уверенно и прямодушно:
– Ну что ж, война так война, – значит, снова пойдем бить французов!
Когда я стал ему объяснять, что война не против французов, он к моим словам не проявил никакого интереса: очевидно, "немцы" и "французы" были для него понятием настолько туманными, что рассуждать о них казалось ему не под силу.
"Какая темнота! – подумал я. – Да, действительно, они созданы для подчинения".
Прошло много лет, пока я догадался, что в "бессознательности" этого парня была виновна государственная власть, не умевшая и боявшаяся дать ему образованне, наделить сознанием гражданина великой страны, А между тем эта власть дала ему в руки винтовку без патронов, а то и вовсе ничего не дала, кроме погон и солдатской кокарды, и велела защищать от врага шестую часть земной суши.
В нашем сознании народ существовал для того, чтобы мы могли культивировать наш образ жизни, наш "хороший вкус", которым в юности кичились, пожалуй, больше всего.
Между народом и нами существовала еще прослойка, состоявшая из людей, у которых, по нашим понятиям, такого вкуса не было. В прослойку входила интеллигенция. Наши отцы презирали этот термин и никогда не применяли его к себе. Ведь не было же его в пушкинские времена! Не было, когда никто еще не соперничал с дворянством… Откуда взялись эти люди? Как смеют претендовать на самостоятельное существование? Если культура их цель, то почему не стараются включиться в нашу, дворянскую, хотя бы на подчиненном положении? Да, на подчиненном: пока не отшлифуются по-настоящему.
В воспоминаниях отца я нашел в своем роде бесподобные рассуждения крупнейших представителей царской власти по поводу этого термина.
В связи с проектом какого-то циркуляра министра внутренних дел, где упоминалась русская интеллигенция, Победоносцев писал Плеве:
"Ради бога, исключите слова "русская интеллигенция". Ведь такого слова "интеллигенция" по-русски нет, бог знает, кто его выдумал, и бог знает, что оно означает. Непременно замените его чем-нибудь…"
В канцелярии министерства внутренних дел стали наводить справки, рылись в словарях, чтобы опровергнуть суждение всесильного обер-прокурора святейшего Синода, но ничего не нашли, кроме того, что это слово было пущено в обиход в семидесятых годах известным тогда романистом Боборыкиным.
Министр внутренних дел Плеве, однако, не исключил из циркуляра слова "интеллигенция". Дело в том, что оно выражало для него определенное понятие, которое он и имел в виду и которое нельзя было передать словами "образованное общество" или "образованная часть населения". Вот буквально то "толкование", которое Плеве не раз развивал в связи со всей этой "историей" отцу:
"Та часть нашей общественности, в общежитии именуемая русской интеллигенцией, имеет одну, преимущественно ей присущую особенность: она принципиально, но и притом восторженно воспринимает всякую идею, всякий факт, даже слух, направленные к дискредитированию государственной, а также духовно-православной власти; ко всему же остальному в жизни страны она индифферентна".
Немудрено, что при таком отношении отцов мы, не задумываясь над смыслом разгоравшихся противоречий, старались подметить в этой новой "противоестественной" прослойке, образовавшейся из интеллигенции, такие черточки, которые питали бы наше высокомерие. Прощаясь с коллегой, какой-нибудь молодой учитель, недавно приехавший из провинции, скажет, например: "Пока!" Это был для нас "конченый человек" ("Что за словечко!", "Какой ужас!"). Нас уже не могли интересовать ни его идеалы, ни лишения, которые он, вероятно, преодолел, чтобы получить образование.
"Извиняюсь", "знакомьтесь", "мадам" – были для нас такими же жупелами.
Мы говорили про кого-нибудь:
– Это типичный интеллигент, он не бреется каждый день, ест с ножа и дамам не целует руки…
Или:
– Это не настоящая дама, это интеллигентка, она называет – свою фамилию, когда ей представляют мужчин.
Весь смысл человеческого существования мы готовы были свести к точному знанию выработавшихся в "нашем мире" понятий и правил. Некоторые из них были как будто разумны, удачны. Но беда в том, что чуть ли не всю общественную жизнь мы рассматривали только под их углом. Толкуя, например, о сессии Государственной думы, старшие наши товарищи порой отмечали всего лишь, что один из лидеров "с левым уклоном" (Милюков) явился на открытие в смокинге: значит, спутал дневное собрание с обедом. На наш взгляд, дальше идти было некуда.
А буржуазия, недавно родившееся сословие промышленников, фабрикантов, купцов-богачей? Отцы наши болезненно переживали их напор, торжествующее соперничество и лишь с боем уступали свои позиции. Но сыновья новых магнатов в лицей не попадали, и мы попросту не знали этого сословия. В лицее твердо поддерживался принцип, что только царская служба – благородное дело. Мы знали, что даже не происхождением, а близостью к престолу определялось место каждого из нас в социальной иерархии. "В России, – объявлял Павел I, – аристократ тот, с кем я говорю и пока говорю". Купцов и фабрикантов царь не приглашал в свой дворец, а потому они не интересовали нас.
Итак, только мы. Правила, навыки, которыми мы так кичились, приобретали в нашем сознании самодовлеющее значение, которое в конце концов затемняло все остальное. Толстовская княжна Марья с первого взгляда узнает в Николае Ростове человека одинакового с ней круга. В уличной толпе, театре, поезде, чуть ли не на пляже каждый из нас должен был научиться распознавать себе подобных. Но, в отличие от княжны Марьи, он часто ничего не видел, кроме них. И эти люди составляли "наш мир".
Так лицей завершал то, что нам уже давала семья.
Лицей формировал чиновников, выгодно отличавшихся отсутствием низкопоклонства, потому что уже в начале службы они часто считали себя выше своих начальников. Бывшие лицеисты, которых я помню, очень дорожили традициями товарищеской дружбы, они, с другой стороны, точно знали, что "приличный человек" должен быть одинаково далек от "недотянутого джентльмена" и пушкинского "перекрахмаленного нахала", часто по-своему были недурно образованы, изучив римское право и иностранные языки, но имели самое смутное представление о своем народе, о его нуждах, о том, что значит подлинный прогресс, что значит Россия и какие силы двигают историей.
Лицей был в течение ста лет преддверием русской государственности. Но по мере того, как разлагалось правящее сословие, он все больше поставлял этой государственности таких молодых людей, у которых подобно дипломатам, описанным Толстым в "Войне и мире", "были свои, не имеющие ничего общего с войной и политикой, интересы высшего света, отношений к некоторым женщинам и канцелярской стороне службы", и этими интересами замыкалось все их мировоззрение. А когда такие молодые люди становились пожилыми людьми, когда они достигали высших постов и в их руках сосредоточивалась государственная власть, они чаще всего проявляли себя Карениными. "Всю жизнь свою, – говорит Толстой о Каренине, – Алексей Александрович прожил и проработал в сферах служебных, имеющих дело с отражениями жизни. И каждый раз, когда он сталкивался с самой жизнью, он отстранялся от нее. Теперь он испытывал чувство, подобное тому, какое испытал бы человек, спокойно прошедший над пропастью по мосту и вдруг увидавший, что этот мост разобран и что там пучина".
Для толстовского Каренина этой пучиной была измена жены, для сановников Николая II – революция.
Отец часто рассказывал о церемонии, состоявшейся в Зимнем дворце 27 апреля 1906 года, в честь открытия первой Государственной думы.
Дума не была избрана всеобщим голосованием. Женщины и более двух миллионов рабочих (в общем более половины населения) не имели права голоса. Выборы не были ни прямыми, ни равными. Большевики решили их бойкотировать. И все же эти выборы были явлением совершенно новым в русской политической жизни. Монополия власти ускользала из рук высшего чиновного мира; люди иной формации, разночинцы, пусть и с имущественным цензом, формально получали право контролировать правительство.
Вокруг дворца стояли войска, главным образом кавалерия. Белыми, синими и красными полосами, точно широко развернутый русский национальный флаг, вырисовывались эскадроны гвардии в парадной форме. Внутри толпились придворные. В Концертном зале, окруженный сановниками, стоял новый председатель Совета министров Горемыкин.
– Это в высшей степени удачная мысль, – говорил он, несколько картавя, привычным жестом разглаживая бакенбарды, – открыть Думу первого призыва именно во дворце, во всем блеске придворной помпы…
Все соглашались, так как все знали, что эта мысль принадлежала самому Горемыкину.
– Поверьте, – продолжал он, – на членов Думы, особенно на крестьян, все это произведет громадное впечатление. Ведь как бы в их честь перед государем понесут императорские регалии, осыпанные драгоценными камнями. Мне сейчас говорили, как один мужичок, из членов Думы, в первый раз в жизни войдя в Зимний дворец, ахнул, перекрестился и воскликнул; "И да этакое-то величие посягать!.." Не правда ли, как это характерно!..
Председатель царского Совета министров заблуждался. На одном из первых же заседаний Думы один из ораторов восклицал под гром рукоплесканий:
– Вы видели на днях все эти золотые мундиры? Вес эти ненужные побрякушки – эти царские регалии, усыпанные бриллиантами! Господа, ведь это кристаллизованный пот трудового русского народа!..
А шествие, на которое так рассчитывал Горемыкин, было действительно внушительным. Оно открывалось скороходами в их необыкновенных головных уборах, за ними шли церемонийместеры и гофмаршалы с жезлами и длинная лента "придворных чинов и кавалеров" в золоченых мундирах, по два в ряд. Затем статс-секретари и генерал-адъютанты несли императорские регалии; по сторонам шли двенадцать дворцовых гренадеров в громадных медвежьих шапках, с ружьями на плече. Регалии должны были олицетворять мощь и незыблемость императорской власти: государственная печать, государственное знамя, государственный меч, держава с громадным сапфиром, на котором был укреплен бриллиантовый крест, скипетр со своим исключительным по величине алмазом Орлова и, наконец, знаменитая екатерининская корона в пять тысяч бриллиантов и жемчугов с громадным рубином в четыреста карат, самым большим в мире.
Царь и обе царицы заняли место на тронах, под балдахином, в Георгиевском зале, там, где ныне – знаменитая карта Советского Союза из самоцветных камней.
О правой стороны огромного зала разместилась точно из золота и серебра шитая стена высших сановников и придворных. И вся эта ослепительная "стена" с изумлением, жадным любопытством и неописуемым ужасом глядела на левую сторону, отведенную для Государственной думы. Там стояла толпа, которую никогда еще не видели стены Зимнего дворца. "Интеллигенты", в пиджаках, крестьяне в поддевках и смазанных сапогах, белорусы в белых свитках, горцы в черкесках, азиат в халате и даже какой-то дядя в… светлом спортивном костюме из полосатой фланели и желтых башмаках!..
Царь произнес свою речь неуверенным голосом, волнуясь и запинаясь, вопреки ожиданию многих, ничего не сказав об амнистии.
Когда он кончил, на несколько секунд воцарилось неловкое молчание. Царь стоял растерянно, ожидая чего-то. Наконец с правой, раззолоченной стороны раздались крики "ура!". Но на левой почти никто не откликнулся. И это молчание было зловещим.
Придворные расходились в смущении, стараясь не обмениваться впечатлениями. Боясь народа, даже Дума, избранная самым недемократичным путем, отказывалась служить ширмой обреченному строю. У императрицы Александры лицо покрылось красными пятнами, и глаза ее выражали негодование.
Глядя на угрюмо молчавшую толпу на левой стороне зала, многим, вероятно, на правой показалось, что вот-вот перед ними разверзнется пучина.
У выхода отец оказался рядом с одним из виднейших военных сановников – генерал-адъютантом Клейгельсом, бывшим петербургским градоначальником. Тот был мрачнее тучи. "Империя умирает…", – проговорил он глухим голосом.
"У меня как-то болезненно сжалось сердце, – рассказывал отец, – но я пробовал отшутиться: "Ну на наш век хватит!" – "Я постарше вас, на мой – может быть, на ваш нет", – отвечал Клейгельс.
Так, кстати сказать, и случилось…
Но страшный урок первой революции был забыт людьми из "нашего мира". В годы между этой революцией и первой мировой войной, годы внешнего спокойствия и бурного роста капитализма, они вновь, по-горемыкински, предались самоублажению, в надежде, что хватит на их век и даже на век их сыновей!..
Глава 3
Накануне революции
Еще до лицея у меня произошла встреча, оставившая воспоминание на всю жизнь.
Уходя от приятеля, я спутал двери и вместо передней оказался в гостиной. Там сидели хозяин дома – важный генерал, его жена, еще интересная дама, и странный чернобородый человек, на которого я тотчас обратил внимание. Странность его заключалась в том, что это был мужик, самый подлинный по внешнему виду, но мужик праздничный, разукрашенный, в шелковой голубой рубашке, синих шароварах и лакированных сапогах. Как попал он в гостиную?
С детской чуткостью я сразу угадал, что хозяева смущены моим появлением. Но было уже поздно. Я поздоровался, и они, очень почтительно обращаясь к странному человеку, представили меня ему, назвав при этом должность, которую занимал тогда мой отец. Тон их примерно был тот же, что у моих родителей, когда они разговаривали с виленским архиепископом. Да и бородач в шароварах сказал мне совсем как тот: "Хороший мальчик, хороший" – и покровительственно похлопал по плечу.
Я поспешил ретироваться, а когда спросил у моего товарища, так и не вошедшего в гостиную, кто это, он ответил:
– Распутин.
Об этой встрече вспоминал я особенно часто летом 1916 года по дороге из Петрограда на фронт. В офицерских вагонах, в станционных буфетах имя Распутина буквально гремело. Его бранили на все лады, обвиняли в том, что он продает немцам Россию. Совершенно не стесняясь, офицеры называли одновременно императрицу. Дома и в лицее я тогда еще таких разговоров не слышал, и они рождали во мне смущение, а вместе с тем какое-то веселое чувство, как часто бывает в юности перед грозой или необычными и волнующими событиями. Больше же всего дразнил мое любопытство сенсационный характер таких разговоров: мне шел только пятнадцатый год.
Почему же, спросит, вероятно, читатель, ехал, я в таком возрасте на фронт? Тайком, что ли, от родителей? Как юный доброволец, рвущийся в бой?
Нет, геройства с моей стороны не было, не было и побега, и эту поездку организовала сама моя мать.
Как я уже отмечал, старый режим имел для привилегированных лиц весьма положительные стороны. В самом деле, возможности их были поразительны.
На нашем Западном фронте наступило затишье. Санитарный отряд, возглавляемый моей матерью, был отведен в тыл на продолжительный отдых. Воздушные налеты были в ту войну редким явлением. Вот моя мать и решила, что месяца два в отряде будут для меня приятными каникулами и в то же время полезной школой. А чтобы я не забывал английского языка, меня отправили туда вместе с гувернером-англичанином.
Доехали мы благополучно до последней станции, где-то на барановичском направлении. Но там произошла путаница. Высланный из отряда автомобиль запоздал. По шоссе то и дело проходили машины, и мы решили не дожидаться. Однако для нас обоих места ни в одной не нашлось, так что гувернер и воспитанник оказались разъединенными. На каком-то повороте машины разминулись: та, где сидел гувернер, умчалась в сторону. В результате я приехал в отряд через час, а гувернер пропал на целые сутки.
На другой день мою мать вызвали по телефону из штаба далекой дивизии.
– Хотите услышать бесподобную историю? – сказал знакомый генерал. – Представьте себе, ко мне доставили чуть ли не с передовой линии какого-то англичанина в нашей санитарной форме, который обращался к идущим в окопы солдатам с одним и тем же вопросом: "Где миссис Лубимоф?" По-русски – ни слова! Да и по-английски мало что может объяснить. Говорит, что его удостоверение осталось у вашего сына. Ехал в отряд, а в какой – не знает, вообще ничего не знает и своим начальством признает только "миссис Лубимоф". В полной растерянности, изнеможен. Я его накормил и уже выслал к вам с провожатым.
Фронтовой мой опыт невелик.
Погоны у меня были особые: с серебряным галуном, как у "чиновников без чина" (была такая категория). Но, несмотря на скромность моего официального положения, санитары вытягивались, когда я к ним обращался: я был для них прежде всего сыном попечительницы.
И все же этот опыт приоткрыл мне на миг какую-то завесу.
Рядом с нами отдыхала кавалерийская часть. Проходя через ее расположение, я услышал громкий, обрывающийся голос и увидал офицера, распекающего солдата. Офицер был щупленький, совсем молодой, он очень горячился и размахивал руками. Рослый, усатый и уже пожилой солдат стоял перед ним навытяжку. Глаза его были опущены, губы вздрагивали, но он ничего не отвечал.
– Я тебе покажу – прохаживаться с папиросой в зубах! Да еще честь не отдавать офицеру! Скажешь: не видел!.. А на что у тебя глаза, дурак?
Язык у офицера немного заплетался, и я понял, что он выпил.
– Небось не пикнешь сейчас! Испугался? Знаю я тебя! – продолжал офицер, все более возбуждаясь.
Вдруг он как-то дико вздернул рукой и ударил солдата.
Тот не шелохнулся, только лицо его стало как полотно.
Это ли с новой силой взорвало офицера или, удалив раз, захотелось ударить еще?
И снова звук пощечины.
– Получил?
Сунув руки в карманы, офицер отошел нетвердой походкой. Солдат продолжал стоять неподвижно.
Сцена эта страшно меня поразила.
Я спрашивал затем у многих офицеров, часты ли подобные случаи. Ответы были уклончивы. Никто этого не одобрял, но большинство и не возмущалось, предпочитая переводить разговор на другую тему. Только один старый полковник сказал мне прямо:
– Это срам. Но ничего против этого не поделаешь. Без буйства не обойтись, пока господ офицеров не будут наказывать за такие дела. Всякие ведь бывают люди… Вот и хочется кой-кому покуражиться над безответным мужиком.
Мне хотелось утешиться мыслью, что на это способны только армейские "недотянутые джентльмены". Недаром же сочинили стишок про мариупольских гусар:
В морду бьют на всем скаку
В Мариупольском полку.
Но компромиссного объяснения не получилось. Я узнал, что солдат бьют по лицу и в самых первых полках гвардии.
– Да, бывает, хоть и реже, чем в армейских частях… – с неудовольствием отвечал на мои вопросы гвардейский ротмистр. – Вот война пройдет, может, и с этим покончим, – добавил он и тоже заговорил о другом.
"Наш мир" казался мне избранным, достойнейшим, и потому я ухватился за эту смутную надежду. Она ведь позволяла и мне не задумываться над подлинными основами нашего строя.
На фронте я простудился, доктора признали воспаление легких. Так и окончилась моя «боевая эпопея». Меня отвезли в Минск, Незадачливого гувернера отправили в Петроград, а вместо него выписали оттуда мою старую няню.
В Минске я пролежал около месяца в лучшей тогда гостинице "Европа". Моя мать наезжала в город (где был штаб фронта), останавливалась в соседней комнате и часто приводила ко мне лиц, ее навещавших.
Помню, раз ввела она двух очень важных особ: бывшего министра земледелия Кривошеина, с горя возглавившего после отставки краснокрестные организации Западного фронта, и генерала, командовавшего одной из армий этого фронта.
Кривошеин часто бывал у нас в Петербурге; о нем родители говорили как о видном политическом деятеле, честолюбивом и одаренном, которому симпатизирует Дума, так как он покинул свой пост из-за разногласий с царем. Оба вошли, продолжая начатый разговор.
– Не унывайте, Александр Васильевич, – басил командарм, пропуская вперед Кривошеина. – Ваше время скоро придет!
– Не думаю… Я ведь не из фаворитов Григория Ефимовича, – отвечал тот с деланной улыбкой.
– Но так дальше продолжаться не может, – возражал генерал. – С этим прохвостом будет скоро покончено.
– Дай-то бог, дай-то бог! Пора!
Затем оба сделали вид, что интересуются моим здоровьем, и заговорили с моей матерью о другом.
Этот Григории Ефимович, которого старый боевой генерал называл прохвостом, с чем, очевидно, соглашался его собеседник, царский статс-секретарь, был Распутин, фаворит царя и царицы. Опять сенсационный характер таких речей (и в таких устах!) поразил меня. Кажется, именно после этого разговора у меня проявился острый интерес к политике.
Вскоре по возвращении в Петроград я вновь услыхал о Распутине уже по поводу, непосредственно касавшемуся моего отца.
После Вильны отец занимал ряд довольно значительных постов: был директором департамента государственных имуществ, затем товарищем главноуправляющего высоким учреждением, именуемым "Собственной его величества канцелярией по принятию прошений, на высочайшее имя приносимых" (эта должность по рангу соответствовала товарищу министра и давала право на личный доклад царю). В начале войны, когда царское правительство решило ухаживать за поляками, он отправился в Варшаву в качестве помощника генерал-губернатора по гражданской части, а позднее вступил в полное управление всеми польскими губерниями, но это уже не имело особого значения, так как там были немцы… Фактически отец оказался не у дел, считал, что это несправедливо, и приписывал заминку в своей карьере враждебному отношению все того же Распутина и распутинцев.
В это время приехал к нему совершенно неожиданно некий архимандрит от имени петроградского митрополита, пресловутого Питирима. Архимандрит заявил, что Питирим очень хотел бы видеть отца на посту обер-прокурора Синода, то есть министра по делам православной церкви. Если он даст согласие, то митрополит будет настаивать на его назначении перед лицом, от которого это фактически зависит. Ответ желательно получить немедленно, так как лицо это "будет завтра же у владыки".
Предложение Питирима сулило назначение на один из самых высоких постов в государстве. Но отец отвечал уклончиво. Его удивили как самая форма предложения, так и неожиданная благосклонность к нему митрополита. Отец был близок к Кривошеину и прочим опальным сановникам, порицавшим "распутинскую политику". Между тем Питирим считался одним из главных ее проводников. Не было ли тут какого-то сложного маневра с его стороны?
Отец заявил архимандриту, что даст ответ лишь на официальное предложение.
Такового предложения не последовало. Очевидно, лицо, которое ждал Питирим, высказалось против кандидатуры отца. Кто же был этот таинственный человек, от которого зависели министерские назначения? Вскоре знакомый отца, занимавший в Синоде значительное положение, рассказал ему, что как раз в указанный день Питирим принимал у себя Распутина.
Теперь в нашем доме только и говорили об этих делах. Я стал зачитываться газетами: "Как интересно! Как поразительно!" – думалось мне. Не я один, многие мои сверстники из того же круга развились раньше времени (хотя и односторонне), наслушавшись вокруг себя тревожных речей с постоянными присказками и возгласами: "Куда мы идем?!.. Это неслыханно!.. Так продолжаться не может!"
Словно дело шло об авантюрном романе, мы жадно следили за развитием событий, но сущность их совершенно ускользала от нас.
С осени 1916 года весь лицей охватила лихорадка. Но прежде чем говорить об этом, расскажу об одном событии, происшедшем в его жизни.
Над директором лицея стоял попечитель, обязательно бывший лицеист. На место умершего бывшего министра Ермолова был назначен на эту должность граф Коковцов, бывший премьер.
Коковцова я часто встречал впоследствии в Париже, где он стал директором банка, не раз беседовал с ним. Это был в некотором отношении типичнейший Каренин: всю жизнь проработав в сферах служебных, он видел не самую жизнь, а только ее отражения. Но в том, что касается способности разбираться в них, он, вероятно, не имел себе равных. Коковцов представляется мне законченным олицетворением канцелярской машины. Он изучил досконально все ее винтики и упивался своей осведомленностью, считая ее выражением подлинного государственного ума. Но в первую очередь упивался он самим собой. Я не припомню более самовлюбленного человека. В бюрократическом мире Коковцов славился словообилием, речь его текла как ручеек, причем решительно все вопросы политики, управления умел он сводить к собственной персоне.
По случаю первого приезда нового попечителя все классы были выстроены в актовом зале, по обе стороны портрета Александра I, "кочующего деспота" и "плешивого щеголя", которому Пушкин все же готов был простить многое за две памятные удачи: "он взял Париж, он основал лицей".
Хоть Коковцов был совсем малого роста, он всегда производил впечатление своей важностью – такая уж у него выработалась осанка. Холеный, медлительный в движениях, напыщенный. Говорил он нам чуть ли не целый час. Мы стояли навытяжку. В середине речи что-то дрогнуло в строю – это подхватили лицеиста, с которым сделалось дурно. Через десять, минут опять: вынесли второго. А Коковцов все говорил, причем темой его давно уже был не лицей, а он сам и его неусыпная деятельность.
Горемыкиными и Коковцовыми заканчивается предпоследняя страница самодержавия. Они выражали затхлое мировоззрение, отживший, выхолощенный строй, но они впитали в себя рутину власти и старались охранить свой бюрократический престиж.
Последняя страница самодержавия – это царство проходимцев, не уважающих ни собственной власти, ни самих себя, царство безответственных авантюристов, политических шутов, просто жуликов, царство, как говорили тогда, темных сил.
Осень – зима 1916 года.
Как только мы в отпуске, то есть не в лицее, летим на Невский, в кинематограф (тогда не говорили "кино"). Какие фильмы! "Поэма страсти" или "Под знаком скорпиона", "Таинственная рука", "Вампиры" и еще заманчивее – "Отдай мне эту ночь".