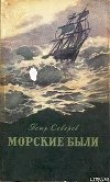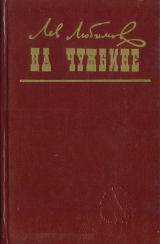
Текст книги "На чужбине"
Автор книги: Лев Любимов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 27 страниц)
Но и Народному фронту не суждено было обновить Францию. Французские правящие круги ясно поняли опасность, все свои силы и волю направили на борьбу с ней и в год-другой рассеяли на какое-то время нависшую угрозу.
Март 1939 года. Я говорю знакомому французу из буржуазии:
– Ведь это очень серьезно! Захватив Чехословакию, Гитлер заручился огромным козырем. На чехов как на бойцов во имя Германии ему, конечно, рассчитывать не приходится, но он использует их как рабочую силу, которая позволит отправить на фронт возможно большее число немцев.
– Ничего! – отвечает мой собеседник. – Важно только продержаться нужное время. А затем к нам на помощь подоспеет Англия со своими огромными ресурсами. А Америка? Ведь она не даст нас раздавить?
Этот француз, подполковник запаса, доктор юридических наук – директор крупного предприятия. Но мне кажется, что он рассуждает, как ребенок, который боится, что у него отнимут любимую игрушку. Я возражаю:
– Но как вы продержитесь? Ведь Польша, на которую вы рассчитываете, это не Россия. Немцам не придется отправлять на Восток половину своих сил, как австро-германской коалиции в 1914 году.
– Ничего! Польша продержится. Послушайте, мой дорогой, я к вам лично питаю большую симпатию, да и вообще очень ценю русских… Среди них ведь имеются замечательные артисты! Вот видите этот раскрашенный абажур? Это – творчество вашего соотечественника, несомненно весьма одаренного человека. Но разве вы вояки? Что сделала Россия в 1914 году? Только ввела нас в заблуждение. Право, нам теперь легче будет и проще, так как мы вступаем в войну, не надеясь на ее помощь. А наши солдаты покажут себя снова, как под Верденом! Это вам не русские мужички! Ха-ха-ха! Вы читали, как генерал Вейган – а ведь это наш самый умный военачальник – объявил, что французская армия и по духу, и по технике, и по уровню командного состава находится на совершенно беспримерной высоте? Что вы на это скажете?
Все забыл! Ничего не знает! Ни того, как Франция молила Россию о помощи в критические дни перед Марной, ни того, как Россия, обливаясь кровью, ей помогла, ни того, как французские военачальники благодарили Россию и тогда и в последующие годы войны. Ничего не хочет знать! Потому что ему дорога игрушка; он думает, как сберечь свое добро, а не о том, как подготовиться к войне. А посему лучше всего забавляться игрушкой, то есть отвечать на всякое предупреждение самым простым образом: "Ничего!" "Ах, эти русские с их вечным "ничего"! – так французы издавна шутили над нами, находя в этом термине особенно характерное выражение нашей, мол, исконной "беспечности", нашего "фатализма". Теперь хоть не этим русским словом, а своими французскими, но такого же смысла, они тешат себя в спасительном самоублажении. А оно действительно благотворно для послеобеденного приятного пищеварения.
Но за свой кошель они держатся крепко.
– И наконец, что несет теперь ваша Россия? – продолжает подполковник запаса, доктор юридических наук. – Большевизм! Красная Армия для боя с немцами не годится – значит, нечего и домогаться ее помощи. Нет, нет и нет, никакого соглашения с большевиками!
Ах, как были утешительны разговоры в парижских гостиных предвоенных месяцев!..
– …Коррупция, темные силы, разложение парламентаризма – все это верно. Но ничего! Этим недугом Франция страдает уже полстолетия. Панамский скандал не уступал ведь делу Стависского. И что же? Все-таки выиграли войну. Нашелся Клемансо! У нас всегда в нужную минуту находится крупный человек!
– …Я только что из министерства иностранных дел. Наш берлинский поверенный в делах де Сент-Ардуен доносит, что Гитлер напуган мощью французской авиации. Это очень симптоматично!
– …А вы слышали, полковник Бек заверил нашего посла в Варшаве, что Польша не отступит ни на шаг перед немцами. Польская армия – это крупнейшая сила!
В этот предвоенный период я встретился на одном завтраке с тогдашним морским министром Кампенки. Я его немного знал. В качестве адвоката Кампенки выступал в ряде антисоветских процессов. Это был очень известный и ловкий адвокат, славившийся своим красноречием. Несколько шокировало меня в нем следующее. На большом процессе, полемизируя со своим оппонентом, адвокатом-парламентарием, Кампенки с неподдельным пафосом объявил (я сам это слышал): "Вы не только адвокат, но и политик! А меня интересует одно правосудие! Я политикой никогда не занимался и заниматься не буду. Потому что политика мне претит органически". И вот, несмотря на это громогласное и категорическое заявление, Кампенки погрузился затем в самую гущу политики, стал депутатом, виднейшим членом партии радикалов, попал, наконец, в министры.
Вспомнив наши предыдущие встречи, Кампенки сказал мне конфиденциально:
– Если грянет война, русской эмиграции суждено будет сыграть в ней свою роль. Мы смотрим далеко вперед. По Советскому государству будет нанесен удар… Так или иначе!..
Кстати, этот завтрак давался Гукасовым. Среди приглашенных был и великий князь Андрей Владимирович. Кого посадить на главное место? Русского великого князя? Но ведь он неофициальное лицо. А Кампенки – министр страны, оказавшей нам приют. Как же поступить, не обидев ни того, ни другого?
Долго ломали мы с Гукасовым голову над разрешением этой проблемы. И в конце концов нашли выход. Сам хозяин, то есть Гукасов, сел где-то сбоку длинного стола, а Кампенки и Андрей Владимирович – друг против друга, каждый как бы во главе этого стола. Начиная с них, два лакея одновременно подавали им блюда.
После завтрака, однако, вышла заминка. Кому выйти первому из столовой? С чисто французской учтивостью Кампенки буквально заставил Андрея Владимировича пройти перед собой, сказав, что "его ноги отказались бы повиноваться", если бы он, Кампенки, не уступил дороги.
Перед самой войной приезжал в Париж мой приятель с детских лет Борис Пименов. Это был виленский богач и депутат польского сейма. Сын «старообрядческого короля» (так называли его отца в Вильно, где было много старообрядцев, некогда переселившихся туда из России), он владел крупнейшими доходными домами, многими предприятиями и угодьями. В польский сейм Борис. Пименов прошел по правительственному списку пилсудчиков, но за отсутствием там других русских фактически представлял в польском парламенте русское меньшинство. Он был близко связан с польскими правящими кругами, которые очень считались с ним как с крупнейшим капиталистом виленского воеводства.
Мы провели вместе вечер в ресторане. Пользуясь давнишней дружбой, я подробно расспрашивал обо всем. Борис Пименов высказал такие соображения:
– Польша, конечно, никогда не согласится на помощь Красной Армии. Я беседовал на эту тему не только с министрами, но и виднейшими представителями польского генерального штаба. Польская армия исключительно сильна. Гораздо сильнее, чем думают в Германии. Я не могу говорить об этом подробнее, так как это военная тайна… Но факт есть факт: в военном отношении Польша во многом уже опередила Германию. И потому, хоть польская армия численно и уступает германской, Польша может продержаться против немцев одна по крайней мере полгода. Да, полгода! Таково глубокое убеждение польского командования. А через полгода Франция и Англия так насядут на немцев, что им будет капут!
Часть третья

Глава 1
Странная война
Во вторую мировую войну русские эмигранты, бесподданные, были мобилизованы во французскую армию.
Эта мера, кажется, не имеет прецедентов.
От русских эмигрантов, не участвующих во французской политической жизни, не имеющих права голоса, и, значит, никак не могущих считать себя частью какого-то французского единого целого, связывающего их общностью интересов, потребовали самой большой жертвы, на которую государство может рассчитывать со стороны своих полноправных граждан: жертвы кровью. При этом, обещая мобилизованным русским всякие льготы и уравнение в правах на труд, французские власти отказывались распространять эти льготы на членов их семей.
После соответствующего решения правительства (это было, если не ошибаюсь, примерно за полтора года до войны) русские эмигранты вызывались в полицейские комиссариаты, где с каждого бралась подписка, что в случае мобилизации он не возражает против призыва под французские знамена. О, подписка эта была объявлена вполне добровольной! Хотите – подписывайтесь, хотите – нет! Но неофициально разъяснялось, что не давшие подписки не только будут лишены права на труд, но и высланы из Франции. А так как высланному из Франции "апатриду" некуда было ехать, ибо ни одна страна не впустила бы его на свою территорию – не "подчиняющийся" же приказу о высылке карался тюрьмой, – то и получалось, что отказ от такой "добровольной подписки" означал для эмигранта трагедию, и потому фактически дали свою подпись все…
Хорошо еще, что русские были мобилизованы для участия в войне против фашистской Германии, впоследствии напавшей на Советский Союз.
Немало русских попало таким образом во французскую армию, и попало бы еще больше, старших возрастов (как, например, пишущий эти строки), если бы дольше длилась война. Многие среди них отличились, заслужили французские боевые ордена, многие обагрили своей кровью французскую землю, многие, разделив участь чуть ли не всей французской армии, томились затем годами в германских лагерях для военнопленных.
После освобождения Франции нашлась сердобольная русская женщина, которая посвятила себя розыску останков русских, погибших под французскими знаменами, чтобы свезти их на большое русское кладбище, стихийно возникшее в Сен-Женевьев-де-Буа, под Парижем, возле дома-убежища для престарелых русских эмигрантов.
На этом кладбище, которое открывается маковкой красивой церкви, как уголок старой России среди французского пейзажа, покоятся теперь мои родители и тысячи других русских, много лет томившихся на чужбине, людей часто заблудших, безвестных, а вместе с ними и те, чьи имена так или иначе вошли в нашу историю: Сазонов, русский министр иностранных дел, которому германский посол вручил в 1914 году грозную ноту об объявлении войны; Бурцев, разоблачивший Азефа, а затем в эмиграции работавший сообща с теми, которые некогда нанимали Азефа; Петр Струве, всю жизнь воевавший с Лениным, возможно так и не догадавшись, что только Ленин своими ссылками на него обеспечил его имени своеобразную долговечность; Дмитрий Мережковский, так и не переборовший в себе злобы к новой России; последний корифей русской классической литературы Иван Бунин, почти сорок лет безутешно, буквально страдальчески, тосковавший по покинутой им отчизне; самая славная представительница эмигрантской смены, молодая русская героиня Вика Оболенская, о которой речь впереди.
Русским воинам, павшим в рядах французской армии, воздвигнут здесь прекрасный памятник.
Где бы он ни был, русский человек редко тонет в общей массе. И свою самобытность, свою русскую душу любит и умеет он показать, порой осуществляя на чужбине начало того процесса, который на протяжении веков так часто приводил к абсолютной (потому что действительно без остатка) русификации переселившихся к нам иностранцев. Мне рассказывали про французскую часть, шедшую к линии Мажино под марш из «Веселых ребят» (ах, как популярен был этот фильм в эмиграции!)" между тем как звонкий русский голос разносил по французским полям советскую песнь, которая «скучать не дает никогда». Или о том, как, собравшись вечером вокруг костра, французские солдаты заставляли своего русского товарища вновь и вновь исполнить «Скажи-ка, дядя, ведь недаром Москва, спаленная пожаром, французу отдана».
Но были и такие случаи.
Уже пожилой человек, капитан старой русской армии, получивший после соответствующего (очень строгого) экзамена звание французского младшего лейтенанта, рассказывал мне с горечью, как в дни бегства вейгановской армии он тщетно приказывал французским солдатам создать какое-то заграждение на дороге, где вот-вот должны были промчаться немецкие мотоциклисты. Распознав по акценту, что он не француз, деморализованные солдаты кричали, убегая в лес: "Эти паршивые иностранцы хотят нас заставить сопротивляться!"
Увы, это не анекдот… "Паршивые иностранцы" (сал-з-этранже) – так нередко выражались особенно грубые полицейские, молодчики из фашистских лиг да обуреваемые брюзжащим обывательским шовинизмом мелкие буржуа, крепко забывая о том, что подавляющее большинство иностранцев, проживающих во Франции, приехали туда после первой мировой войны на основании рабочих контрактов, когда Франция нуждалась в рабочей силе. Но в этих словах убегающих солдат по адресу офицера, призывающего их к исполнению долга, звучало уже нечто иное: бессмысленная, отчаянная ярость людей, которым плюнули в душу. Ибо трагедия 1940 года была действительно плевком в душу обманутого своим правительством, беспощадно брошенного им на убой, а затем на произвол судьбы (страшной судьбы, диктуемой торжествующим врагом) французского народа.
…Впоследствии французские полицейские чиновники, из тех, которые прислуживали гитлеровской власти, заявляли не раз русским эмигрантам при оформлении документов:
– Ага! Участвовали в войне! Неужели не могли увильнуть? Ведь это же была не ваша война! Что и говорить, нежелательные иностранцы…
Однако призывом под знамена не ограничились в эти дни мероприятия французских властей по отношению к русским эмигрантам.
В ночь на 2 сентября 1939 года, одновременно со всеобщей мобилизацией, были произведены массовые аресты так называемых "нежелательных иностранцев". Из русских в эту категорию попали некоторые лица, скомпрометировавшие себя как гитлеровские агенты. Но главный удар был нанесен не по ним. В Париже, Лилле, Гренобле – по всей Франции были арестованы чуть ли не поголовно члены бывшего "Союза возвращения на родину", переименованного к тому времени в "Союз друзей советской родины", члены "Союза оборонцев", то есть русские, открыто занимавшие патриотическую позицию. Обе организации были разгромлены, все их имущество и архивы конфискованы. По подозрению в "большевизанстве" были арестованы многие русские, не входившие ни в какие организации, но восстановившие против себя полицейские власти своими "подозрительными", то есть патриотическими, высказываниями.
Да, в тот момент, когда Франция вступала в схватку с гитлеровской Германией, русские патриоты объявлялись "социально вредным элементом", от которого надлежит избавиться "во имя национальной обороны и общественной безопасности"…
В эту ночь в парижской префектуре полиции творилось нечто неописуемое. Туда свозились со всех концов города задержанные. В огромном зале префектуры стояла непроходимая толпа. В ней вместе с русскими эмигрантами находились коммунисты испанские, польские, итальянские, немецкие, все вообще иностранцы, в которых власти видели потенциальных противников антинародного политического курса.
Из префектуры задержанных развели по тюрьмам. "Особенно опасные" попали в одиночное заключение. Французская полиция пыталась сфабриковать грандиозное дело о шпионаже, в каковом преступлении были, в частности, обвинены члены "Союза друзей советской родины" и "оборонцы". Однако за полным отсутствием улик военно-полевой суд, разбиравший "дело" заочно, был вынужден прекратить следствие. Заключенных вывели из камер, собрали во дворе и там сообщили им, что они больше не находятся под следствием. По вслед за тем им объявили "дополнительно", что все они высылаются в административном порядке как "нежелательные иностранцы". Мужчин отправили в лагерь Верне, около Тулузы, женщин – в лагерь Риокрос, в центре страны.
В лагерях томились уже тысячи испанских республиканцев. Многим русским суждено было разделить их участь. Кормили их впроголодь, в лагерях свирепствовали эпидемии, детская смерть (туда отправлялись и беременные женщины) была особенно велика.
Так буржуазная Франция расправилась с темн русскими, которые всей своей психологией, волей к борьбе, непримиримостью к фашистской агрессии были ближе всего к французскому народу.
* * *
Подобная прыть, проявленная французским правительством в деле мобилизации бесподданных и ликвидации «нежелательных элементов» создавала у некоторых впечатление, что оно не останавливается ни перед чем во имя войны и… победы над врагом. Но на самом деле такой прытью была отмечена лишь его внутренняя политика, выразившаяся в роспуске коммунистической партии, аресте и предании суду депутатов-коммунистов. В этом отношении буржуазная Франция, что называется, показала себя. Но в политике внешней, то есть в данном случае в войне, ни о какой прыти говорить не приходилось. Буржуазная Франция, по меткому определению самих же французов, подлинно вступила в «странную войну», и вся активность ее в этой войне выразилась в первую очередь в болтовне: болтовне во имя самоуспокоения, самого сугубого самоуслаждения.
Когда я вспоминаю о периоде от нападения Гитлера на Польшу до нападения его на Францию, мне всегда кажется, что германской агрессии буржуазная Франция решительно ничего не противопоставила, кроме болтовни.
"Мы победим, потому что мы сильнее" – это болтовня печатная. Такая надпись красовалась на расклеенной по городу карте обоих полушарий, где одним цветом были выкрашены Англия и ее владения, Франция и ее владения и Польша, а другим – Германия. Получалось, что Германия какой-то пигмей, которого таким колоссам, как Англия да Франция (с придачей или без придачи кстати уже оккупированной Польши), так же легко раздавить, как обыкновенного клопа. Глядя на эту карту, буржуа-обыватель самоуслаждался: "Вот как хорошо! Можно, значит, не беспокоиться".
"Линия Мажино неприступна!" Это твердили в один голос радио и печать, генералы в обращениях к войскам и генеральши за чашкой чая, министры и актрисы, консьержки (от есть дворничихи) и маклеры, масоны 33-го градуса и епископы, финансисты и штабные писаря, а особенно настойчиво сами мобилизованные, которые, отправляясь на фронт, всячески убеждали себя, что им предстоят какие-то особые, государством оплаченные каникулы в благодатной тени железобетонной твердыни: Впрочем, винить их не следует: в том же крепко убедили себя их командиры, кадровые офицеры, прямо заявлявшие солдатам, что в этой войне доблестным защитникам Франции не придется опасаться за свою жизнь.
Оказалось, что еще жива почтенная мадам Мажино, мать покойного министра (кстати, большого кутилы и игрока), по инициативе которого и была сооружена эта пресловутая "линия". К престарелой даме направились депутации, ее благодарили на все лады и в речах и в печати за то, что она родила такого сына. "Ведь подумайте, благодаря Мажино мы можем быть совершенно спокойны!" Почему? А потому, что волк (сиречь Гитлер) никогда, мол, не осмелится вылезти из своего логовища, раз перед ним этакая махина!
Да, то была действительно странная война! И разговоры были странные: "Нужно думать, думать и думать! Нынешний конфликт совсем особый, а потому разрешится иначе, чем предыдущие войны. Но как? Вот об этом-то и следует думать каждому из нас…" Думать, но не действовать. В самом деле, в плане "раздумья" некоторые из них достигли даже в это беспримерное время весьма примечательных результатов. Например, Генерал Гамлен, верховный главнокомандующий, всеми признанный военный авторитет, которого славили на все лады за ясность и проницательность ума. И не напрасно! Этот генерал тоже предавался "раздумьям", которыми в минуты досуга делился со своим окружением, благодаря чему они и дошли до нас. Итак, углубляясь в "раздумья", французский главнокомандующий "видел" духовным оком очень многое: и массовую атаку механизированных дивизий, и массовую бомбардировку с воздуха, обходы, прорывы – короче говоря, маневренную войну, вовсе не похожую на окопное сидение 1914–1918 годов. "Видел", но и только. Если бы и ничего "не видел", действовал бы так же. Так как на практике этот генерал крепко придерживался духа и буквы, самим Петэном одобренных, пресловутых инструкций по руководству в бою крупными соединениями, каковые инструкции сводили к сущим пустякам роль механизированных частей, танков и авиации, опять-таки вполне подтверждая неприступность линии Мажино.
Надо полагать, что такие "раздумья" мало приносили радости генералу Гамлену, ибо, чтобы претворить в действие их плоды, требовалось перевернуть вверх дном всю психологию, все установки, все мировоззрение правящего класса Франции, что, очевидно, было ему не под силу.
А потому большинство проповедовавших, что надо "думать, думать и думать", сами думали не о главном (оно могло оказаться слишком страшным), а всего только о том, что помогало забыться, уйти от действительности.
В какие-нибудь две недели хваленая Польша Пилсудского, кстати, только на словах поддержанная Францией и Англией, разлетелась в щепки под ударами гитлеровского сапога. Примечательно, что это событие как-то очень мало вызвало комментариев не только в печати (где всего нельзя было писать), но и в частных беседах. "Ничего! Это Польша, а мы другое…" Зато когда Красная Армия вступила в Польщу и тем предотвратила захват всей страны немцами, во французском буржуазном мире раздался сплошной стон: "Какой ужас! Несчастная страна! Это возмутительно! Это требует мщения!" Кажется, так просто было понять, что вмешательство Красной Армии невыгодно Германии, а значит, выгодно Франции, которая находится с Германией в войне. Но понять это – означало бы признать самый факт настоящей войны с Германией, что подействовало бы очень неблаготворно на пищеварение французского буржуа. "Это война особая, – говорил он. – Немцы помнят, как мы их разбили на Марне и под Верденом. Волк знает, что ему лучше не вылезать из своего логовища". Посидит-посидит, а затем протянет лапу французскому буржуа и скажет ему, осклабившись:
"Живи себе, буржуа, в свое удовольствие. А я тем временем перегрызу горло злому большевику. Потом попируем вместе!"
Такова была заветная мечта этого буржуа.
Вспоминаю один обед, на котором мне это стало особенно ясно.
Хозяйка была русская, вышедшая замуж за француза, богатого рантье, интересующегося только своей коллекцией "марок. Он хоть и сидел с нами, но участия в беседе не принимал. Говорил же при этом без умолку единственный гость, кроме меня, – французский буржуа по фамилии Лагард. Этот г. Лагард имел ранг посланника и был тогда директором одного из департаментов "кэ д’Орсей" (так, по набережной, где оно помещается, французы называют свое министерство иностранных дел). По виду он казался очень воспитанным человеком, да таким, очевидно, и был в обычное время этот типичный, несколько "перекрахмаленный" дипломат. Однако в этот период истории Франции стихийная болтовня охватила даже чиновников самого осторожного в своих высказываниях ведомства. При этом в устах Лагарда болтовня приобретала особый, довольно курьезный характер. Он как бы размышлял вслух, философствуя на историко-политические темы тоном искушенного в таких делах тонкого и проницательного наблюдателя.
– Мы переживаем очень примечательное время, – объявил он, улыбнувшись (вероятно, не своим мыслям, а потому, что ему понравилось только что налитое из запыленной бутылки лакеем как рубины сверкающее вино). – Это закат! И все кругом нас озарено печальной красотой заката. Я порой сравниваю нас с последними римлянами. Да, как история повторяется! Народы, у которых самая благородная кровь, спускаются на арену, чтобы вступить в братоубийственный бой: французы, немцы, англичане. А вокруг варвары смотрят на них и ликуют.
– Кто же эти варвары? – спросила хозяйка.
– Как – кто? Американцы и русские. Это новые варвары, которые всем хотят завладеть и все растоптать. Первые – при помощи долларов, вторые – революционной доктрины.
Я было подумал, что Лагард считает нас уже не русскими, а парижанами, и потому не стесняясь называет русских варварами. Однако он продолжал:
– Американцев еще можно кое-как перевоспитать: ведь они с нами одинакового корня, А вы, русские, варвары в самом чистом виде: на всех русских татарская печать.
В отличие от старого литератора, суждения которого я здесь приводил, он не считал нужным разбавлять такие суждения оговорками, вставить хоть намек на комплимент по отношению к России.
– Вся история России варварская, – сказал он еще. – Пора, пора покончить с влиянием России на европейские дела, пора раз и навсегда загнать ее обратно в Азию и урезать как можно больше.
Я чувствовал, что вот-вот выйду из себя, а потому старался говорить как можно суше, официальнее:
– Господин посланник, слушая вас, можно подумать, что Франция в войне не с Германией, а с Россией..
– Ах, вы про эту войну! Слава богу, что это только "странная" война, Слава богу, что кровь еще не обагрила арену. Вот бы русские тогда радовались!
Этот дипломат, этот светский человек так ушел в болтовню, что уже не отдавал себе отчета в своем поведении. Хозяйка настойчиво переводила разговор на другую тему, но он упорствовал. Нам стало неловко, как бывает неловко от чего-то явно неприличного… А он этого так и не заметил и распрощался очень довольный: тем, очевидно, что наболтался всласть.
Французы самый учтивый народ, но в эти месяцы французские буржуа многому разучились: все средства хороши, когда ни за что не хочешь взглянуть действительности в глаза. Болтовня стала для них как бы пьянством.
Дело в том, что действительность жестоко обманывала буржуа.
За несколько лет до войны известный историк Пьер Гаксот, впоследствии попавший в "бессмертные" (так называют членов Французской академии), говорил мне с подчеркнутым глубокомыслием:
– Цель Гитлера – Восток. Вся французская политика должна быть направлена на то, чтобы не мешать Гитлеру. В походе его на Москву единственное спасение для Франции.
При этом Гаксот добавил:
– Такой поход может быть двояко спасителен: избавит Европу от большевизма и истощит германскую мощь. С большевиками немцы, вероятно, справятся, но это будет не так легко, как у нас полагают некоторые легкомысленные политики и генералы. Большевизм – крепкий орешек. Пусть немцы ломают об него зубы: нам это выгодно! А там будет видно…
Ныне "бессмертный" Гаксот, как видно, всегда был человеком серьезным, не любившим решать с кондачка мировые проблемы. Но хоть и более извилистыми путями, он тоже в своих рассуждениях искал всего-навсего самоублажения.
Но вот война началась, а дальше Польши Гитлер все еще не шел на Восток, между тем как французам пришлось мобилизоваться…
Как-то вечером я столкнулся на затемненном бульваре с Муратовым. Мы зашли в кафе, и он прочел мне свою очередную политическую лекцию, предварительно сообщив, что всего на несколько дней приехал из Лондона, где "твердо обосновался". Большего о характере своей тамошней работы он мне ничего не сказал. Но, как помнит читатель, деятельность этого некогда известного в России искусствоведа заключалась, по-видимому, в выполнении каких-то заданий органов английской разведки и пропаганды.
– Это чистейшее безобразие! – сказал мне Муратов. – Гитлеровское нападение на Польшу было настоящим разбоем.
– Павел Павлович, вы же некогда говорили, что в Гитлере единственное спасение Европы…
– Да, говорил, и так могло получиться в самом деле. Но Гитлер сглупил. Пусть он и гений, а все же дурак! Если бы после Польши он пошел на Москву, Англия бы благословила его на это дело. А так выходит черт знает что! Да, просто разбой! Теперь Англия будет защищаться, и по-настоящему. Англичане серьезный народ: всё подымут на ноги, но не помирятся и Гитлером.
Но в Париже болтовня продолжалась. В трудный период войны Советского Союза с Финляндией острие этой болтовни направлялось всецело против России.
Помню показ кинофильма, иллюстрировавшего историю Европы за двадцать пять лет, то есть с начала первой мировой войны: это был монтаж из старых хроникальных кадров. Вот парад русской гвардии в Красном селе, а вот парад Красной Армии на Красной площади. Комментатор, тоже один из "бессмертных", невозмутимо поясняет: "Ничего не изменилось, русская армия годится по-прежнему только для парадов".
Истинный психоз охватил в эти дни французские правящие круги. Достаточно нескольких боевых французских дивизий да беспощадной бомбардировки Баку, чтобы покончить с СССР! Надо опередить в этом деле немцев! Вот это будет настоящая, разумная, выгодная война! Правительство Даладье уже принялось было за снаряжение экспедиционного корпуса… Как вдруг – Красная Армия взломала линию Маннергейма. Психоз окончился. И пуще прежнего разгулялась болтовня.
Болтовня в чистом виде, даже уже без претензии на какой-нибудь смысл.
Мне случилось быть в Люксембургском дворце, где заседает Сенат, когда пришло известие о гитлеровском нападении на Норвегию. Радоваться было нечему, а для тревоги основания всё увеличивались.
Помпезность и гармонические пропорции этого дворца всегда наводили на меня особое настроение: все дышало в нем величием французской истории, блеском французского искусства. И оттого сами сенаторы, восседающие в крытых красным бархатом мягких креслах, казались тоже величественными и мудрыми.
В кулуарах мне повстречался правый сенатор Готро. Связанный с антисоветскими организациями во всех странах, давнишний покровитель эмигрантских активистов, он упорно, последовательно работал на войну против СССР. Вместе с немцами, без немцев – все равно! Это был человек очень заурядных способностей, дурной оратор, но кому-то, очевидно, полезный на мелких ролях из-за своей упрямой ненависти ко всему прогрессивному.
События развивались совсем не так, как предполагал Готро. Как же он на них реагировал?
– Ну что же, все очень хорошо! – поведал он мне. – Волк вылез из своего логовища. Это как раз нам и на руку. Да, да! А ведь это могло бы и не случиться… Конечно! Однако кто бы мог подумать?! Значит, обезумел – раз вылез наружу. А мы только этого и ждали! Хорошо, когда все ясно. Ясность – это лучшее свойство французского ума. Да, да! Несдобровать волку! О нет! Я мог бы по этому поводу многое сказать. Но нельзя. Военная тайна! Да, да! Вот видите, как… Вам все понятно, надеюсь?.. В интересное время живем… Итак, волк отважился. Это очень существенно!
И так далее, и так далее.
Я его не дослушал, поняв, что он может так говорить час, два, круглые сутки.
А на другой день вся французская печать (за закрытием коммунистической выходила только буржуазная) разразилась статьями, под любой из которых с удовольствием подписался бы сенатор Готро: всё о волке, который вышел из своего логовища, и о том, как это хорошо.
На своем веку я много написал такого, о чем жалею теперь. Тоже и в эти месяцы и последующие. Однако кое о чем я все же могу вспомнить с удовлетворением.