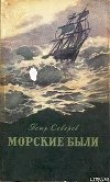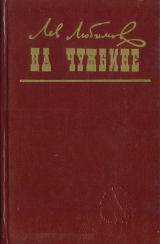
Текст книги "На чужбине"
Автор книги: Лев Любимов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 27 страниц)
Глава 5
В решающие годы
Эти записки не история, а лишь материал для историка. Потому и в этой главе о судьбах русской эмиграции в годы Великой Отечественной войны я дам лишь отдельные зарисовки, наблюдения и выводы.
Начну с предпосылки, как мне кажется, весьма существенной.
Политическое сознание русской эмиграции, воспитанной своими вожаками в слепой ненависти к советскому строю, было затуманено еще и тем обстоятельством, что германская оккупация благоприятствовала значительной части эмигрантов в материальном отношении.
Ксенофобия, в частности русофобия, разгулявшаяся во Франции во время "странной войны", больно ущемляла русских эмигрантов, законно раздражала их, а часто и озлобляла. Между тем оккупационные власти сразу же предложили русским работу в качестве переводчиков, управляющих реквизированными помещениями, служащих по хозяйственной части, шоферов (а сколько русских шоферов бедствовало после реквизиции такси!), поручили русским организацию военных столовых и т. д. Работа эта оплачивалась хорошо, а кроме того, ставила русских если и не в привилегированное, то, во всяком случае, в особое положение, уже ничего не имевшее общего с тем, которое связывалось так часто с кличкой "паршивого иностранца".
Немецкая военная администрация широко привлекала к работе русских, как людей, знающих французский язык, французские порядки и нравы и в то же время нейтральных. Итак, русские могли тешить себя мыслью, что служат посредниками между немцами и французами, помогая последним легче переносить чужеземную власть. Да, безрадостна судьба изгнанника: вечно звучит у него в ушах упрек за съеденный "чужой хлеб", хотя хлеб этот и достается ему тяжким трудом: поэтому ему дорога даже иллюзия морального удовлетворения.
И вот, несмотря на все это, мне кажется, что русская эмиграция в лучшей своей части, можно даже сказать – в основной своей массе простых людей, выдержала в годы войны экзамен патриотизма.
Проследить это не так просто. Немецкая власть прекратила деятельность всех старых эмигрантских организаций: не было больше ни собраний, ни диспутов. Вожакам эмиграции приходилось высказываться только в частных беседах. Созданная немцами новая единая организация эмигрантов (о которой речь впереди) объединила только самых верноподданных прислужников фашизма.
И все же в эмиграции обозначились два течения: одно – за родину и, значит, за советскую власть, другое – против большевиков.
Были также выжидающие, были и такие, кто, не изменяя своего враждебного отношения к советской власти, не верил в немецкую победу и возлагал надежду на американское вмешательство. Некоторые, наконец, желали победы Красной Армии, но воображали, что эта победа приведет к преобразованию социального и политического строя в России.
За отсутствием открытых собраний и нефашистских легальных органов печати первое течение кристаллизировалось в подполье, в борьбе, в участии в движении Сопротивления.
Сперва расскажу о некоторых из наиболее известных эмигрантов.
Шаляпина, Коровина, Ходасевича уже не было к этому времени в живых.
Алехин обосновался в Португалии и там окончил свою жизнь.
Рахманинов находился в Америке, где, как известно, незадолго до кончины передал советскому консулу сбор со своего концерта для раненых советских бойцов.
Иван Бунин прожил почти всю войну в Грассе, на юге Франции, сначала с тревогой, а затем с радостью и надеждой следя за ходом Великой Отечественной войны.
Борис Зайцев поверил в конце концов, что Красная Армия может задержать вермахт". Но никакого вывода из этого не сделал. С фашистами не пожелал иметь отношений, но остался вереи себе, именно себе, и только. "Всегда восставал против большевиков и буду восставать, что бы ни случилось!" Да, что бы ни случилось.." Очевидно, такое слепое постоянство дается некоторым людям легче, чем признание собственных заблуждений.
Алданов успел выехать из Парижа до прихода немцев и переселился в Америку, где, насколько я знаю, тоже оставался верен себе – по зайцевскому образцу.
Мережковский незадолго до смерти произнес речь по радио, в которой благословлял немцев "на крестовый поход". Зинаида Гиппиус, умершая после победы, злобствовала против родины до последнего своего часа. Так же вел себя и Шмелев, у которого на этой почве произошло очень резкое столкновение с писателем Рощиным, чуть ли не плюнувшим ему в лицо.
Ремизов сделал вывод, признал свои заблуждения. Во всяком случае, мне известно, что он занял в эти годы патриотическую позицию и в 1946 году стал советским гражданином.
Ближайшее окружение Милюкова перебралось в США и там заняло позиции, не укладывавшиеся в рамки понятий патриотизма или пораженчества просто потому, что это были позиции чисто американские. Он же переехал на юг Франции, в Экс-ан-Прованс. Там он в 1943 году написал статью, разошедшуюся во многих экземплярах, отпечатанных на ротаторе или на машинке и тайно распространявшихся среди русских (в этом деле и я принимал участие). Это была полемика с эсером Марком Вишняком, орудовавшим вместе с Керенским в США. В первой части Милюков высмеивал Вишняка, упорствующего в своем негодовании по поводу германосоветского договора 1939 года. Милюков указывал, что Вишняком руководят соображения, ничего общего не имеющие с государственными интересами России. Договор был нужен, полезен, он дал возможность России усилить свое положение, и – замечал саркастически Милюков – хорошо, что Марк Вишняк не был дипломатическим советником. Во второй части статьи Милюков признавал, что победы Красной Армии обязывают пересмотреть все прежние оценки, что эти победы свидетельствуют о плодотворности советских усилий, целесообразности пятилеток, успехах советской промышленности, что многое, казавшееся со стороны чрезмерным, рискованным в советской политике, находит свое полное оправдание в боевой мощи Красной Армия.
Пусть многое в статье Милюкова утратило сегодня свое значение или является спорным, а то и вовсе неверным. Но вот знаменательные выдержки, в которых Милюков отвечал на вопрос, с кем быть русским эмигрантам, и старался объяснить, в чем разгадка внутренней крепости советского строя.
"Бывают моменты – это еще Солон заметил и даже в закон ввел, – когда выбор становится обязателен. Правда, я знаю политиков, которые по своей "осложненной психологии" предпочитают отступать в этих случаях на нейтральную позицию. "Мы ни за того, ни за другого". К ним я не принадлежу… Когда видишь достигнутую цель, лучше понимаешь и значение средств, которые применены в ней… Ведь иначе пришлось бы беспощадно осудить и поведение нашего Петра Великого… Советский гражданин… гордится своей принадлежностью к режиму… А главное, он не чувствует над собой палку другого сословия, другой крови, хозяев по праву рождения… Недаром же от всех советских граждан… мы постоянно слышим упорное утверждение, что Россия – лучшая страна в мире".
Это и есть главное в статье П. Н. Милюкова, которая оказала очень благотворное влияние на умы и значительно способствовала участию русских эмигрантов в движении Сопротивления.
Так в глубокой старости – ему было уже за восемьдесят – самый авторитетный из кадетских лидеров нашел мужество признаться в собственных заблуждениях.
Деникин остался верен себе согласно формуле, давно принятой такого рода напыщенными людьми: "Если события идут вразрез с моими прогнозами, тем хуже для событий". Был против немцев, но и против советской власти, так что оставалось загадкой, чей же он сторонник. После победы оказалось, что – США, куда он и поспешил перебраться.
Личность, в историческом плане менее заметная, но зато внушительная в финансовом, Абрам Гукасов тоже остался себе верен. Объяснение военных событий он придумал такое: "Красная Армия тут ни при чем, ее небоеспособность давно ведь была доказана "Возрождением". Просто США и Великобритания решили поддержать ее против вермахта", – так буквально, с невозмутимейшим видом говорил он мне под самый конец войны.
Кстати, с Гукасовым произошел довольно курьезный случай.
Большую часть войны Гукасов провел в Ницце. Когда в "свободную зону" тоже вошли немцы, гестапо арестовало его как… еврея, очевидно из-за имени и восточного типа. Гукасов, сам яростный антисемит, запротестовал изо всех сил. Из Парижа срочно выслали снимки с увенчанных крестами могил гукасовских родичей. Гукасова довольно быстро освободили, и этот арест ничуть не поколебал его принципиальной симпатии к "любым формам антибольшевизма", как выражался он сам.
А Семенов, многолетний выразитель в печати гукасовской идеологии?
В конце 1943 года я имел с ним долгую беседу. Бил Семенова его же доводами, цитируя его статьи, выступления о "непригодности Красной Армии для войны" и о том, что при малейшем ударе извне "русский народ, как один человек, поднимется против большевиков". Семенов не обладал циничной гукасовской изворотливостью. Что мог он мне возразить после битвы на Волге и на Курской дуге? Прижатый, как говорится, к стенке, он в конце концов проговорил вполголоса:
– Но поймите же, я не могу желать победы коммунистам. Ведь они меня повесят!
Последний довод этого, как мне кажется, стопроцентного "антибольшевика", был чисто шкурный.
Очевидно, подобные опасения сильно тревожили и Головина, ученого царского генерала, мной уже описанного, который даже после битвы на Волге продолжал выступать со статьями о "безнадежном Положении Красной Армии".
Покушения на германских офицеров и французских коллаборационистов особенно участились поело высадки союзников. Коллаборационисты получили по почте посылки с "гробиками" – это было предупреждение от тайной армии Сопротивления: "Вот что тебя ожидает скоро за твое предательство".
Получил такой "гробик" и генерал Головин… и, получив, в тот же день умер от разрыва сердца.
Другой генерал, пресловутый Петр Краснов, бывший донской атаман, еще в 1917 году ходивший походом на красный Петроград, тот дождался возмездия: был повешен по приговору советского суда. До самого конца гитлеризма Краснов оказывал Власову услуги по терроризированию советских военнопленных, из которых они вместе пытались сформировать военные части в помощь вермахту.
С мнением Краснова, преуспевавшего в Берлине, очень считались в реакционных эмигрантских кругах. Помню, летом 1942 года старый генерал читал при мне письмо, только что полученное от Краснова. В нем бывший атаман заверял своего корреспондента, что к концу года советский фронт распадется, фактически перестанет существовать, и "тогда начнется строительство национальной России путем поголовного истребления в стране всех оставшихся большевиков".
Древний был старик, а жил одной ненавистью – личной, злобной, завистливой, – в первую очередь к своему народу.
Еще одно обстоятельство влияло на часть русской эмиграции, развращало ее в годы оккупации.
Выкачивание из Франции ее добра осуществлялось немцами двумя путями: прямым, в виде контрибуции, обязательных поставок государственного масштаба, реквизиций, и косвенным, при помощи так называемых "закупочных бюро". Печатали специальные оккупационные марки и на эти бумажки скупали всё оптом и в розницу. Страну это разоряло, зато сказочно наживались ловкие продавцы вместе с целой армией посредников, Таким путем немцы не только получили без всякого нажима то, что им было нужно, но еще (что их также устраивало) буквально развращали население, особенно молодежь, умышленно создавая условия для бешеной, беспримерной по своим размерам спекуляции.
Париж годов оккупации – это постоянное недоедание, вытянувшиеся лица, постоянные отправки в Германию рабочей силы, унижение французской нации, сжатые кулаки, промерзшие квартиры, аресты, списки расстрелянных заложников, тяжелые бомбежки пригородов американской авиацией, лихорадочное ожидание спасения, надежды лучших сынов Франции, обращенные на Восток, в страну великого народа, который, истекая кровью, освобождал Европу от рабства, выученные назубок, хоть и с неверным произношением, названия русских городов и рек, подлинное пробуждение французской гордости, живого духа нации, сформирование тайных отрядов Сопротивления, жертвенность, героизм, "Марсельеза" в сердцах, готовых на подвиг.
О ночном Париже этой поры так писала Ирина Кнорринг:
Час, когда устав от смутных дел,
Город спит, как зверь настороженный,
А в тюрьме выводят на расстрел
Самых лучших и непримиренных.
Но Париж годов оккупации – это также цветник крохотных причудливых шляпок за столиками «Максима», роскошные ночные пиры с окороками (баснословная редкость!), паштетами и шампанским, разговоры в кафе: «Если дело выйдет, каждому по полмиллиона» (часто это говорили мальчишки, бросившие школу, чтобы познать радости «широкой жизни»), быстрая трата колоссальных сумм, так как подобные доходы нельзя объявлять (страх расплаты после войны!), и, значит, надо «обращать» в драгоценности, картины или просто прокучивать при участии несметного количества почтительных прихлебателей – подлинный «пир во время чумы», дикая вакханалия.
Около четырехсот закупочных бюро функционировало в одном Париже. Среди лиц, разбогатевших при немцах, эмигранты составляли значительный процент. Равняясь на пресловутые "двести семейств" французского правящего класса, русские острили: "У нас тоже теперь свои восемнадцать семейств". Столько примерно насчитывалось русских, вначале скромно работавших у немцев по хозяйственной части, а потом затмивших дурной роскошью многих из французских королей черного рынка. Так кое-кто из мелких эмигрантских деляг, до войны пробавлявшихся чем попало, в годы оккупации стали первыми жуирами, первыми денежными магнатами, в огромных роскошных квартирах пропивавшими, не считая, все, что могли, при помощи целой ватаги своих же русских "верноподданных".
Ясно, что и сами эти господа и к ним примазавшиеся соотечественники с тоской и тревогой следили за освободительным шествием Советской Армии.
Итак, по распоряжению немецкого командования эмигрантские организации полностью прекратили свою деятельность. Незадолго до войны против СССР немцы создали вместо них новую, единую, свою собственную организацию – управление по делам русской эмиграции во Франции, учреждение чисто полицейское, подчиненное эсэсовскому начальству в Париже, и поставили во главе ее некоего молодого человека из так называемой "казачьей аристократии" – Юрия Жеребкова. В русском Париже знали только, что он был до войны профессиональным танцором и что он близок к Краснову. Кроме того, передавали, что он сделал карьеру по "особой линии", крепко удерживавшийся в эсэсовском руководстве, несмотря на расстрел Рема и его женоподобных адъютантов.
Про Жеребкова можно сказать, что этот "гаулейтер эмиграции" мог бы оказаться и хуже. Брюссельский его коллега Войцеховский, убитый перед самым уходом гитлеровцев, кажется, советским военнопленным, тот проявил себя подлинным гестаповцем, сажавшим по своей инициативе русских в тюрьму. Жеребков же этой инициативы у эсэсовцев не оспаривал и даже порой старался кое-кого выгородить. Но в том, что касается образцовой исполнительности, полной готовности приобщить и свои усилия к порабощению России, сулящему такие выгоды эсэсовскому начальству, Жеребков, очевидно, оказался вполне на своем месте.
На организационном им эмигрантском собрании он, нервно расхаживая своей развинченной походкой по эстраде и то и дело обмахивая платочком нарумяненное лицо, с места в карьер заявил оторопевшей аудитории.
– Вам всем надлежит понять раз и навсегда, что строить новую Россию будете не вы, а германский солдат, который своей кровью смывает с чела нашей родины печать красной звезды.
– Как это неудачно! – говорил после собрания даже грузинский меньшевик Гегечкори, всю жизнь ратовавший за расчленение Советского Союза. – Ну разве можно делать такие заявления, если хочешь покорить страну! А ведь именно так и поступают немцы в занятых областях. Вот что значит отсутствие подлинного опыта в колонизаторстве… Провалятся, дураки, – так им и надо! Но американцы, поверьте, будут действовать более дипломатично…
Жеребков выступал перед эмиграцией 22 ноября 1941 года. И вот текст его речи показывает, что уже в этот первый период войны, самый тяжелый, отмеченный самыми жестокими поражениями Красной Армии были в эмиграции люди, готовые связать свою судьбу с судьбой родины и уповавшие на ее победу. В самом деле, вот что говорил этот эсэсовец (цитирую по сохранившемуся у меня отпечатанному тексту его сообщения):
"Вольные или невольные английские и советские агенты… стараются разжечь в эмиграции ложнопатриотические чувства и постоянно твердят некоторым простакам: "Как, неужели вы, русские люди, радуетесь победе немецкого оружия? Подумайте, немцы убивают миллионы русских солдат, разрушают города, течет русская кровь!" Есть даже такие… которые уверяют, что долг русских всеми силами поддержать Советскую Армию, которая является русской армией… Тех же, кто с этим не соглашаются, они обвиняют в измене родине. Эти лукавые слова проникают в некоторые слабые беженские души, и вот кое-кто, не отличающийся большим умом, повторяют всю эту белиберду, но опасную белиберду".
Право, хочется сказать спасибо Жеребкову за такие слова, за столь авторитетное свидетельство! Гестапо, чьим представителем был Жеребков, как увидим, не ошибалось в оценке настроений многих русских эмигрантов.
Жеребковское "управление" реквизировало большой дом в одном из лучших кварталов Парижа, на улице Галлиера, завело обширное делопроизводство, приступило к регистрации эмигрантов со строгой проверкой их "арийского происхождения", стало выпускать на русском языке фашистскую газету под названием "Парижский вестник", сначала печатавшуюся по старой орфографии, а затем перешедшую на новую, в расчете на "читателей" из лагерей для советских военнопленных.
Ясно, что после жеребковского заявления немцы не могли к себе ждать особого наплыва эмигрантов. Да они и не очень старались заручиться эмигрантским сотрудничеством, по крайней мере на первых порах, пока были упоены успехами и не скрывали, что идут уничтожать русское государство.
Эмигранты годились лишь в лакеи, в шпионы, в диверсанты, а не для политической акции.
К гитлеровцам пришло из среды русских эмигрантов в Париже самое малое число; либо особо ретивые "белые вояки", в большинстве своем очень быстро разочаровавшиеся и отшатнувшиеся от немцев; либо псевдохитрецы, вообразившие, что выйдут сухими из воды, а на самом деле попавшие в помойную яму; либо по духу прирожденные лакеи, жаждущие любой подачки; либо, наконец, тупые до отказа, до кретинизма.
Одного из таких, бывшего гвардейского офицера, я встретил в метро в начале 1942 года, когда он приехал в отпуск из захваченных советских областей, где служил у гитлеровцев переводчиком.
– Ну как? – спросил я его.
– Верю в быструю и полную победу, – гаркнул он чуть ли не на весь вагон.
– Не такую уж быструю, – отвечал я, – раз Гитлер заверяет своих солдат, что они в следующую зиму будут обеспечены теплой одеждой на фронте.
– Кто это сказал?
– Да он сам, Гитлер. Сегодня напечатано.
Я протянул ему немецкую газету и, выходя, увидел, как он с тупым удивлением и тревогой уткнул в нее свою глупую голову.
Были и другие. Они тоже пошли в услужение к гитлеровцам, но вскоре под тем или иным предлогом покинули немецкую службу. Даже людям, готовым на все из ненависти к революции, было невмоготу наблюдать, что творили гитлеровцы на русской земле.
В этом отношении примечательна эволюция одного из князей Мещерских, который отправился в первые же месяцы войны в Россию. Это был молодой человек из эмигрантской "верхушки", с большими связями во французских и иностранных кругах. Поехал, как говорили, чтобы поскорее войти во владение своим бывшим имением где-то под Смоленском. Однако очень скоро не только бросил службу у гитлеровцев, но стал их злейшим врагом, вернулся во Францию, поступил в тайную армию Сопротивления, доблестно сражался против фашистов, удостоился высоких французских боевых наград и остался на службе во французской армии.
И так же, как этот Мещерский, некоторые простые люди, в том числе" из казаков, внявших зову Краснова отправились с гитлеровцами в Россию, а затем вернулись, в ужасе заявляя: "Немцы всех нас хотят обратить в рабов".
Лишь самые подонки до конца связали свою судьбу с фашистами.
Например, Брешко-Брешковский, сын известной некогда эсерки, прозванной своими единомышленниками "бабушкой русской революции", самый, кажется, вульгарный эмигрантский романист, поспешил в Берлин и там ревностно служил в органах пропаганды, пока не погиб во время бомбежки.
Или бывший фельетонист петербургского "Нового времени" и парижского "Возрождения" Ренников, Этот опубликовал в "Парижском вестнике" накануне решающей битвы на Волге статью, в которой радостно объяснял, что "доблестные немцы" готовят советским армиям Канны…
Усердно, последовательно сотрудничали с гитлеровцами на все готовые люди из "Национально-трудового союза нового поколения". Ездили в Германию, "работали" среди советских военнопленных, то есть старались их распропагандировать при помощи угроз и посулов. Выполняли, таким образом, особо грязную работу. Но, принадлежа к вышеупомянутой категории псевдохитрецов, уверяли, что "русская трясина засосет немца".
Приводили такой пример: последняя царица была немкой, а как попала в Россию, стала поклоняться русским иконам да русскому мужику Распутину… Вот и Геринг, чего доброго, сменит фельдмаршальский жезл на посох и пойдет класть земные поклоны по монастырям святой Руси… Предоставили немцам тощий контингент своей организации для любой работы, в первую очередь для "грядущей расправы с комиссарами".
Племянник Краснова, тоже Краснов (впоследствии повешенный вместе с дядей), бывший гвардейский казачий офицер, человек тупой, ожесточенный и тщеславный, чуть с ума не сошел от радости, когда немцы облачили его в свой полковничий мундир. Как активисты из НТС, он вообразил, что настал его час, и хвалился в Париже, что будет руководить расправой над "комиссарами".
По мере того как их все крепче била Советская Армия, гитлеровцы, начали делать некоторые поблажки своим лакеям – русским изменникам. Так, разрешили власовскому начальнику штаба Малышкину сделать публичный доклад в Париже с хитро сфабрикованной критикой немецкой политики и даже намекнуть, что немцам следовало бы несколько смягчить ругань по адресу русского народа и всего русского. Этот доклад был напечатан в "Парижском вестнике", причем редакция объявила, что в следующем номере будут помещены снимки собрания. Эмигрантские германофилы возликовали: немцы, мол, поняли свои ошибки и теперь поручат эмигрантам и власовцам управление занятыми территориями. Но в следующем номере снимков не появилось и о докладе Малышкина больше никогда не упоминалось. Очевидно, какие-то высшие немецкие органы решили, что и такая "поблажка" чрезмерна для лакеев.
Последним делом жеребковского "управления", перед самым уходом немцев из Парижа, был увоз в Германию "маленького царя", двадцатипятилетнего Владимира, после смерти отца своего, "царя Кирилла", оказавшегося старшим среди Романовых и потому почитавшегося претендентом на русский престол. После крушения гитлеризма "претендент" нашел убежище у Франко и вскоре женился на американской вдове, урожденной Багратион – значит, "почти что равной ему по крови" и, что особенно важно, изрядно богатой.
В первый десяток добровольцев, лично явившихся в Лондоне к де Голлю, входил молодой русский парижанин Вырубов (племянник пресловутой Анны Вырубовой), в то время учившийся в Англии. Он затем сражался во французских частях, был тяжело ранен в Северной Африке и удостоился высоких французских боевых наград.
Борис Вильде (1908–1942) и Анатолий Левицкий (1901–1942) были французскими гражданами, но детьми русских эмигрантов и русскими по воспитанию (Борис Вильде под псевдонимом "Дикой" помещал стихи в эмигрантской печати), оба были молодыми учеными-этнографами (в частности, Левицкий известен своими трудами о шаманизме), работавшими в парижском "Музее человека", оба входили до войны и антифашистский русский кружок Бунакова-Фундаминского.
Вильде и Левицкому принадлежит высокая честь, никем у них не оспариваемая: столь громкое впоследствии слово "résistance" (сопротивление) было употреблено впервые именно ими для обозначения народного движения против фашистских захватчиков. Случилось это так. В музее, где они работали, Вильде и Левицкий в 1940 году создали боевую группу, которая получила название "Группы Музея человека". Задались целью выпустить газету, сначала хотели назвать ее "Libération" ("Освобождение)", но в конце концов решили, что об освобождении говорить преждевременно, и придумали другое название – "Résistance."
Немцы арестовали обоих, долго держали в тюрьме и наконец расстреляли на площадке Мон-Валерьян 23 февраля 1942 года. Оба умерли героями.
В день своей смерти Вильде отправил жене (француженке) письмо. Выписываю из него несколько строк в переводе, опубликованном в "Вестнике русских добровольцев, партизан и участников Сопротивления во Франции" (Париж, 1947, № 2):
"Простите, что я обманул Вас; когда я спустился, чтобы еще раз поцеловать Вас, я знал уже, что это будет сегодня. Сказать правду, я горжусь своей ложью; Вы могли убедиться, что я не дрожал, а улыбался, как всегда…
Моя дорогая, я уношу с собой воспоминание о Вашей улыбке. Постарайтесь улыбаться, когда Вы получите это письмо, как улыбаюсь я в то время, как пишу его. (Я только что взглянул в зеркало и увидел в нем свое обычное лицо). Я думаю, это – все, что я могу сказать. К тому же, скоро пора! Я видел некоторых моих товарищей: они бодры. Это меня радует… Вечное солнце любви восходит из бездны смерти… Я готов, я иду".
Имена Вильде и Левицкого высечены в "Музее человека" на мраморной доске с такой эпитафией: "Умерли за Францию".
Да, конечно, и за Францию… Но подвигом их может гордиться и русский народ.
И на той же памятной доске в вестибюле "Музея человека" помещен текст двух приказов генерала де Голля (изданных в Алжире 3 ноября 1943 года) о посмертном их награждении медалью Сопротивления.
"Вильде. Оставлен при университете, выдающийся пионер науки, целиком посвятил себя делу подпольного Сопротивления в 1940 году. Будучи арестован чинами гестапо и приговорен к смертной казни, явил своим поведением во время суда и под пулями палачей высший пример храбрости и самоотверженности".
"Левицкий. Выдающийся молодой ученый, с самого начала оккупации в 1940 году принял активное участие в подпольном Сопротивлении. Арестованный чинами гестапо, держал себя перед немцами с исключительным достоинством и храбростью".
22 июня 1941 года – дата грозная, трагическая в мировой истории. Но как предвестница великого освободительного порыва она явилась также решающей для значительной части русской эмиграции во Франции.
По мере того как Советская Армия крепла в борьбе, крепло и внутреннее сопротивление во всех оккупированных странах. Многие русские за рубежом услышали голос родины. Эмигрантский поэт Георгий Ревский писал об этой поре:
Да, какие пространства и годы
До тех пор ни лежали меж нас.
Мы детьми одного народа
Оказались в смертельный час.
По ночам над картой России
Мы держали пера острие
И чертили кружки и кривые
С верой, гордостью за нее.
Да, именно, с гордостью, И гордость эту питала в нас сама среда, в которой мы жили: Франция, ее народ.
Я выхожу из дому. Консьержка останавливает меня:
– Кажется, хорошие вести, мсье? Вы слышали, освобожден Воронэж?
Я улыбаюсь и радостно передаю последнюю сводку Совинформбюро, тоже произнося название русского города на французский лад.
На улице старик аптекарь трясет мне руку:
– C’est formidable! (Это потрясающе!) Какой вы великий народ!
Ему нет дела до того, что я эмигрант. Я для него прежде всего русский, и потому он уверен, что я достоин его похвалы.
А вот и наш монтер – хороший, толковый парень. Я догадываюсь, что он коммунист; он знает, что я не советский, но, как-то глядя у меня на карту фронта, мы поняли, что нас обоих наполняет одна надежда. Он тоже восторженно поздравляет меня с новой советской победой.
Хозяин кафе сообщает мне таинственно:
– Какой-то немец что-то написал сегодня на стене уборной. Не могу понять! Может, вы поможете, мсье? Все-таки интересно…
Большими буквами выведено по-немецки химическим карандашом: "Россия – холодная страна".
Нас обоих одинаково радуют тяжелые раздумья этого бесхитростного солдата вермахта, и мы хохочем громко и весело, воображая, как он выписывал на стене эти простые слова, которыми пытался объяснить себе то, что случилось с гитлеровцами в России.
На Елисейских полях идет мне навстречу буржуа, солидный, преисполненный собственного достоинства. Я знаком с ним давно и знаю, что он крепко не любит коммунистов. Но и он сияет радостной улыбкой, приветствуя меня:
– Победа! Победа! Слава вашей великой стране, вашей героической армии!
Я чувствую, что он забыл – пусть, быть может, и ненадолго – о своем страхе перед коммунизмом, что он понимает, откуда придет избавление.
В этот день еще одной советской победы я чувствую себя именинником, я, эмигрант, столько лет отворачивавшийся от новой России.
Никогда еще не было такого тесного общения с Францией, с ее душой у русских людей, нашедших приют на французской земле, как в эти военные годы. Ведь у тех, кто услышал голос родины, пусть отныне был один и тот же враг, что и у французских патриотов.
У меня нет под рукой достаточно материалов, которые позволяли бы дать полную картину участия русских в движении Сопротивления. Отмечу лишь то, что запомнилось наиболее точно.
На русском кладбище в Сент-Женевьев-де-Буа по соседству с могилами русских воинов, павших в рядах французской армии, покоится ныне прах княгини Веры Аполлоновны Оболенской, "Вики", как ее звали в эмигрантском "свете".
Это была молодая, стройная, красивая женщина с одухотворенным, задумчивым и в то же время детски-наивным чисто русским милым лицом, со смеющимися глазами, любившая элегантно одеваться и часто блиставшая на эмигрантских балах. Про нее говорили, что она очаровательна и умна, но никто, конечно, не догадывался, что ей суждено оставить о себе память как о подлинной героине.
Во французском движении Сопротивления она выдвинулась как отважная, находчивая связистка.
Гитлеровцы арестовали ее, увезли в Германию и судили. На допросе она держала себя с исключительным мужеством, сказала, что никакой милости не хочет от немцев. Военный суд вынес смертный приговор.