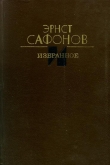Текст книги "Недометанный стог (рассказы и повести)"
Автор книги: Леонид Воробьев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 36 страниц) [доступный отрывок для чтения: 13 страниц]
Наследник Елисеева
Город недавно родился, и Сергею порядком досталось, пока он разыскивал квартиру Нины. То его посылали в одну сторону, то в другую. Жители еще сами не разобрались в названиях улиц как следует и путались. Да и некоторые улицы состояли пока из одного дома, за которым открывался огромный пустырь. И Сергей колесил по этим пустырям, затем попадал на ярко освещенные, вполне благоустроенные улицы и снова углублялся в темные заснеженные пустыри.
Наконец он отыскал нужную улицу и нужный дом. Взошел на третий этаж и остановился у двери, за которой жила Нина.
В школе он был влюблен в Нину. И все знали об этом и не удивлялись: половина мальчишек класса была влюблена в Нину. Нина была и симпатичная, и училась хорошо, и, что особенно привлекало в ней, по суждениям своим казалась значительно взрослей и разносторонней одноклассниц.
А теперь, конечно, все у Сергея давно прошло. Но в душе сохранилось приятно-грустное воспоминание, и хотелось увидеть Нину, и поговорить, и вспомнить. Сергей позвонил.
Дверь открыла Нина. Была она такая же симпатичная. Нет, несколько даже похорошела. Стояла перед Сергеем изящная молодая женщина, и в ее карих, немного изумленных глазах малюсенькими блестками вздрагивала радостная усмешка.
– Сережка! Ты? Вот неожиданность… Да какими судьбами ты здесь оказался?
Она забрасывала его вопросами, пока он раздевался и проходил в гостиную, обставленную очень прилично и со вкусом. Слушала его ответы и полуотвечала за него сама:
– Ты ведь у нас теперь – известность. Читала я твои статьи. И очерки. А возмужал-то как! А помнишь, мы дразнили: «Сережка, Сережка – голова с лукошко»? Женат? Да, ведь мне писали, что убежденный холостяк. Чего же ты? Пары нет?
Сергей слушал ее оживленную болтовню, смотрел, как она быстро и легко передвигается по комнате в ярком и, видимо, дорогом халатике, и чувствовал себя уютно, словно он сидел в этой комнате сотый раз. Сразу позабылось и то, что он долго блуждал по улицам и пустырям, прежде чем попасть сюда. Будто перешел знакомую улицу и зашел посидеть в квартиру, чуть ли не соседнюю со своей.
– Сына моего не посмотришь – жаль, – продолжала Нина, собирая на стол посуду, – он сейчас у бабушки гостит. Увезла на месяц. А муж скоро заявится, – она взглянула на большие настенные часы. – Скоро-скоро. Поужинаем. Вспомним совсем недавнюю молодость. Верно, Сережа?
– А ты где работаешь? – спросил Сергей.
– В химлаборатории. На предприятии тут одном. Ну вот, все готово. Сейчас придет муж, и мы…
– Скажи, как хоть зовут-то его? – перебил Сергей. – Чтоб я сразу мог обратиться, назвать то есть.
– Михаил Артамонович. Да тебе разрешается просто Мишей. Хоть он нас немножечко и постарше.
– А он у тебя где работает? – поинтересовался Сергей.
Нина вышла на кухню, оставив дверь открытой. Крикнула оттуда:
– Он у меня – наследник Елисеева!
– Как, как? – не понял Сергей.
Нина вернулась, подошла к шкафу, сказала, смеясь:
– Наследник, говорю, Елисеева. Купец такой был. Знаешь? Магазины большущие. Слыхал, наверно? В общем, в торговле, – пояснила наконец она, отвечая улыбкой на вопросительно-недоумевающий взгляд Сергея.
– А-а, – сказал Сергей. – Так кем же он там?
– Да у него должность длинная, не выговоришь, – рассмеялась Нина. – Торговец, да и все. Ладно, – махнула она рукой. – Ты лучше расскажи, как прошла твоя командировка.
«Что-то она о муже-то не больно», – подумал Сергей, уловив в голосе Нины нотки, заставившие его насторожиться, и стал рассказывать о цели и результатах своего приезда сюда.
Нина слушала внимательно, можно сказать, с увлечением. Она задавала Сергею дельные вопросы, поддакивала, а то сидела молча, казалось, раздумывала. Сергей, почувствовав живое восприятие, увлекся и сам сознавал, что говорит интересно.
– Д-да, – со вздохом сказала Нина, когда он кончил. И, похоже, с завистью добавила: – Интересная у тебя работа, Сережа.
– Всякая работа по-своему интересна, – выложил Сергей прописную истину, внутренне гордясь и работой своей, и завистью Нины.
– Ну нет, – как-то неохотно запротестовала Нина. – У меня… Да нет, у меня еще ничего, – словно раздумывала она вслух.
– А у мужа, – осторожно поинтересовался Сергей, – у него, наверное, немало интересного?
– Как же, – насмешливо отозвалась Нина, – есть о чем поговорить. Купи – продам. Недомер, недовес. Тоже нашел – кино, литературу, театр… Да и неразговорчивый он у меня, – словно спохватившись и желая смягчить то, что высказалось, проговорила она быстро.
И столько уловил в ее тоне Сергей скрытого раздражения, насмешки и даже презрения, что крякнул про себя: «М-да, мужа-то она, видно, того… Уважает».
Он быстрым воображением своим представил картину прихода или ловкого дельца, или мрачноватого бухгалтера в очках и пыжиковой шапке, разговор о погоде, о давно знакомых и надоевших вещах, Нину – в роли гостеприимной и хлебосольной хозяйки, себя – солидно беседующего с ее мужем о товарах и ценах. И вдруг ему ужасно захотелось, чтобы Нинин муж не приходил, чтобы продолжался у них с Ниной непринужденный разговор о чем-нибудь… Скажем, о литературе, о кино. Чтобы так же, как сейчас, было уютно.
– А вот и муж, – сообщила Нина, и Сергей услышал, как поворачивается ключ в замке и, скрипнув, открывается входная дверь.
С Михаилом Артамоновичем Сергей знакомился в прихожей: вышел ему навстречу. Нина познакомила их и, не дав мужу повесить шапку, оказавшуюся действительно пыжиковой, сказала:
– Не раздевайся, не раздевайся, пожалуйста. Я обнаружила, что у нас нет ничего, – она выразительно показала тонким пальчиком с отточенным ноготочком под подбородок, и все трое рассмеялись. – Сходи купи, пожалуйста.
– А чего взять? – спросил Михаил Артамонович.
– Вот уж не ожидала от мужчины такого вопроса, – шутливо покачала головой Нина. – Идите-ка вместе с Сережкой. Здесь недалеко. Надеюсь, вдвоем вы быстрей решите такую проблему. А я приготовлю чего-нибудь повкусней, чем вы принесете.
«Черт дернул Нинку послать меня с ее молчуном, – ругался про себя Сергей, выходя из подъезда вслед за Михаилом Артамоновичем. – Додумалась. О чем я с ним говорить буду?»
Шел снег. Было безветренно, и большие хлопья летели вертикально вниз. Свет от уличных фонарей и окон домов расплывался в падающем ливне хлопьев, образуя неяркие шары и полушария. Сергей поглядывал искоса на солидную фигуру Михаила Артамоновича, смотрел, как снежинки сыплются на его шапку, на плечи, на лицо, на очки, и чувствовал себя неловко.
– Наша улица, – кашлянув, негромко сказал Михаил Артамонович, – еще только-только начинает благоустраиваться. Магазин – на поперечной, на проспекте Новаторов. На нашей еще нет магазинов.
«Ну, началось о магазинах», – подумал Сергей почти с раздражением.
Свернули на проспект Новаторов. Он был прямым, застроенным большими домами, отлично освещенным.
– Здесь уже, наверно, больше нравится, – снова покашляв, заметил Михаил Артамонович, блеснув очками в сторону Сергея. – Таким и будет наш город. Это – его будущее лицо.
– Нравится, – кивнул головой Сергей.
– Но, знаете ли, для меня здесь кое-чего не хватает, – скупо улыбнулся Михаил Артамонович. – Профессия сказывается… Витрин мне не хватает. А еще больше – рекламы.
Сергей подумал, что, пожалуй, разноцветные огни рекламы и нарядные витрины магазинов украсили бы улицу, но ему почему-то хотелось противоречить «торгашу», как он окрестил про себя Нининого мужа.
– Ну, к чему же рекламу сюда? – запротестовал он. – Зачем тащить в новый город, на такой чудесный проспект, эти старые заграничные штучки?
– Почему «заграничные»? – пожал плечами Михаил Артамонович. – Нашу рекламу, а не заграничную.
– Не все ли равно? – отмахнулся Сергей.
– Совсем нет, – в голосе Михаила Артамоновича послышалось некоторое возмущение. – Совершенная разница. Посудите сами: у них реклама, чтобы всучить какими угодно путями. Только продать. У нас она – средство информации. Мы не будем пихать покупателю через рекламу, скажем, расчески. Насыщен рынок – отлично. А у них – предприниматель этими расческами живет. Либо всучит покупателю третью, когда у того две уже есть, либо – вылетай в трубу и стреляйся.
– Это верно, – пробормотал Сергей, – но вообще-то…
– А что «вообще», – перебил Михаил Артамонович, – ничего общего. Мы не будем рекламировать вещь, скажем, заманчивую, но вредную. За это судят. А у них запросто рекламируются напитки с возбудителями сердечной деятельности. Или дальше: заграничная, капиталистическая, конечно, реклама – и правительница, и служанка моды. С одной стороны, она ведет моду, с другой стороны, мода тащит ее за собой. А мы с умной модой дружим, а перед глупой на коленях не ползаем. Наша реклама вкусов не калечит, точнее сказать – уродливым вкусам не служит. Да я вам сотню различий приведу, если хотите.
«А ведь он совсем не молчун, – сказал себе Сергей, наблюдая за оживившимся спутником своим. – Заволновался, когда любимую тему задели».
– Простите за нескромность, – обратился он к Михаилу Артамоновичу, – кем вы работаете? Привычка журналиста расспрашивать всех о работе, – оговорился он извиняющимся тоном.
– Должность у меня сложно звучит, – улыбнулся Михаил Артамонович. – Старший инспектор по организации и технике торговли.
– Для меня это – лес темный, – рассмеялся Сергей. – Вы скажите, в чем суть работы.
– Да у меня как-то так получилось, – ответил Михаил Артамонович, – что я выполняю только одну сторону своей работы, но в таком широком объеме, что, вероятно, нагрузка не меньше всей работы, так сказать, в чистом виде. Я занимаюсь вопросами строительства магазинов, оформлением витрин и выставок, рекламой: в газетах, по радио, телевидению, световой – всякой.
«При чем же тут «торговец»?» – подумал Сергей, вспомнив Нину.
– Торговлю я люблю, – продолжал Михаил Артамонович, – извините уж, если выразился нескромно. И вижу в ней особенную, понимаете, красоту. Вот выстроится наш микрорайон окончательно, встанут на свои места и главный универмаг, и его филиал, и палатки, и ларьки, и реклама, наконец. Хотите, я вам расскажу, как все это будет предположительно выглядеть? Вот начиная с этого проспекта? Тьфу, черт!
– Что такое? – обеспокоился Сергей.
– Да магазин-то мы с вами прошли! – остановившись, хохотал Михаил Артамонович. – Заговорились.
Он снял очки, стал протирать их. На переносье осталась красноватая вмятинка. Прищурились и без того небольшие его черные глаза. А лицо его было покрыто каплями от растаявших снежинок, словно крупным потом.
– Хочу. Расскажите, – предложил Сергей, стряхивая с лица такой же «пот», что и у Михаила Артамоновича. – Знаете, пройдемте дальше, а потом вернемся и – к магазину.
– С удовольствием, – согласился спутник.
Они пошли дальше. Все падал снег. Михаил Артамонович говорил. Он покашливал, говорил негромко, тщательно подбирая слова, называя сроки, приводя цифры. Жесты он делал редко, взмахивая правой рукой, словно показывая, что там-то будет то-то, а в другом месте – иное.
Но виделось то, о чем рассказывал он, отлично. Воображению Сергея было совсем нетрудно представить и этот проспект, и улицу, на которой жила Нина, и пустыри в самом недалеком будущем. Сергей видел высокие здания магазинов, сверкающие витрины, заполненные изящно оформленными выставками товаров, турникеты дверей, в которые вливалась шумная и веселая лента людей, стеклянные простенки, а за ними – этажи, прилавки, товары, продавцы в форменной одежде. А над магазинами, на стенах домов и выше, над домами, игру вспышек и потуханий разноцветных неоновых трубок.
«Да он – поэт!» – подумал Сергей и сказал то, что подумалось:
– Да вы прямо поэт!
Михаил Артамонович смутился.
– Поворачиваем, – предложил он. – Заболтался я. Надоел вам, наверное.
– Что вы! – отверг Сергей.
Десятка три метров они шли молча.
«Рассказывал ли он ей так, как мне? – размышлял Сергей. – О чем они вообще говорят? Может, он боготворит ее, а она подсмеивается над ним? Видимо, так».
И подобно тому, как давеча ему не хотелось прихода Нининого мужа, ему не захотелось возвращаться сейчас к ним домой. «Несомненно, она заведет разговор об искусстве или о чем-нибудь вроде того. А если муж вставит свое суждение, она или тонко обрежет его, или понимающе, что еще невыносимей, переглянется со мной». А он уже не мог относиться к спутнику так, как полчаса назад.
Он раздумывал о Нине, о муже ее, делал различные выводы о взаимоотношениях их, предполагал всевозможные ситуации, но сквозь все его размышления красной нитью шла мысль: «Но зачем же она вышла за него замуж? Если он сейчас молчалив и застенчив, то раньше наверняка стеснялся еще больше и говорил еще меньше. Зачем?»
– Михаил Артамонович, я к вам обращусь со странным предложением, – сказал вдруг Сергей. – Только вы плохо обо мне не подумайте. Сейчас мы с вами прошли около пивной. Вернемся, не раздеваясь, выпьем по стакану красного вина. Там есть, я видел. Это нас задержит на пятнадцать минут.
– Так дома же, – удивленно откликнулся Михаил Артамонович. – Почему здесь?
– На пятнадцать минут, – настаивал Сергей. – Видите, взволновали вы меня вашими планами, ну, и мечтами, можно сказать. Хочется выпить за город ваш, за ваш микрорайон, именно с вами и именно здесь, – он невольно выделил слово «именно».
– За это… можно, – не совсем уверенно произнес Михаил Артамонович, внимательно глядя на Сергея, точно проверяя, не шутит ли он.
Зашли в полуподвальную пивную, взяли по стакану портвейна. В пивной, по-обычному, было шумно и душно. Не раздеваясь, выпили у крайнего столика.
«А выйди бы она за меня, – ни с того ни с сего пришла Сергею в голову мысль, – так же бы стала другим говорить: «Бродяга, мол, дома не живет. И на уме только одно: газета да газета. Скучно». Сколько угодно».
И он решительно спросил:
– А Нине вы никогда не рассказывали о том, о чем мне сегодня?
Михаил Артамонович очень пристально взглянул на Сергея и смущенно, но вместе с тем как-то неопределенно усмехнулся.
– Видите ли… Жена у меня как-то не любит разговоров о моей работе. Она все шутит. Иной раз в шутку называет меня знаете как? Наследник Елисеева. Это такой купец, не то московский, не то петербургский, когда-то существовал. Слыхали?
– Слыхал, – односложно ответил Сергей.
Они вышли на улицу. Снег падал реже, и проспект, новый и сияющий, был виден теперь как на ладони. Сергей шел рядом с Михаилом Артамоновичем и придумывал убедительный предлог, чтобы отказаться от ужина, извиниться, взять вон там, на углу, такси и уехать в гостиницу. И ничего не мог придумать.
Ночь на перевозе
Ранней осенью тиха, таинственна, прозрачна и невообразимо прекрасна Ломенга. Купаться уже не тянет, и на реке людей почти не увидишь. Сплав прошел, луга выкошены, только прибрежная осока, сухо шуршащая под ногами, осталась. И в тени береговых обрывов то ли течет, то ли стоит темноватая и даже на вид холодная вода.
На той стороне стога по лугам, то группами по нескольку штук, то поодиночке. Нефтебаза со старинным, укоренившимся названием «Нобель» посверкивает оцинкованными боками огромных цистерн-резервуаров под лучами уходящего за леса солнца. Берег, на котором нефтебаза, крут, обрывист, здесь весной пристают небольшие танкеры и перекачивают горючее в баки. Перед баками по кромке берега деревья – все в осеннем разноцветье.
Тишина, только осока под редким ветерком иногда прошуршит. И в высоченном без единого облачка небе по-осеннему высоко, очень высоко, летят птицы.
Приземлившись на знаменитой «аннушке» – маленьком самолетике, который то ли доехал, то ли допрыгал до домика аэропорта с привычной полосатой «колбасой» на высоком столбе и будочками метеостанции неподалеку, я оставил чемодан в аэропорту и, минуя городок, ушел на Ломенгу, по которой давно тосковал. И хотя день переходил в вечер, я решил, что успею к друзьям. А с Ломенгой надо повидаться.
Летели птицы. Без крика, без обычных птичьих разговоров. Возникали где-то там, вдалеке, и улетали к горизонту. Словно ритуал исполняли. Середина Ломенги еще серебрилась, и там заметно было движение струй. А у берегов покой, и кругом загадочное молчание.
Иногда вспархивал ветерок, и совсем близко от меня пролетали серебристые нити паутины.
На той стороне, в лугах, стояла автомашина, почему-то оставленная там на ночь. Солнце послало луч в ее лобовое стекло, и теперь оно пылало огнедышащим жаром.
У пристани того берега стоял паром. Сколько я здесь паромов перевидал, и каких конструкций! Дольше всех держались деревянные, по типу прадедовских, паромы. Строили их по глубокой зиме умельцы, которых теперь все меньше и меньше. К весне конопатили, смолили, и на апрельском солнце проникала в чистое, струганое дерево каплями текущая по бортам смола. И в первые весенние запахи, заставляющие и лося, и человека раздувать ноздри и впитывать в себя радость оживления природы, вплетались запахи просмоленного, нагретого солнцем дерева.
Потом стали делать паром на металлических понтонах. Один утопили, он стал мешать перевозу, и перевоз перенесли на другое место, чуть повыше. Был однажды сооружен и катамаран из понтонов, но между ними набивались бревна во время сплава.
Чего только не было! Десятки лет тянули за канат руками, потом паром стал таскать катерок. А теперь вон он стоит, красавец. Самоходный паром, большой, мощный, капитанский мостик поднят чуть не выше берегового обрыва. Хороший паром. Да уже и мост скоро построят.
Сидел я у воды на бревнышке, вспоминал да раздумывал в тишине. Текла моя Ломенга у самых ног, свежело, резче обозначались запахи реки и лугов, одинокий рыбак, казалось, дремал на лодке далеко вверх по реке, у самого поворота. Осторожненько крякнула где-то неподалеку утка. И было мне как в детстве.
Для нас, жителей лесного края, Ломенга – это все. Лес мы любим, лесом живем, но ведь в него местный житель идет только трудиться. Дышать и любоваться никто не ходит. В городке ни одного серьезного предприятия, зелени полно, сто километров до железной дороги. Дыши и любуйся. В лес идут либо работать, либо охотиться. Или тихая охота – ягоды, грибы. Или там веник наломать, можжевельника – кадку парить – принести. А река – другое дело. Хотя и здесь работы немало: сплав все лето, а по большой воде все грузы на целый год по ней. Но тут же и рыбалка, и костры, и купанье, и все летние ребячьи радости. И уезжали мы после школы поступать в техникумы и институты до железнодорожной станции тоже по ней. Вернее, уплывали. Не летали еще тогда «аннушки».
Край наш, прямо скажем, красивый, но суровый. А Ломенга в нем ну как молодая красавица сноха, что пришла в большой дом, где свекор и свекровь красивы, да угрюмы, где сын, а теперь еще и муж статен и ладен, да молчун. И сразу как звездочку засветили в сумрачном доме.
Нахлынули воспоминания, а уже надо было идти. Кое-где над гладью реки стали возникать легчайшие дымки тумана. Даже губы чувствовали влажность воздуха. Подал свой голос коростель. Я встал. И вдруг услышал:
– Лень-кя-я!
Давно уж так меня никто не окликал. Да и не мог вроде. Я сделал несколько шагов, но присмотрелся и увидел на капитанском мостике парома высокую и плотную фигуру. Это точно, кричали мне. И кричали, и рукой махали. Фигура спустилась с мостика, и вот уже весла зашлепали по воде – явно ко мне плыла лодка.
Подплыла, и я сразу узнал Николая С. Я кончал среднюю школу, а жил в поселке сельскохозяйственного техникума, а он этот техникум окончил. И стал агрономом.
Пока мы здоровались да говорили друг другу, что ничуть внешне не изменились, хотя изменились очень сильно и не в лучшую сторону, я про себя не переставал удивляться.
Так уж сложилось у нас, что не очень-то уважают перевозчиков, вроде на перевоз настоящие люди не идут. А ведь бывали на перевозе люди весьма достойные. Но тут дело в том, что и отщепенцев сюда судьба забрасывала. На перевозе вечно людей не хватало, и брали первого, кто пожелает.
А поразмыслить – и нелегкая работа. Бывают, конечно, и дни почти полного безделья, но бывают и такие, что канат из рук не выходит. А весна? А осень? А сплав? Все время к тому же на воде. И ночь толком не поспишь.
Однако вот укоренилось такое мнение, и все тут. Да еще пьяницами считали перевозчиков. И то бывало – «сообразят» на ночь. А ночью, если к тому же обстановка на реке не безопасна, паром гонять не положено, случайного человека на лодке перевозят. Но, бывает, «леваки» едут – кто с дровами, кто с сеном. И с бутылкой. Им ночь мать родная. А с бутылкой уговорить перевезти проще. Уговорят, напоят. И это народ знал. Так и относился к перевозчикам.
Но Николай-то, Николай! Вот уж не ожидал… Играли в одной футбольной команде. Окончил он техникум на пятерки и четверки. Футболист был хороший. Комсомолец, общественник. На производственной практике отлично себя показал. А тут… «Не иначе, стряслось что-нибудь», – решил я.
– А я тебя сразу узнал, – говорил Николай, теперь уже не худенький, длинноногий подросток, а здоровенный мужчина с загорелым и обветренным лицом. Только глаза были прежними, серовато-голубыми, какими-то почти детскими, наивными, – Поднялся на мостик перед сном: ложимся рано, вставать-то в пять. Гляжу – ты. Сразу даже не поверил.
Выбрались на паром. Николай привязал лодку, расспрашивал меня, когда приехал, надолго ли. И, выяснив все, сказал:
– Так ты, чудак, ночуй у меня здесь. Куда ты сейчас поплетешься, раз никого не известил? С утра машины пойдут, подбросят тебя до аэродрома за чемоданом твоим. И начнешь день. А у меня здесь каюта, постель для тебя найдется. Обоих помощников я в деревню, домой, отпустил, – пояснил он. – Сегодня ночью никого быть не должно. А к рассвету они придут.
– А если поедет кто? Случайно?
– Я и один управлюсь. Да и ты поможешь, – рассмеялся Николай. – Оставайся. Ужином накормлю. Ухой! И по стопочке у меня найдется.
Я недолго раздумывал, согласился. Куда уж было сейчас идти… Разумно говорил Николай.
В каюте было чисто, опрятно. Хозяин разогревал уху на керосинке и немного хвастался:
– У меня здесь благодать. Чудо! По заветным моим ямам я подпуска ставлю. Понял? Утром свежей жареной рыбой угощу. Чаек прямо из Ломенги, – знаешь, какая у нас вода. А спать будешь… Видишь подушки?
– Ну вижу.
– Они, брат, хоть не пуховые, а для сна получше. Я туда свежего сена набил. Да не простого, а с мятой да с разной другой травкой. Сон-трава. Ляжешь – мигом заснешь. И голова никогда не заболит. Вот так-то, – все похохатывал Николай.
Уютно было в каюте. Вспомнил я прежнюю избушку перевозчиков на деревянном пароме. Железную печку, накаленную чуть не докрасна, нары, драный ватник в изголовье. А все же хороши и те воспоминания. Молодость. В ней все хорошо. И третью, багажную полку, откуда контролер может стащить за ноги, будешь больше и лучше вспоминать, чем теперешнюю поездку в мягком вагоне с чаем, колбасой и сверхинтеллигентными попутчиками.
– Как же тебя сюда занесло? – спросил я, когда принялись за уху.
Николай посмотрел на меня, подумал и вдруг осознал, так сказать, подоплеку моего вопроса.
– A-а, вот ты о чем… Думаешь, проштрафился, погорел, одним словом? Да нет. Мне здесь хорошо. Я, брат, сюда по своей воле. Показать документы – удивишься: там только благодарности, выговоров не имеем.
Он помолчал.
– Потом – ведь все изменилось. Ты сколько здесь не был? Пятнадцать лет? Ну вот. Теперь все грамотные, многие с дипломами. А посмотришь – иной шоферит, иной на сплаве, иной как я.
– Может, это повлияло? – показал я на стопки, наполненные до краев.
– Что ты, не пью я. С тобой вот. Или случаем… Нет. Да я тебе все расскажу. Пей давай, ешь. Потом выйдем, проверим мое хозяйство перед сном, а тут я тебе и доложусь обо всем. На сон грядущий. И ты мне о себе расскажешь. Ладно?
Вкусна была уха. И костра не было, и не сам ловил, а вкусна. Верно говорят, что на реке уха вкусна не потому, что свежий воздух, костер, хотя и это не скинешь со счета. А должна, говорят, рыба вариться не позже, чем через час после улова, и в той воде, в которой поймана. Разное говорят. А вот вкусна уха, да и вкусна!
Поужинали, вышли на палубу. Затем поднялись на мостик.
Темной лентой лежала Ломенга в крутых берегах. Словно и не двигалась. Но у песчаных отмелей, на перекатах, вода переговаривалась, звенели струйки. Луна еще не взошла, и все было темным, хотя н различимым: леса, стога, резервуары нефтебазы. Молчание было в природе. Сытая тишина. А небо на западе казалось чуть-чуть светлее остального. И там еле проглядывался размытый след реактивщика.
– Чего мостик такой высокий? – спросил я громко, и эхо загуляло в берегах. Николай уже спустился и проверял, как закреплены причальные цепи.
– Да он еще и мал, – сказал он снизу. – Видишь, рулевой должен выше машин находиться, смотреть, что там сверху по реке идет. Особенно в сплав. А ведь с сеном едут, воза высоченные. Так что тяни шею, посматривай.
В каюте сели каждый на свою койку. И Николай начал рассказывать:
– Ну, стал я специалистом, поработал немного, потом армия. Да это еще при тебе было. А после службы я уже в другой области оказался, в Ярославской. С девчонкой переписывались. Поехал к ней. Женился. И сейчас живем. Детей двое. Зайдешь – увидишь.
Устроился в колхоз. Один из лучших колхозов в районе. И председатель один из лучших. В районе только о нем и разговор. Да и в области знают. Три года у него работал. И не сработался. Ушел. Хотя он уговаривал остаться.
– Характерами не сошлись?
– Вроде. Отчасти, правда, мой отец тут виноват.
– Постой, постой, – сказал я. – Так ведь твой отец еще при мне умер?
– Верно. Неправильно я выразился. Воспитание виновато. Знаешь, отец как меня воспитывал? Самостоятельным. Уйдет – даст задание: сделай то-то и то-то. А как сделать, тут уж своим умом доходи. С детства так. В школе за это хвалили, в техникуме, даже в армии. Разжевывать мне не надо было, с лёту соображал.
Сейчас моя жена пойдет куда-нибудь – сто наказов даст, а ни одного толкового. Сказала бы: сделай то-то и то-то. Знает ведь, что и с ребятами все в порядке будет, и приберусь, и сварить умею, а все, как дурачку, растолковывает да не забыть просит. Отец, бывало, не так.
А председатель и того хуже. Сам умный, деловитый, честный, знающий, но, видимо, слишком в себе уверился. Или долго пришлось с дураками бок о бок работать. В годах он. Короче говоря, правил он единолично, а все у него на посылках.
Как ни спланируй день, как ни продумай, всегда все перевернет. Кверху ногами поставит. И ты уже у него на побегушках.
И, поглядеть, вроде ведь дело делаешь, все нужное, не бездельничаешь. Все колхозу на пользу. А вот пешкой себя чувствуешь, да и только. И свои планы летят в тартарары…
Есть, понимаешь, такие, им и в голову не придет, что у подчиненного мысли какие-то могут быть, соображения… Я с ним воевать пробовал, недельный план составлял, показывал. Знаешь – возьмет и согласится. Раз даже извинился: мол, не учитываю вашей инициативы. А к концу недели посмотришь – опять не то делаешь, а что он придумал. Как оловянный солдатик.
Ушел. Больше по специальности не работал, хотя и люблю ее до сих пор. А еще до армии я шоферские права получил. Пошел шоферить. В разных организациях работал, да все равно не по сердцу. Подался вот сюда.
Николай зажег керосиновую десятилинейку. Я уж и позабыл про такие лампы, хотя вся учеба в военные годы прошла с ними, да еще с семилинейкой, да еще без стекла, с коптилкой. А Николай продолжал разговор:
– На последних двух местах как работал… Давай слушай. В райпотребсоюзе. Там совсем не смог. Знаешь, про торговцев всегда говорят – жулики. Я этого сказать не могу – не знаю ни одного случая. Но что уж точно знаю: если у самого хвост нечист, так и другим доверять, пожалуй, не станешь. А недоверия я там хлебнул.
Я за свою жизнь, – вот уже сорок, – чужой копейки не взял. И не возьму. А тут! Накладные чуть не на свет смотрят, все чего-то ищут. Ящики по пять раз считают. Все-таки, видимо, идет там мухлеж, потому они друг другу и не верят. И нам, шоферам, конечно. Да слышишь-послышишь – в прокуратуре дело завели. То на одного завмага, то на другого. То на завбазой. Не по мне это. Ушел.
А на последнем месте совсем хохма вышла. Устроился на «газик», начальника ОРСа возить. А начальник – женщина, Лариса Васильевна.
Ну, я мужик-то ничего… – Николай встал, подобрался, расправил плечи, и мы оба рассмеялись. – Возьми и приглянись ей. Стала она мне знаки внимания оказывать. А сама моложе меня, красивая. И муж есть. Хороший на вид мужчина.
Я делаю вид, что ничего не замечаю. А в один июньский день она мне говорит:
«Выписывай путевку, поедем на участок».
Поехали. На Шартановский лесопункт. Дорога туда все сосновым бором. Она наряднущая сидит. Сумку хозяйственную с собой взяла. Платьице веселое, короткое. Коленки у нее полные, платье никак не закрывает. А в бору отворот есть на сенокосные поляны. Они по речке идут, а часть бора тут сведена. Хутора раньше были, хлеб сеяли. Сейчас траву косят. Она мне:
«Отверни, перекусить надо».
Повернул, остановился у опушки. Солнце сияет, травы цветут. А тут тенек, прохлада. Мох-беломошник. Она села, коленки так, набок, положила. Ох, и умеют же они… На мох газетку постелила и вынимает из сумки еду. Да водки бутылку. Да лимонаду – запить. Устроила все мигом. И мне:
«Присаживайся».
Я сел, гляжу на нее. Волосы кудрявые, глаза смеются. Ноги загорели, а там, где платье поднялось выше колен, белые. Руки за себя откинула, в землю ладошками уперлась, в талии выгнулась. Ну, куда ни кинь, моложе она моей жены и красивей. Говорит:
«Наливай».
И понял я, что начнется тут не дружба, не любовь, а черт знает что. Отвечаю:
«Вам налью, а я за рулем, не могу».
«Да брось ты, смеется, чего ты ломаешься? Знаешь ведь, что тут ни одного автоинспектора днем с огнем не найдешь».
Пододвинулась ко мне. Что ж я, пень березовый? Соображаю, что долго не выдержу, обниму так, что кости у нее хрустнут. Встал – и к машине.
«Нет, говорю, нельзя. Никак нельзя. Уж извините. Вы пейте, закусывайте. Я дома поел хорошо. А я в машине обожду».
Залез в машину, а сам краем глаза смотрю, что она там делает. Она голову назад откинула, в небо поглядела. Долго глядела. Потом поднялась, взяла бутылку за горлышко – и шварк ее об сосну. Вдребезги. И закуску не собрала. Подошла к машине, села. Я искоса глянул – губы у нее крашеные, но и через краску заметно, аж побелели. С лица изменилась. Только и сказала:
«Поехали».
Когда тронулись с места, добавила:
«Эх, ты… мужчина…»
На следующий день я заявление подал об уходе. Она ни слова не сказала, подписала. Две недели отработал – и амба.
– А не думаешь вернуться в агрономы? – осторожно поинтересовался я. – Дело-то нужное, сейчас в наших краях особенно. Тебе же здесь и земля, и народ – все знакомо. Все карты в руки.