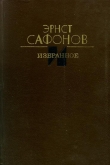Текст книги "Недометанный стог (рассказы и повести)"
Автор книги: Леонид Воробьев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 36 страниц) [доступный отрывок для чтения: 13 страниц]
Парася
Вчера последний дождь выхлестал и без того раскисшую дорогу, а ночью зазвенел морозец, и сегодня проснулась земля, как диковинной полудой, покрытая игольчатым инеем, гудящая под ногами, веселая и чистая.
Мелкие обрывки слоистых ненастных туч уплыли за дальний горизонт, по голым верхушкам берез прошелся резкий сиверок, а солнце выкатилось из-за новоселковского перелеска, плашмя положив свои длинные лучи на крыши домов, на верхушки деревьев, на самые высокие подъемы покатых полей.
Парася с трудом распрямилась, зацепив на крючок коромысла второе ведро, и пошла вверх по дороге, чуть покачивая ведрами, в которых слегка колыхалась студеная, с тонюсенькими обломками льдинок вода. Все неровности дороги окаменели; ноги, обутые в валенки с галошами, спотыкались о шишки и проваливались в колеи.
Над всеми домами Новоселок колебались хвосты дымков. Печа уже дотапливались. Кое-где щелкали калитки.
Навстречу Парасе попалась Семениха. Она с участием взглянула на заострившийся Парасин нос, черные, глубоко просевшие глаза, на полнущие ведра и качнула головой:
– Что ты, Алексеевна! Пошто на речку сама ползаешь? В гору ведь все. Иль уж по воду послать некого?
Не останавливаясь, Парася кинула:
– Петя не дома. Митя с Тонькой рань-разрань в школу понеслись. Алька на ферме. Куда ж денешься?
Семениха вслед ей:
– Смотри, Алексеевна, последние ведь деньки ходишь. Не ровен час – надорвешься.
В сенях Парася со стуком опустила ведра, поставила в угол коромысло, крутое, крашенное золотистой краской с цветной дорожкой, – мужнина поделка, – накрыла ведра деревянными кружками, шагнула в избу, скрипнув хорошо пригнанной дверью.
Аля, старшая дочь, гладила на столе платье, подостлав чистенькую ряднинку вместо обычного байкового одеяла. Оно уже лежало на дне раскрытого чемодана. В этот же чемодан Аля укладывала выглаженные платья.
Парася еле протиснулась с другой стороны стола на лавку, в передний угол. Мешал живот. Села и, облокотившись на стол, в упор стала разглядывать Ал го.
«Вылитая я, – думала Парася. – Правда, и Петиного кой-что есть. Нос вздернут малость, волосы чуть светлей моих. А так и брови мои, черные, и глаза, и румяная, как с морозу. Эх, укатились те годики…»
Привычным жестом потянулась рукой к простенку, сняла небольшое зеркало со стены, подперла его попавшейся под руку книгой и, стащив с головы платок, начала переплетаться. Из зеркала глянули на нее строгие черные глаза, над ними – брови вразлет; что-то шепнули суховатые губы, приоткрыв молодую белую полоску зубов.
«Морщин-то, морщин, – сказала про себя. – Вроде бы не старуха еще, а губы пересохли, нос торчит как сучок. Ну, да ведь чего хорошего высмотришь в беременной бабе?»
Аля пошла к печи, повозилась у шестка с утюгом, нарочито громыхая то заслонкой, то крышкой утюга. Грубо сказала оттуда:
– Нарочно по воду потащилась. Смотрите, дескать, люди добрые, какая у меня дочь белоручка… Кто тебя просил, спрашивается? Всей деревне напоказ – на последних днях с полными ведрами. Назло, что ли?
– Может, и назло, – отозвалась Парася, – может, и нет. Привыкать надо… Кто без тебя принесет?
– Некому, видишь, принести. Митька есть, Тонька. Не маленькие, поди.
– Ты бы еще на отца кивнула, – спокойно заметила Парася. – Сейчас вот он на курсах еще два месяца пробудет, потом на новое дело сядет – трудно придется. Умру, а к нему не полезу: у него всю жизнь свободной минуты не бывало. А о Мите с Тоней разговору нет: каждый день с утра в школу за три километра. Помогут, конечно. Однако самой в лямку впрягаться надо.
– Ты, мама, теперь уже хитрить начинаешь, – вскипела Аля, плюхая горячий утюг на подставку. – Не хочется тебе, чтобы я уезжала, вот ты и придумываешь, будто без меня жить нельзя. Не больно я тебе помогала, сама ты во все дыры соваться привыкла. Небольшой от меня убыток.
– Нашла чем хвастать, – коротко ответила Парася, вешая зеркало на место.
Она выбралась из-за стола, пошла в прируб, вытащила оттуда бадейку и стала что-то месить в ней. Аля, прикусив до боли губу, упрямо и рассерженно посверкивая глазами, быстро гладила одну вещь за другой. Чемодан наполнялся платьями, бельем, дорожками, любимыми вышивками.
На несколько минут в комнате наступило молчание. Пощелкивал маятник ходиков; над циферблатом была нарисована кошачья голова, в прорезях глаз ходили, следуя покачиваниям маятника, из стороны в сторону, зеленые кошачьи глаза, наблюдая за всем происходящим в доме. Настоящая же кошка мурлыкала на приступке у печи, зажмурившись от тепла и покоя. Поскрипывала расхлябанная ручка утюга, чмокало под сильными, обнаженными по локоть Парасиными руками месиво в бадейке. Солнце заглянуло в два боковых окна, и на половики легли яркие параллелограммы.
Парася очистила руки тупой стороной ножа, вымыла их под медным умывальником и, на ходу вытирая белоснежным льняным полотенцем, снова двинулась к столу. Подошла и неожиданно стукнула изо всей силы по краю стола кулаком. Подскочила подставка, на которую Аля время от времени ставила утюг. Аля перестала гладить и удивленно, но без испуга взглянула на мать.
– Собираешься, Алевтина? – голос Параси зазвенел и пошел на высокие ноты. – Ну-ну! А батьку ты спросила? На меня-то, конечно, тебе наплевать. Кабы не пришлось Пете уехать, дал бы он тебе вжварку. Пользуешься слабостью моей. На всю деревню, на весь колхоз позоришь.
– Чем это? – с вызовом спросила Аля, опять принимаясь гладить.
– Всем. Да брось ты утюжить, тебе говорю, а то выкидаю к дьяволу твои тряпки. Тут о жизни разговор идет. Отец у тебя куда уехал? А? Учиться. На старости лет. Колхоз его послал, уважение оказал. Помощником бухгалтера вернется. А ты что? Тебя кто посылает? Дурь-матушка? Сбесилась, бросила все, людям на глаза показаться не смею.
– Ничего тут позорного нет, – свела к переносице брови дочь. – Брось ты мне жалобные слова высказывать. Кончен об этом разговор.
– Я тебе покажу – кончен, – уперла кулаки в бока Парася, отчего живот ее как будто на глазах увеличился. – Кабы не эта зараза, Нинка, не замутилась бы у тебя башка. На что польстилась? Пиво матросам в забегаловке подавать? Белый фартук носить? Заработка тебе не хватает? Уважения? Парней хороших у нас мало?! Добро бы учиться али на целину, как братан Витька в прошлом году… Слова бы не сказала… Легкой жизни захотелось. С портовыми ребятами шыр-мыр.
– Хватит, мама! – повысила голос Аля. – Гадости-то к чему выдумываешь? Не дело, смотри.
Парася вдруг сникла, опустилась на лавку и, гладя в сторону, нехотя спросила;
– Вчера в Гаревую зачем бегала? Не в правление?
– В правление.
Аля, подхватив тряпкой нос утюга, отошла к печи, стала высыпать угли в тушилку. Помолчала и добавила:
– Заявление подала об уходе. Рассчиталась, в общем.
– Рассчиталась, – недобро усмехнулась Парася. – Эх, не вовремя батька уехал… Да ладно, я сама с тобой сделаюсь. Сегодня схожу к Алексан Иванычу, ног не пожалею. Он меня послушает – сама знаешь. Такую тебе характеристику набухает – нигде не возьмут.
– Чихала я на его характеристику, нужна она мне.
Аля хлопнула крышкой чемодана, оттащила его от стола, присела у тумбочки, перебирая книги.
Парася двинулась к двери. Уже надевая ватник, обронила:
– Ладно. Езжай в свой Мурманск, со своей Нинкой. Нинка сбежала, ты сбегай. Не понуждаемся. Нам ломить не привыкать. Учти только: о Нинке и о тебе я в райком комсомола потелефоню. Оттуда и в Мурманск напишут, выгонят ее из ресторана в порт. Грущиком.
И напоследок из полуоткрытых дверей:
– Скажи ей, шаталке: коли появится у нас в Новоселках – нахлещу ее, своих не узнает…
Сиверок с верхового перешел на поземку. Парася шла неторопливо, коротко здороваясь с встречными, оглядывая вскользь знакомые дома, привычную глазу картину деревенского дня. С ясного неба, без единой тучи, иногда совершенно непонятно почему слетали одинокие снежинки. Перелесок за околицей был совсем зимним: мокрые ветки и хвоя обмерзли, осыпались инеем. А дорога, уходящая в поле, даже чуть пылилась под сиверком. Как летом.
«Ну и гудит спина, – раздумывала Парася. – Видно, срок приходит. Тяжело я нынче хожу. Да тут, видать, годы виноваты. Вспомнишь, как Колей ходила. К пиву, к дяде Мишке ездили, в Межаки. На последней неделе пиво пила, «восьмеру» плясала. А сейчас не то что «восьмеру», даже «ветлугая», – какое там! – крестика не сходить. Надо бы пива на пудик сварить для зубка. Эх, Коля, Коля! Годочка не пожил, сгорел, как свечечка».
– Парася Алексеевна! – окликнула задумавшуюся Парасю невысокая полная девушка с зарумяненным ветром круглым лицом, на выпуклый лоб которого выбилась из-под платка белокурая прядка. – Куда вы? Я к вам.
– Ну, вот я, – сказала Парася, едва сдерживая просившееся с языка: «А я к тебе».
– Я хотела, – начала девушку, подбирая слова, – с вами… с Алей. Ну, как зоотехник… – И неожиданно быстро закончила: – Она же заявление подала вчера, ни с того ни с сего уезжать придумала. Ни в какие рамки не лезет.
– Правильно придумала, – решительно заявила Парася, засовывая озябшие руки в карманы ватника. – Еще долго думала. Я на ее месте давно бы укатила.
– То есть как же? – растерялась девушка. – Я думала, вы…
– А так же, – перебила Парася. – Сказала я ей: «Езжай, доченька, с богом. Делать тебе тут нечего».
Девушка, не встретив поддержки, нахмурилась:
– Ну раз, Парася Алексеевна, вы «за» – мне больше ничего не остается делать. Не любит, видимо, ваша Аля работу свою, друзей, колхоз. Хотела я с ней как комсомолка с комсомолкой поговорить.
– Это Алька-то работу не любит? – рассердилась Парася. – Да она, можно сказать, с детства скотину обожает. Я, бывало, когда с коровами работала, выбракованную коровенку на сдачу повела, так Алька по всей деревне за мной бежала. До самой околицы в голос рявкала. На ферму она сама выпросилась, когда восьмой кончила. А ты говоришь… Нет, Наташа, матушка. Виноватей всех в том, что она собралась ехать, наверно, ты да и другие комсомольские начальники ваши.
– Чем же? – недоуменно расширила глаза Наташа. – Что вы, Парася Алексеевна? Моя-то вина в чем?
Парася поправила платок, сунула красную от холода левую руку между застежками ватника, на живот, и заговорила, размахивая правой, не замечая, что за их разговором наблюдают две старухи, сошедшиеся покалякать у ближнего дома. Начала громко, почти на весь порядок:
– В том. Ты член колхозного комсомольского бюро. Другие там члены есть. И секретарь. Институт кончила. Про работу твою не заикнусь. А живете как? Скушно. Я по молодости куда веселей была. Посмотрела бы хоть на соседей наших, на «Трудовик». У них в клубе каждый день веселье. И так далее. То одно, то другое выдумают. Наши девки к ним бегать начинают. А что, у нас гармони нет, девок, парней? Кружок там какой организовать не можете? Поучиться чему? Или сплясать, глядишь. Да мало ли что придумать можно… – Парася ткнула рукой куда-то в пространство и продолжила: – Вон Нинка из Мурманска приехала. Молодец, скажу, девка. Всю вашу организацию переборола. Знаешь чем? Пустяками. Завивка у ей крупная, юбка опять же красиво сшита, на «а» говорит. Или вы этого не можете?
– А что ж, мне, что ли, теперь завивать? – не выдержала Наташа.
Зачем тебе? В райкоме комсомола бываете. Заявите. Добейтесь: мол, чтоб в райцентре в парикмахерской опытный завивалыцик сел. Это мне в привычку косматой, как лешачихе, ходить, а тут девки на выданье. В мастерской чтоб юбки с фасоном шили. В больнице золотые коронки ставили. И другое что прочее. Та Нинка меньше моей Альки в два раза зарабатывает, а фасонит, модится – я те дам.
– Займусь я этой Нинкой, – рассерженно выпалила Наташа. По ее нахмуренному, комично-серьезному круглому личику было видно, что разговор разозлил и взволновал ее. – И с Алей вашей всерьез сейчас потолкую. А за это спасибо, Парася Алексеевна. Что говорили, учту. Завтра же на бюро вопрос поставлю.
– Валяй, – вдруг самым спокойным, очень тихим тоном согласилась Парася. – Сходи к Нинке-то. А к Альке не ходи. Я, вишь, думаю: никуда она не уедет. Работу она любит. Только вот что. Утресь кто сегодня доил на Алькиной группе?
– Утром другие доярки подоили, а сегодня закрепим за группой кого-нибудь, – сообщила Наташа.
– Знаешь, – Парася доверительно взяла Наташу за руку, чуть притянула ее к себе, – не назначай пока никого. Сейчас поди пошли из ребят кого-нибудь. Из парней только – девки в разговоры пустятся. Пошли – коротко Альке сказать. Дескать, просьба ее исполнена – ехать может. А замена, мол, найдена будет. Пока на несколько дней я взамен поставлена. Ладно?
– Что вы, Парася Алексеевна, – запротестовала Наташа. – Так не пойдет! Вам нельзя, у вас же декрет. Нет, нет.
– Как так «нет»? – повысила Парася голос. – Декрет не декрет – все равно на овчарник хожу, помогаю. Поспорь еще со мной! Я и так не навечно, дней на несколько. За коров сейчас на все время «Не возьмусь, здоровье не то. А на немного пойду. Да не спорь ты! – прикрикнула она, заметив, что Наташа намеревается снова протестовать. – Меня волновать нельзя: последние дни дохаживаю. Все равно на своем поставлю. Схожу к Алексан Иванычу. Он мне не поперечит.
…Расставшись с зоотехником, Парася зашла к золовке. Перебросилась мелкими новостями с золовкиной свекровкой. Посидев с полчасика, Парася двинулась к дому: нужно было собираться на ферму, на обеденную дойку.
Аля встретила мать у калитки. Она разрумянилась больше, чем обычно: бегала куда-то. Черные ее глаза обозленно округлились.
– К Нинке, поди, скакала? – безмятежно поинтересовалась Парася, не обращая внимания на видимое негодование дочери. – Не налюбовались еще друг на друга?
– Не к Нинке, – на низких нотах начала Аля, пропуская мать вперед, в избу. – Тебя искала по деревне. Опозорить хочешь перед всеми. Ты ведь это выдумала, чтоб тебя на мое место поставить? Знаю я, твоя это затея. Сейчас ко мне Панька Тонин заявился, новость, видишь, принес.
– На-ко? – искренне удивилась Парася. – Я-то при чем тут? Иду по порядку, встречаю зоотехника Наташку с председателем Алексан Иванычем. Стала обижаться им: удержите, мол, Альку. Зоотехник вроде туда-сюда, а Алексан Иваныч смеется. «На что она нам? – говорит. – У нас, мол, хватает тех, которые за свое дело переживают, настоящих работяг. Невелика, слышь, потеря. Мы уважаем комсомольцев, а не всяких шатающих. Дадим отпускную насовсем, без задержки». Каково, думаешь, мне, матери, такое слышать? Потом просить начал: «Встань, пока не подобрали настоящей доярки, на группу ты, Парася Алексеевна. На день-два. Не можем мы больше доверять животных кой-кому. Подумать теперь надо. К скотине уменье и заботу приложить требуется. А у тебя, слышь, опыт. Уж потрудись». Другому кому я бы отказала – ему не смогла. Опять, думаю, вроде моя вина: дочь-то моя работу кинула, скотину без призору оставила.
– Не верю, мама! – гневно выкрикнула Аля, резким движением сбрасывая с себя полушалок и жакетку. – Обманываешь ты! Хочешь, чтоб люди на меня косо смотрели. Чтоб говорили, что я мать не пожалела, в положении и то ее не поберегла.
– Вот те на! – веско заметила Парася, взяв, видимо на всякий случай, свой подойник, чистенькую тряпочку, кусочек топленого масла в бумажку, обрывок веревки: может, хвост придется у беспокойной коровы к ноге подвязать. – Как будто ты меня бережешь? Родной матери говоришь, что она врет, орешь, как на базаре. А потом – что ты о людях-то все печалишься? Тебе-то не все равно? Ты теперь, можно сказать, человек посторонний. Тебе на всех плевать, и до тебя никому дела нет…
На ферме чисто, светло и довольно тихо. Обычная тишина дойки, нарушаемая лишь постукиванием коровьих копыт по полу, когда животные переступают с ноги на ногу, мерной, однообразной жвачкой да звоном молочных струек о дно подойников. Звон струек молока постепенно делается глуше и сочней: подойники наполняются.
Парася проходит от одного конца коровника к другому, по-хозяйски приставляет к стене уроненную лопату, оглядывает мимоходом все группы коров, всех доярок, Алиных подруг, уже начавших дойку. Проходит в тамбур, около которого на стене висит доска показателей, бумажка с распорядком дня и несколько плакатов. Осматривает и это, а затем принимается за дело.
Но стоило только ей подсесть под корову, подмыть вымя и начать доить, только защелкали быстрые струйки, выжимаемые умелыми кулаками, в подойник, как не выдержали Алины товарки и, нарушая деловую тишину, накинулись на Парасю с расспросами.
– Тетя Паша! – кричит смуглолицая Зина Шадрина. – Что это Алька не вышла сегодня? Правда или болтают, что она заявление об уходе подала?
– Тетя Паша! – вторит самая молоденькая, девочка почти, Эля Соснова, худенькая, но с крепкими загорелыми руками. – Чего это зоотехник выдумала тебя поставить? Тебе ж нельзя.
К ним присоединяются еще две Алины подруги, и все четверо наперебой обращаются к ней, так что в коровнике слышится целый ансамбль звонких девичьих голосов:
– Тетя Паша, мы утром подоили и сейчас подоим.
– Иди домой, сделаем все, разве можно тебе?
– Тетя Паша! А куда Алька поедет?
– Тетя Паша, кончай, сейчас поможем мы.
– Тише! – требовательно обрывает Парася, и все смолкают. – Чего кричите! Знаете, что во время дойки покой полагается? Кончу доить – тогда все скажу.
Опять наступает рабочая тишина. Парася переходит от одной коровы к другой, гладит их теплые покатые бока, с трудом подседает, подмывает вымя, бережно массирует его.
Звенят струйки. А перед Парасиными глазами проходит вся история ее работы на ферме. Чуть не двадцать годков… Немало.
«Каково в старых хлевушках маялись? – думает Парася. – Каково без мужиков в войну надседались? А теперь? Так бы и поработала на такой ферме. Автопоилка, дорожка, корма есть. Не знают они, молодые, всей тяги. Конечно, и сейчас бывает разами нелегко, да разве сравнишь с тем, как мы ломили? Годков десять бы назад такую ферму. Можно бы показать было настоящую работу. Ой, да что это сегодня невмоготу? И спину ломит, и живот порезывает. Уж не начинается ли?»
Дойка кончена. Парася нарочито медленно задает корм, кой-где подчищает пол, не спеша забрасывает навоз в тележку, осматривает коров: чисты ли? Она видит, что девушки давно кончили работу и ждут ответа на свои вопросы. Лишь перед самым уходом с фермы она спокойно говорит, разом объясняя все:
– Что Алька уезжает – врут, шлепают зря. Нинка это выдумала. Сама пустой жизни искать подалась, так и на людей напраслину возводит: все, мол, такие. Ферма у вас хорошая, работать на ней удовольствие одно. Не то, как мы раньше мучились. Какой дурак с нее пойдет? Приболела малость Алька. Меня попросила и зоотехнику сказала, знает, что я лучше любого другого управлюсь. К тому же доктор мне наказал работать. Роды, говорят, легче будут. Работай, сказал, не так, чтоб тяжело, но физически.
Когда Парася вернулась домой, солнце завалилось за дальний Гаревской перелесок и лучи его покинули дом. В комнату вкрадывался реденький сумрак. Аля сидела у окна, смотрела на улицу. На скрип двери не обернулась. Но после того, как мать разделась и, подув на захолодавшие руки, полезла ухватом в печь, Аля с треском вытащила из-под лавки чемодан и начала выбрасывать из него книги, платья, белье, разные вещи…
– Ладно уж, – хмурясь, говорила она, вешая платья на плечики. – Уговорила. Остаюсь. Возьму завтра заявление обратно. Вечером сегодня па дойку выйду – раз тебе так хочется. Тебя ведь не переспоришь.
Заявление бери, – рассудительно начала Парася, поставив на стол блюдо супа, – а на ферму я тебя не пущу. Не любишь ты своего дела. Скотину не любишь. Алексан Иванычу скажу: «Ставьте се рядовой в полеводство. А в кадру за животными ухаживать, не годится она».
– Что-о? – возмущенно удивилась Аля, отбросив в сторону платье, которое держала в руке.
– Не кричи. Не швыряй. Посмотрела я по показателям, какое ты место занимаешь. Третье. А я, кроме первого, нигде не была. Коровы грязноваты. У Кокетки на правой ноге, на задней, над копытом болит. Давно ветеринару сказать надо. He-ет. Сама буду ухаживать, останусь. И подруги чего-то не шибко тебя жалеют; никто и не удивился, что тебя нет. Я…
Парася вдруг осеклась, перестала наблюдать за сменой выражений на лице дочери – от гневного до растерянного, прислушалась к тому, что происходило внутри нее. Необычайно сильно толкнулся ребенок, резкая боль прошла по животу. На секунду замутилось в глазах, затошнило от запаха супа. Парася обессиленно опустилась на лавку.
– Мама! Что ты? – кинулась к ней Аля, испуганная побледневшим и на глазах постаревшим от боли лицом матери. – Что с тобой?
– Ничего, – приходя в себя, сказала Парася. – Видно, сегодня срок подошел. В больницу, чувствую, уже не уехать. Побегай к конюху, скажи, чтоб съездил на медпункт за Назаровной, за акушеркой…
– Сейчас на рысаке покатил, мигом обернется, – сообщила Аля, влетая в дом через каких-нибудь десять – пятнадцать минут. Она бегала на улицу в одном лишь платье и шали, наброшенной на плечи, и прижалась с ходу к печи, повернув к матери румяное лицо. – Как ты?
– Ладно, ладно, – пробормотала Парася, любуясь дочерью. – Принеси дров да ступай на ферму. Не смочь мне сегодня. Скажи, что утресь болела ты. Ступай.
Аля метнулась к рабочему ватнику, пряча от матери обрадованно блеснувшие глаза, но, сдернув ватник с вешалки, вдруг остановилась посреди комнаты.
– А ты, мама? Как же без меня? Одна ведь…
– Ты-то поможешь, что ли? – усмехнулась Парася. – Не впервой. Иди. Скоро Назаровна подъедет.
Новая волна боли прошлась по телу. Закусив губу, Парася со всей силы прижалась головой к прохладным бревнам стены. Так было легче. Боль отпустила, только когда Аля привалила осторожно охапку дров к печи и, без стука прикрыв дверь, выскользнула из дома.
«Ничего, – сказала себе Парася. – Вон как вытопывает… Обдумается».
Вскоре подъехала Елизавета Назаровна – сухонькая старушка с жилистыми, как у мужчины, руками, в пенсне, в черном узком костюме. Надевая вынутый из чемоданчика халат, она ругала Парасю. Та затопила печь и ставила в нее чугуны с водой; дело у нее двигалось медленно: мучили схватки, повторявшиеся теперь регулярно.
– Разве можно?! – ворчала Елизавета Назаровна. – Прекрати сейчас же. А то уеду обратно. Не твое дело, Парася Алексеевна, сейчас с этим возиться.
– Не сердись, Лизавета Назаровна, – примирительно отзывалась Парася. – Ништо мне. Подумаешь… Все обойдется. Не первый раз мы с тобой встречаемся…
Ночью ветер усилился и принес первый пушистый снегопад. Снег залеплял окна, крутился у печных труб, ровным полотном расстилался но застывшим полям и дорогам. Выбелились крыши, посветлело кругом, чистотой и свежестью повеяло в воздухе.
Ночью под вой ветра в трубе, под шорох снежных потоков по стеклам появился на свет новый человек. Родился у Параси пятый ребенок. Девочка. Нарекли Татьяной.