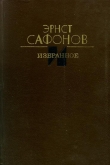Текст книги "Недометанный стог (рассказы и повести)"
Автор книги: Леонид Воробьев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 36 страниц) [доступный отрывок для чтения: 13 страниц]
У реки у Ломенги
Успокоилось все. И закат стерся с неба. Потемнела позолота на западных закрайках кучерявых облачков, которые весь день пробегали, подгоняемые ветром, над головами мужиков и баб, ставящих стога. Покряхтывали мужики, торопясь заметнуть на стог один за другим навильники раздуваемого ветерком некрупного сена, ловчей орудовали граблями бабы. Побаивались: не накатило бы грозы.
А сейчас и ветер стих, и облака разметались по горизонту, стоят. Может, и ползут, но только в негустой черноте ночного летнего неба этого не заметишь. Тучка побольше, разлапистая, с причудливо завернутыми краями, висит над Глухим болотом, от зарослей которого тонкими лентами начинает отслаиваться туман.
Туман легким папиросным дымком начинает куриться и в лощинах, призрачными тенями бродит над серебряно-черной поверхностью дальнего поворота Ломенги. Близь реки не видна, скрыта крутояром берега, на котором кое-где маячат сигнальные, для сплавщиков, столбы.
День от солнца и работы, даже несмотря на ветерок, был горяч. А сейчас зябко, и мы с дядей Саней, понаставив на ночь нехитрую рыбачью снасть – крюки и переметы, развели костер. Дядя Саня подкладывает в огонь сучки, морщит от дыма и жары свое и без того покрытое целой чересполосицей морщин лицо и поглядывает в сторону парочки, виднеющейся в отдалении, у свежесметанных стогов.
Почти все колхозники, окончив метку, уехали на подводах в деревню. Укатили ребята на конных граблях. Но несколько подвод осталось. Стреноженные лошади ленивым скоком изредка встряхивают тишину. На телегах и андрецах, легко прикрывшись, спят люди. Это косцы, которые рань-разрань зазвенят точилами о косы, да несколько метальщиков – они с утра начнут растрясывать копны недосохшего сена, поджидая остальных членов бригады, чтобы не раз поворошить валки, для верности, и начнут закручивать аккуратные стога вокруг длинных стожаров, понаставленных дядей Саней.
Дядя Саня все поглядывает на парочку и ворчит что-то себе под нос. У стогов бродят его племянница Ленка и черный, чубатый, длинноносый парень Митька Бурдов. Ленке и Митьке вполне можно было бы уехать с другими колхозниками домой, но они предпочли остаться и ждать здесь начала нового рабочего дня.
Сучки плохо ломаются на колене дяди Сани, костер тоже, видимо, своим поведением не нравится ему, поэтому он сердито тычет палкой в огонь и бормочет уже громче, так, что я начинаю различать:
– Ходят… И чего ходят? То ли говорят, то ли молчат – не поймешь… И в прошлый год, и в позапрошлый, да каждый год это самое. Кто-нибудь да не спит. Ходят! А зачем? Говорить – так все за одну ночь переговоришь. А молчать – так что толку? Спали бы. За день на работе хребтину наломают, а все не спится. Ходят…
Чуть ощутимый ветерок набегает изредка, сбивая дым от костра, прижимая его к земле. Дым крутится, освобождаясь от нажима ветра, и время от времени горьковатой волной ударяет в лицо. С губ исчезают тогда пряные, медовые ощущения, приносимые ветерком от высохших под горячими солнечными лучами трав, уложенных в стога. Губы горьки. На глазах слезы, и сквозь них удлиняется, искажается фигура дяди Сани, расплывается его ватник и зимняя шапка с одним ухом.
В воздухе и вечер, и день, и ночь. То напахнет с пригорков дневным ромашковым теплом, то потянет сыростью с реки, в теплые наплывы легчайшего воздуха вплетутся струйки холодного, и влажными ладонями возьмется туман за щеки.
Но струи воздуха, наполненные до густоты ароматами трав и кустов, обтекают лицо все реже. Запахи гаснут, сплетаясь в еле уловимый аромат ночи.
Стихают дневные и вечерние звуки. Еще возятся птахи в кустах у Глухого болота, еще послышится с дальнего взлобка, по которому проходит столбовая дорога, рокот мотора или лошадиное ржание, но таких шумов все меньше и меньше. Выделяются другие, не слышимые ранее. Поскрипывает дергач, хлещется крупная рыба, и начинает различаться бульканье струй по гальке на Малопесчаном перекате.
Пробрела по большой дороге в Блинцово гармонь. Одну песню негромко начинала, потом обрывала – за другую принималась. В Блинцове – «топчак», туда многие парни и девчонки по вечерам сходятся на гулянку.
– Ходят, – неодобрительно проворчал дядя Саня, то ли по адресу гармони, то ли в сторону Митьки с Ленкой, которые отошли уже к самому дальнему стогу. – Не спится, вишь, им!
«Ну и пускай ходят, – думаю я, глядя, как дядя Саня обеими руками плотней усаживает на голове одноухую свою шапку. – Чего сердится старый? Забыл разве, как сам целыми ночами прогуливал?»
Ночь победила и день, и вечер во всем. Властвует на земле. Только слишком светла она. Летняя. На какой-нибудь час загустеет настоящая темнота, а затем наступит рассвет. Сейчас всего лишь полутьма. Видна и речная даль, и стенка леса, уступами поднимающаяся на взлобок, по которому пролегла дорога, различимы гряды кустов, окаймляющие луга. Заливные эти луга отвоеваны у кустов, осушены канавами. Наверно, за то, что раньше сплошь были покрыты они кудрявым лозняком, до сих пор называют их – Кудрявые.
Ленка и Митька скрылись за дальним стогом. Дядя Саня, кряхтя, поднялся, постучал сапогами по земле, отогревая или разминая ноги, поглядел на вполне пока достаточную кучу хвороста и хрипловато крикнул:
– Ленка! Сучков насобирай!
Прошло с десяток минут, и Митька подошел к костру с охапкой сучьев. За ним с такой же охапкой вскоре приблизилась Ленка.
– Вот дельно, – довольно заговорил дядя Саня. – Чем мне, старику, ноги ломать. Посидите, погрейтесь. А то спать бы ложились. Вставать будете чуть свет, работать. А вы сморитесь за ночь. Какие из вас работники…
– Сам-то что не спишь? – смеется Ленка, высокая, полногрудая. Чувствуется, ей весело, она готова смеяться еще и еще, был бы лишь повод.
Дядя Саня как-то изучающе смотрит на Ленку, окидывает взглядом ее налитую свежестью и силой фигуру и бормочет:
– Нам, – кивнув на меня, – с ним что… Мы крюки вынем – и храпака. До поздней зари. А вам – косы да лопатки в руки чуть свет. Вжваривай!
Ленка опять смеется неизвестно чему.
Митьке, видимо, не стоится на месте. Он нагибается, натягивает, без особой на то нужды, голенища сапог повыше, счищает ладонью незаметный сор с рукавов хлопчатобумажного серенького пиджачка и с коленок таких же брюк. Переминаясь с ноги на ногу, он всем видом своим говорит: «Чего тут стоять? Пойдем. Успеем еще выспаться». Левой рукой Митька ерошит черные свои вихры, а правой, незаметно для дяди Сани, тянет Ленку за рукав коротенькой светло-синей жакетки.
Ленка вроде не замечает: лукаво поглядывает по сторонам озорными серыми глазами. Митька тянет снова.
– Пойдем мы, – с полувздохом заявляет Ленка. – Жарко тут у вас. Погуляем.
Дядя Саня с явным неудовольствием закряхтел, и только открыл рот, чтобы, вероятно, высказаться по этому поводу, как со стороны Глухого болота донеслись какие-то невнятные всхлипывания и что-то отдаленно напоминающее одновременно человеческий кашель и смех.
– Угу, – только и сказал дядя Саня, словно ждал этого.
– Что это? – Ленка вздрогнула и посмотрела расширенными от испуга глазами на всех нас по очереди, остановив свой взгляд на дяде Сане.
– Птица, – сообщил за него Митька и дернул Ленку за рукав.
– Птица, наверно, – подтвердил дядя Саня и с неожиданной для него словоохотливостью продолжил: – А кто знает… Может, и зверь. А люди болтают разное. Есть ведь чудаки-то: выдумывают от безделья. Слышь, какую пулю пустили: говорят, Верка это.
– Лузгина? – полувопросительно, полуутвердительно заметила Ленка и присела на чурбанчик, грея у огня, очевидно, за одну минуту зазябнувшие руки.
– Расскажи, что за Верка? – попросил я, чувствуя, что все, кроме меня, знают об этом, а дяде Сане, несмотря на то, хочется почему-то поговорить.
– Начинаются бабьи сказки, – буркнул Митька, – нараспускают всякой дребедени…
– Расскажи, дядя Саня, – поддержала меня Ленка, по неуверенному голосу которой нельзя было определить, чего ей больше хочется: слушать об этом еще раз или уж лучше не слушать?
– Ну, послушаем сказку, – недовольно пробурчал Митька, видя, что большинство не на его стороне, и присел к костру, независимо отвернув лицо в сторону реки.
– Какую сказку? – вдруг рассердился дядя Саня. – Какую такую сказку? То, что Верка в Глухом по ночам кричит, – это, верю, сказка. А разве я об этом? Какая сказка, когда я Верку с детства, как тебя, знал, в ту пору, когда она по деревне ребятенком бегала? И после. А ты тогда – под стол пешком, для тебя, конечно, сказка…
Дядя Саня счел, очевидно, ненужным далее отчитывать Митьку и повернулся ко мне.
– Дело тут простое и короткое. Жила у нас в деревне, три дома от меня, Верка Лузгина – Алексея Лузгина дочка. Когда подвыросла, завлекательная на вид стала. Начали парни за ней, один, другой… Ну, как водится, она одного присмотрела, Борьку Чеснокова. Стали подруживать.
Друг на друга они очень похожи были: черные, глаза у обоих, как у цыган. Им все говорили: «Судьба». Судьба так судьба, еще крепче стали они дружить. В деревне, сам знаешь, парень со своей залетиной где-нибудь по сторонке ходят, на глаза не лезут, хоронятся. Ну, а эти у всех на виду похаживали: жених, мол, и невеста. Не стеснялись. Хотя, между прочим, – дядя Саня искоса поглядел на Митьку с Ленкой, – точно известно: лишнего ни грамма не позволяли. Да.
В общем, они бы тут раз-раз – и обженились. Да война, как на грех. Борьку сразу же в сорок первом, в июне, и призвали. Ну, попрощались, пошел. Ранило его несколько раз: под Москвой, под Оршей, потом еще где-то. Да все бог обносил – легко. Подлечится в госпитале, снова воюет. На побывку так и не бывал. Дошел до Германии, в Германию вступил. С Веркой они, конечно, переписывались.
Она сильно его ждала. Все, понятно, сильно ждали, а она уж очень неспокойная какая-то. Чуть писем нет – ходит как туча. Молчит, глазами черными сверкает. Раненый лежит – еще того сердитей. А как в порядке все – радости у нее, что у малого дитя.
Много ведь можно вспомнить… Как и носки, да варежки, да прочее всякое теплое она посылала. И ей посылки приходили. И о письмах… Да что говорить, время такое было, вспоминать неохота. Тут и радость тебе, коли вернулся, и слез без конца и краю. Короче скажу, кончилась война. День Победы. А Верке как раз, совсем недавно, письмо от Борьки было. «Жив, здоров…» и другое такое прочее.
Дядя Саня помолчал, пошевелил палкой угли в костре и словно нехотя добавил:
– Д-да. А потом похоронная пришла. Седьмого, за два дня до Победы, какой-то леший в него пульнул. Всю войну прошел, а тут – на тебе… Между прочим, двоюродный племянник он мне.
Наступило молчание. Дядя Саня все подшевеливал костер, так что от полуобгоревших сучков взлетали и таяли в дыму снопики искр, а за ними взметывалось пламя. Палка, которой он действовал как кочергой, загоралась, и дядя Саня сбивал огонь, водя палкой по мокрой траве.
Пала роса. Туман выполз из низин, растекся по лугу и начал отделяться от земли. А роса высветлила, вымыла, отяжелила травы. Нескошенные частички луга, те места, где неудобно было брать косилкой, осеребрились. По серебряной закрайке в глубину зарослей Глухого болота темной ниткой виляла пешеходная тропинка.
– Ну вот, – снова раздался голос дяди Сани, – она и плакала, и не верила, и ждала, и опять плакала. Потом категорически заявила: «Жив, говорит, и ничего больше слышать не хочу!» И замолчала. Странная малость стала. Молчит и все в свободное время сюда, на Кудрявые луга, ходит. Цветы собирает, песни какие-то потихоньку поет. Смеется нехорошо. Они часто тут с Борькой хаживали.
После, видно, умом мутиться начала. Так все нормально, а как придет сюда, сама не своя. Заладила на закате ходить, ночью домой вертается. А раз совсем неладно получилось. Бродили здесь парень с подружкой. Догнала их, зашла вперед, встала и смотрит на них. Они обойдут ее, она опять обгонит, на пути им становится. Затем подружку от парня в сторону отозвала и тихо спрашивает: «Ты с кем это ходишь?» Та говорит: «А ты не видишь, что ли? С тем-то и тем-то…» Тогда Верка прямо ей в глаза поглядела и высказывает: «А я думала, ты с Борькой моим. Смотри, не обманывай. А то…» И пальцем ей погрозила.
Не успели бабы об этом разе посудачить вдоволь, как новое дело. Пропала Верка. Через день после этого случая, аккурат около преображеньева дня, в ночь из дому ушла. А гроза была – страх смотреть. Молнией сарай зажгло. А уж дождь – в одну капельку. Все залил.
Два дня всей деревней искали. На вторые сутки под вечер нашли. Тут в середине Глухого болота озерцо есть. Там она и уходилась. Ненарошно, видать, не с цели. Забрела не от; ума, а оттуда ночью навряд ли выберешься. И зыбко, и топко, и глыбко, и вода – ледянка. И гроза – не приведи бог. Косынка ее беленькая путь показала. С волос сорвалась, на ольшинке прицепилась, когда Верка до своей смерти шла.
– Понял? – вдруг почти крикнул дядя Саня в сторону Митьки. – А ты – ска-азка… Сам ведь знаешь, слыхивал не раз… Это потом уж бабы всякое с перепугу наплели.
Все, в том числе и Митька, который, видимо, уже сожалел, что брякнул неудачное слово, поглядели в сторону кустов Глухого болота. Еще выше поднялся туман. Белым островом повис он над черной путаницей ветвей. С обеих сторон этого острова высовывались, как руки, полупрозрачные дымки-рукава. Они поднимались к небу и, казалось, стремились схватить рваную тучку, которая так и осталась ночевать над Глухим болотом, схватить и утащить ее в неразбериху зарослей.
Опять проплакала и просмеялась странная птица. Ленка поежилась, прижалась к Митькиному боку и скороговоркой, как детскую считалку, сказала:
– Ой, боюсь, боюсь, боюсь.
– А бабы, – дядя Саня чуть приметно усмехнулся, – ну и выдумывать. Не нанимать. Будто, слышь, Капка из Раскатова Верку здесь, недалече, видела. Капка, дескать, с дружком рассталась, домой бежала. Вот и видит: стоит Верка за кустом, в упор на нее глядит и пальцем манит: «Подойди». Платье на ей белое, коса черная расплетена, глаза большущие. А палец белый-белый, тонкий-тонкий. Капка как сиганет…
– Ой-ой! – негромко вскрикнула Ленка и невольно ухватилась за Митькин локоть.
– Ну, глупости, – недовольным тоном отозвался Митька. – Чего трясешься? Не маленькая, чай. От ерунды-то от всякой.
– Пойдем-ка, – поднимаясь, предложил мне дядя Саня. – Посмотрим крюки, которые первыми закинули.
…Мы спустились под берег. Вода чернела. Наступало самое темное время ночи, и редкие звезды проглянули на небе, поблескивая неярким сиянием. Под шагами осыпались в воду с булькающим звуком куски сухой глины.
Вынули двух порядочной величины окуньков, решили эти крюки больше не ставить и полезли обратно на крутик.
Когда выбрались из-под берега, увидели, что Ленка и Митька все еще сидят у костра. Ленка молчит, а Митька, как недавно дядя Саня, ворошит палкой в костре и о чем-то говорит.
– Обожди, – сказал дядя Саня. – Давай здесь лесы смотаем. Пусть их говорят.
И прибавил вполголоса, со смешком, словно для самого себя:
– Ленку теперь от костра за уши не оттянешь. Трусиха она – не приведи бог.
– Так зря ты при ней рассказывал, – заметил я. – Напугал только.
Дядя Саня помолчал, возясь с запутавшейся леской, а потом со строгой ноткой в голосе заявил:
– Нет, не зря. Гулять, пусть гуляют, но чтоб все по-хорошему. Женятся – я не против. Митька – парень дельный. Но и настырный он, и балованный. Ленка, конечно, девка серьезная, но все же. Сейчас, знаешь, какой дух от земли? Чуть нагнешься – так голову и закружит.
Опять помолчал. И вдруг еще строже сказал:
– И притом пусть подумают… какая она настоящая-то бывает… В общем, любовь.
Мы не спеша приводим в порядок свою рыбацкую снасть, а Митька все говорит, а Ленка слушает. Ночь плывет к рассвету. Костер постепенно гаснет. Затем Митька встает. Поднимается и Ленка, и оба тихонько бредут от костра.
– Ишь ты… – неопределенно замечает дядя Саня.
Ленка и Митька повертывают к костру, проходят несколько шагов, опять повертывают и медленно направляются к телегам и Стогам.
Дядя Саня быстро накручивает леску на дощечку с вырезами, глядит исподлобья вслед парочке и ворчит:
– Ходят. И чего ходят?..
Все замолкло кругом. Тихий час сенокосной ночи наступил. Лишь в кустах вдруг неясно ворохнется кто-то, да дядя Саня бормочет под нос свое. И на перекате, перевиваясь, позванивают легонько струйки.
Слышно, прошли по взлобку из Блинцова девчата, пронесли песню в сторону Раскатова. Песня печальная, старинная. Слов, правда, не разобрать, но мотив слышен. То сильно нанесет, то далеким отголоском – чуть ухо ловит – отзовется. Бормочет старый свое. Хрусталем звенят перекаты. И мотив такой – душу вынуть не жалко.
Капитан «Звездолета»
Эта старая лодка, тяжелая, неповоротливая, с размочаленными уключинами, получила гордое имя «Звездолет» после того, как на перевоз пришел Славик. Перевозчик Никандр Ефимович Тараканов, когда принимал Славика в помощники, торжественно заявил:
– Вон та лодка закрепляется под мою личную ответственность, а эта вот лодка закрепляется под твою личную ответственность.
Славик выслушал первый приказ начальства и занялся лодкой. Сделал кое-какой мелкий ремонт: вбил где надо с десяток гвоздей, устроил лавочки, подзаконопатил для надежности щели. А потом принес из дома остаток красной краски в консервной банке и вывел на обоих бортах, ближе к носу, крупно: «Звездолет».
Тараканову это не понравилось.
– Выдумал тоже название, – бормотал он сердито. – Назвал бы «Чайка» или еще как-нибудь. А то придумал – насилу прочитаешь.
А сам забрал у Славика оставшуюся краску, подошел к лодке, «закрепленной» за самим собой, присел на чурбанчик и задумался. Долго думал, кряхтел, выкурил не одну папиросу, затем начал выписывать название лодки: «Чайка». Написал, увидел, что краски чуть-чуть осталось на донышке банки, и поставил на корме три буквы: «Н. Е. Т.».
– А что это такое вы написали? – поинтересовался Славик.
Тараканов довольно поглядел на дело рук своих и назидательно объяснил:
– Тут соображение иметь надо. Это – мое имя, отчество и фамилие в укороченном виде.
С тех пор так и пошло: когда Славик едет на лодке – это обязательно «Звездолет». Тараканов предпочитает «Чайку». Впрочем, обе лодки по качеству друг от друга почти не отличались, а поэтому и перевозимым людям, и перевозчикам от такого разделения было ни хуже, ни лучше.
…Скоро вечер. День теплый, но не жаркий. Тихо, спокойно в воздухе. Славик отложил книгу об увлекательных приключениях группы астронавтов на одной из планет Солнечной системы и думает, свесив ноги с борта большой лодки.
Все перевозное хозяйство состоит из большой лодки с настилом с борта на борт в широкой части, «Звездолета», «Чайки» да маленькой лодчонки на двух, самое большое трех человек. Большую лодку гоняют редко. На ней можно перевезти порядочную группу людей, лошадь с повозкой при неотложной надобности или небольшой гурт скота. Но лошади, гурты, машины, тракторы переправляются ниже на семь километров, на Шартановском перевозе. Там – паром, много лодок, целая бригада перевозчиков. А здесь – колхозный перевоз: то одного человека, то двух перевезти. Который, скажем, с этой стороны, где обычно большая лодка стоит и где перевозная избушка, из сельца Ложкова в заречные деревни идет. А кто, наоборот, из заречных деревень – Колесников, Хитряева, Токарихи и хутора Малый Починок – в село правится. Для этого в основном и перевоз существует.
Так и тянутся с утра до вечера: то тракторист запасную часть тащит, то старуха козу на ветеринарный пункт ведет, то косари целой артелью переезжают, то киномеханик банку с лентами новой картины несет, а то просто кто-нибудь в гости к свату или другому родственнику в новом костюме и при часах вышагивает.
Но сегодня после обеда на перевозе выходной. Густо пошла моль: видимо, сбросили большую партию. Переезжать трудно. Народ знает, что тесно моль идет, – новости здесь без телеграфа в один момент распространяются – и за реку не ладятся, кому не очень спешно нужно, – на другой день отложили.
Для перевозчика – выходной и для рыболова – тоже выходной. Не только потому, что моль идет, а и потому, что сегодня по тихой и хорошей погоде высыпал на реку мотыль. Валом валит. Теперь рыба не позарится ни на какую приманку несколько дней.
Вот и пришлось Славику смотать удочки, приставить к избушке весла и бездельничать. Взялся он за книгу, но книгу вскоре отложил, задумался.
Думает Славик о своих одноклассниках, мальчиках и девочках, которые работают сейчас в кукурузоводческом звене. Им, конечно, веселей. Правда, и Славику теперь здесь не так скучно – привычно и даже интересно. А весной, после школы, было ему тут как в ссылке.
В прошедшем учебном году еще с зимних каникул договорились они, все ребята, всем классом организовать кукурузоводческое звено и взять на летние каникулы участок в своем ложковском колхозе. Когда кончался учебный год, пришли они со своим предложением к председателю. И Славик, конечно, со всеми пришел.
Но случилась в это время беда: умер старый перевозчик дядя Серафим со странным прозвищем Патефон. На перевоз назначили Тараканова, который считался в колхозе к тяжелой работе неподходящим. Тараканов заявил, что ему нужен помощник. Когда председатель указал на то, что дядя Серафим работал один и превосходно справлялся, Тараканов рассудительно заметил, что у него «опыту мало» и посему он в одиночку работать не будет. Ничего не оставалось делать – не отрывать же стоящего человека вместо Тараканова на перевоз. Председатель пришел к ребятам и попросил одного мальчика в помощники к Тараканову.
Ребята запротестовали, но председатель сказал:
– Вы не рассматривайте это поручение как легкое. Тот, кто пойдет, будет в одиночку работать, без вас. Ему труднее. Вы его должны ценить.
Это было лестно. Но ребята все же ссылались один на одного. И кто-то из девочек крикнул:
– Жребий тяните, мальчишки! Это по-честному.
Потянули. Всем мальчишкам – чистые бумажки, а ему, Славику, конечно же с крестиком.
Задумался Славик и не слыхал, как вышел из-за прибрежного лозняка Тараканов, проскрипел яловыми сапогами по гальке и подошел к большой лодке. Очнулся от размышлений, когда старший перевозчик шагнул на настил. Тараканов подошел к Славику, взял лежащую на настиле книгу, прочитал название. Поглядел на бревна, плывущие по Ломенге, расстегнул серую с белыми полосками рубаху, почесал грудь, сказал:
– Д-да… Спокой дорогой.
Славик поглядел на Тараканова. Стоит мужичонка небольшой в светло-сером бумажном костюме и высоких яловых сапогах. Лицо длинное, да и не узкое, все поросло светлой щетиной. Волосы на голове ни короткие, ни длинные – средненькие. Тараканов редко их стрижет: они уж так сами по себе вылезают и все одинаковый вид имеют.
– Чего смотришь? – спросил Тараканов. – В конторе вот был. Выручку сдал.
Славик потянулся за книгой, взял ее из рук Тараканова, раскрыл, стал читать. Тараканов поглядел-поглядел на реку, повернулся и заскрипел галькой к избушке.
Разговаривать им, собственно говоря, не о чем. С самого начала получилось как-то так, что разговаривает один Тараканов, а Славик молчит и слушает.
После «закрепления» лодок, когда началась их совместная работа, Тараканов внушительно объяснил Славику его обязанности.
– Перво-наперво, – заявил он, – ты должен разуметь, что я старший перевозчик, а ты мой подручный. Председатель послал тебя в мое распоряжение. А поэтому ты должен слушать меня, как войско командира. Понял?
– Понял, – сказал Славик.
– Будем перевозить, – продолжал Тараканов, – когда ты, когда я. Обедать и ужинать будем ходить по очереди. Спать здесь, в избушке. Завтрак сюда с вечера носить. Такая установка дана начальством.
– Знаю я, – сообщил Славик.
– Ну, а мне иногда и в другое время в селе побывать придется, – дополнил Тараканов. – Выручку сдать. С начальством посоветоваться. Когда без меня повезешь, я тебе билеты оставлю, а номер замечу. Перевезешь человека, билет ему в руки, а с него – пятак. Потом мне в выручке отчитаешься. Вот пока и все тебе указания. А ты следи за системой моей работы. Перенимай. Понял?
– Понял, – ответил Славик.
Он решил про себя: быть дисциплинированным и, раз уж оказался один, без ребят, заслужить здесь похвалу не меньшую, чем они там, в звене. Поэтому он внимательно стал присматриваться к «системе работы» Никандра Тараканова.
А система работы оказалась у старшего перевозчика несколько странной. Если с утра, как бы ни было рано, Славик просыпался от первого крика с другого берега: «Перевоз!», то Тараканову для пробуждения нужен был целый хор голосов. Когда Тараканов садился за весла, то он охал, стонал, говорил, что у него «дых спирает в груди», чертыхался, приговаривая: «Помрешь на этой проклятой работе». Всем перевозимым людям, особенно не местным, он жаловался на тяжесть и беспокойный характер своей работы, на сырость, идущую от реки, на сотни своих болезней.
Зато пятаки он собирал быстро и с шуточками вроде: «Деньги ваши, будут наши». И Славик замечал, что некоторым он не отрывал билетов. А те в них и не нуждались и не спрашивали. В таких случаях Тараканов веселел, и Славик знал, что он в этот день обязательно отправится надолго в село «посоветоваться с начальством», а вернется с четвертинкой водки во внутреннем кармане пиджака.
Четвертинку Тараканов выпивал перед сном, оставляя малость на утро, и богатырски храпел, сотрясая воздух в тесной избушке. Славику он сообщал, что выпивает «от нервной системы».
Он вообще любил ученые слова, мудреные выражения и очень был рад, когда через перевоз случайно проходил какой-нибудь заезжий, городской человек. С ним он разговаривал «по-умному», а после поучал Славика:
– К каждому человеку особый подход нужен. Ты у меня учись жить. С одним так поговори, с другим этак. И в перевозном деле то же самое. Куда вот ты, как настеганный, на первый крик мечешься? Ты выгляни из избушки, посмотри, кто идет. Если стоящий человек – председатель, бригадир там или из района кто, – поспешай. А если баба какая-нибудь вопит – зачем торопиться? Ей не к спеху. Подождет. Не министр.
Славик молчал, про себя не соглашался, но, помня о дисциплине, не вступал в спор. Один только раз он не подчинился Тараканову. Тот вернулся из села под хмельком, забрал у Славика билеты и «выручку» и остался недоволен.
«Выручка» показалась слишком маленькой. Тараканов решил, что Славик следовал его «системе» и собирал пятаки, не выдавая билетов. Старший перевозчик отдал приказ:
– Ну-ка, выверни карманы!
На это Славик с возмущением выкрикнул:
– Ты что, дядя Никандр?! Я же пионер! Комсомольцем скоро буду!
Тараканов взглянул в черные глаза паренька, в которых сверкнули слезинки обиды и гнева, увидел его вспыхнувшие резким румянцем смуглые щеки, сжатые в кулаки кисти рук, отступил на шаг и с удивлением и полуиспугом пробормотал:
– Ладно, ладно. Не горячись. Ишь какой… раздражительный…
И невзлюбил Славик Тараканова.
* * *
Славик путешествует вместе с отважными астронавтами по неизведанным просторам чужой планеты, где каждый шаг сулит тысячи открытий, но и таит тысячи опасностей. Вот астронавты возвращаются к своему космическому кораблю-звездолету. Прочитав слово «звездолет», Славик посмотрел на свою лодку, которая спокойно стоит у берега, привязанная цепью к толстому бревну, лежащему на гальке.
Сначала Славику самому казалось слишком громким название, данное лодке. Особенно смущало оно днем: вид лодки мало соответствовал звучному имени. Зато ночью, когда приходилось перевозить или катать друзей-одноклассников, которые не забывали Славика и частенько навещали его после ужина, «Звездолет» мог превратиться и в индийский челнок, и в полинезийскую пирогу, и в военный корабль, и во многое другое. А если ночь была безлунной и Ломенга тихой, то в воде отражались звезды, и «Звездолет» становился настоящим космическим кораблем, перелетавшим от звезды к звезде. Только расстояние между звездами исчислялось здесь не световыми годами, а обыкновенными метрами.
С этих вечерних и ночных поездок начал Славик привыкать к перевозу. И привык. А после оказалось, что и на перевозе можно узнать много интересного.
Прежде всего он узнал, что существуют четыре стороны света. Правда, об этом он слышал и раньше, в школе, но здесь ему пришлось познакомиться со всеми сторонами света на практике. С переменчивым западом, откуда ветер может принести нежданный ливень, так что вымоет до нитки, если окажешься не на той, где избушка, стороне. С суровым севером, от дыхания которого разводится на речной глади мешающая грести волна и коченеют намозоленные руки. Восток обычно напоминал о себе довольно устойчивой погодой, сухим и нехолодным, но резковатым ветром. А юг давал знать тем, что приходилось перевозить в майке и купаться по нескольку раз в день.
А со сколькими людьми познакомился Славик! И сколько интересных разговоров было между ними; он же являлся молчаливым слушателем этих разговоров, шутливых и серьезных, деловых и незначащих, обсуждений важных вопросов и пустой переброски словами.
Раньше для Славика все взрослые были вроде бы одинаковыми, похожими на его отца и мать. Теперь же оказалось, что все они очень различны по характеру, поведению и многим другим внутренним качествам и внешним проявлениям их. Отмечал же Славик различия между перевозимыми, наблюдая главным образом за их отношением к Тараканову и за отношением Тараканова к ним.
Когда через перевоз шли, скажем, бабы-ягодницы, отлынивавшие в горячее время от работы, или мелкие торговки с четвертями молока или корзинками яиц, Славик знал, что Тараканов будет покрикивать на них и громогласно жаловаться на тяжесть перевозного дела. Бабы будут поддакивать ему и улещать, называя Никандра Ефимович, что очень нравится Тараканову.
Деловые, занятые люди пройдут за Ломенгу как по сухой земле, разговаривая между собой и словно не замечая ни Тараканова, ни того, что под ними не большая дорога, а покачивающееся дно лодки. И Тараканов будет при них неразговорчив, малозаметен.
Но особенно тихим становился Тараканов, когда за реку или из-за реки ватагами шла колхозная молодежь, шумливая, беспокойная и резкая на язык. Если на том берегу выстраивалось несколько парней и слышался коллективный крик: «Та-ра-ка-нов!», то Тараканова почему-то оскорбляло это. Он посылал на ту сторону Славика, а сам забирался в избушку.
Славик перевозил парней, они проходили мимо избушки и покрикивали:
– Эй, Тараканов! Почему лентяйничаешь, парнишку эксплуатируешь?!
– Выйди проветрись, а то закиснешь там!
Тараканов ворчал и чертыхался в избушке.
Закат растекся почти что по трети неба, но не сверкает яркостью красок, а мягок и нежен. Мотыля все больше. И моли тоже: бревна то и дело глуховато стукаются в боны, отводящие их от мелких мест, и вновь попадают в струю.