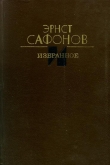Текст книги "Недометанный стог (рассказы и повести)"
Автор книги: Леонид Воробьев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 36 страниц) [доступный отрывок для чтения: 13 страниц]
Ночная молитва
Почти весь выходной день молодой колхозный агроном Михаил Шишов пробродил с ружьем по приречным перелескам. Ушел он из дому в одиннадцать, а сейчас уже темнело. Два раза Михаил стрелял по рябкам, один раз по тетереву, но ничего не убил. И теперь, возвращаясь домой, был он голоден и измучен, как собака после длинного гона. А завтра надо было идти в отдаленную бригаду, и настроение у Михаила сложилось к вечеру так себе.
Продравшись сквозь дикое переплетение молодого ольховника и березняка, он выбрался на льняное поле с черневшими шеренгами бабок и полосами-дорожками вытеребленного, но еще не связанного льна. Перешел поле, очутился на большой дороге и двинулся к Ванькину, над темной грудой домишек которого бледным языком свечи стояла первая нежно-розовая звезда.
Дорога была суха, но не пыльна: позавчера прошел первый за вёдренную осень обильный дождь. Пыль пропала, но луж не осталось, а машины укатали полотно. Здесь идти было легко, однако Михаил шел потихоньку – сказывалась усталость, а резиновые сапоги казались пудовыми. У опушки над землей заслоился туман. Заметно свежело, и Михаил задернул замок куртки до подбородка.
Он шел и думал, как пройдет сейчас Ванькино, доберется до своей Комарихи, придет в свою комнату. Затопит маленькую печку, подогреет ужин, а затем брякнется на койку, поймает какую-нибудь передачу поинтересней, врубит приемник на всю катушку и будет лежать на спине, подложив обе ладони под затылок. И так живо представилось это ему, и так захотелось этого счастья побыстрее, что Михаил даже ускорил шаг.
Впереди по поперечной дороге протарахтел велосипед с подвесным моторчиком. Потом опять все стихло, только где-то очень далеко чуть слышно бренчала по выбоинам телега. Зеленое полукружье послезакатного света на западе становилось прозрачно-серебряным, а потом начало тускнеть. И с наступлением темноты стало словно еще тише на дороге, на полях, в перелесках.
И вдруг в тишину вплелся какой-то звук. Потом он раздвоился. Теперь было два звука: один с неба, другой из Ванькина. Михаил поднял голову, но ни реактивных самолетов, ни следа их различить было уже невозможно. А может быть, след и был бы виден, да самолеты прошли стороной. Звук с неба постепенно стирался и таял, а из Ванькина, чем ближе подходил Михаил, все слышнее становились заливистые переборы хромки.
Голоса хромки недолго оставались в одиночестве. К ним присоединился сначала один женский голос, а тут разом грянуло добрых полтора десятка и женских, и мужских. Михаил разобрал отдельные слова и угадал всю частушку.
«Гуляют, – подумал он. – «Пиво» у кого-то…»
Он приостановился и на минуту задумался. Идти через Ванькино не хотелось. Михаил работал всего лишь с весны, но уже многих в колхозе знал, а его знали, пожалуй, все.
«Затащат, – размышлял он. – Если увидят, затащат. И не откажешься: скажут – зазнался. Дело известное. Ученый, мол, куда ему с нами…»
Выпить деревенского пива он сейчас был бы даже не прочь. Но сидеть в шумной компании, поддерживать разговор ему совершенно не хотелось. Тянуло к себе в комнату, побыть одному, отдохнуть.
– Обойду стороной, – решил он вслух.
Но тут же вспомнил, что обходить Ванькино с одной стороны надо через поскотину, где два раза придется перелезать через изгородь, идти по кустарнику, спотыкаясь на кочках, а после пробиваться молоденькой сосновой чащей. С другой стороны Ванькино обтекала речка Уломка, впадавшая неподалеку в Ломенгу. У места впадения была болотина, и пришлось бы хлюпать по ней. Вспомнил, махнул рукой и направился прямо по дороге.
Ванькино казалось вымершим, кроме одного дома на самом конце деревни, противоположном тому, с которого вошел Михаил. Деревня была малюсенькая, и, видимо, все взрослое население собралось к «пиву», а в домах остались лишь спящие старики и дети.
Михаил прикрыл за собой скрипучие ворота деревенской ограды и пошел мимо тихих и темных домов, как бы насупленно поглядывавших из-под козырьков крыш. Усадьбы рядом с домами были теперь голы, листвы на деревьях и кустах в палисадниках осталось совсем мало. Поэтому ряд домов казался не тесным, как летом, а наоборот, редким. Стоял каждый дом на особицу, а за ним еще более одиноко чернели или маленькая банька, или какой-нибудь сарайчик.
Зато дом на конце деревни сиял всеми окнами. Светился и четырехугольник открытых настежь дверей. Пятистенок был большим, высоким, можно сказать, «гордым». Михаил улыбнулся, представив, как во главе стола сидит хозяин дома Николай Огарков – мужик высоченный и здоровенный, сидит с видом гораздо более гордым, чем у его нового дома. Угощает гостей и ликует в душе, что вот у него новоселье и есть на новоселье в достаточном количестве – «не хуже, чем у людей» – и выпить, и закусить.
Мимо празднично светившегося и шумевшего дома Михаилу удалось пройти почти незамеченным и неузнанным. Правда, кто-то из группки куривших у фасада мужиков крикнул вслед грозно: «Эй! А ну-ка, скажись, что за человек идет?», но Михаил уже закрывал входные ворота. Отойдя еще поглубже в темноту, он остановился, обернулся и поглядел на дом.
Отсюда, с дороги, видны были два окна боковой стены, оба без занавесок, оба распахнутые настежь. В комнате виднелись поставленные углом столы, на которых стояли закуска и стаканы с пивом. Шумели мужчины и женщины, наклоняясь друг к другу, что-то рассказывая и доказывая. Не покрывая общего шума, а как-то соответствуя ему, совпадая с ним, заиграла гармошка.
– Почаще! – рявкнул кто-то, и девичий голос вынес звонко-дробную частушку.
Михаил увидел, как по кругу прошлась рыженькая девушка, вызывая частушкой «на половочку» какую-то Катю. Потом увидел и Катю – дочку хозяина дома, высокую и сильную красавицу, в отца. Послышался Катин голос:
Я плясала и устала,
Скинула танкетки с ног.
Я любила и забыла,
Он забыть меня не мог.
«Забудешь такую…» – подумал Михаил, повернулся и зашагал дальше. Сейчас, в слоистом от табачного дыма воздухе душной комнаты, Катя, различимая по пояс, сбоку, выглядела совсем не так, как в поле. Михаил шагал и представлял себе черные ее волосы и неожиданные под черными бровями голубые глаза, представлял ее стройную фигуру, быструю походку и улыбку, чуточку кокетливую. Представил и Катиного дружка – широкоскулого шофера Федьку, уехавшего недавно на своей машине в Воронежскую область, на уборку. Вспомнил здоровилу Федьку и пробормотал:
– Давно ли провожала? Ревела небось. А тут: «Я любила и забыла». У вас это быстро. Эх, присесть, что ли, на минутку?
Дорога здесь раздваивалась. Михаилу нужно было направо. Он свернул в перелесок, за которым начинался могучий бор.
Резкий поворот дороги вывел его на обрыв. Вдоль обрыва вилась тропка. Михаил чуть прошел по ней, отшагнул в сторону, ногой отыскал знакомый пенек рядом со старой сосной и сел, облегченно вздохнув и вытянув ноги.
Каблуки его сапог находились теперь у самого края обрыва. Посветлело: из-за горизонта выплывал красный большущий полудиск. Завиднелась над обрывом Ломенга, похожая сейчас не на реку, а на ленту шоссе из темного полированного камня.
Река делала тут крутой поворот. На той стороне был ивняк, за ним – заливные луга, дальше – деревни. А за спиной Михаила стоял бор, в начале которого находилось кладбище.
Он отдыхал, поеживаясь от холодка, дыша воздухом, в котором сплелся сложный запах близкой реки и сосен. Вдруг слева от него что-то зашуршало. Михаил от неожиданности вздрогнул и поглядел туда.
Легко прозвучали шаги, и, покачнув низенькие сосенки, на выступ обрыва вышел человек. Сквозь сетку ветвей Михаил различил белую кофточку. «Женщина, – догадался он. – Что она, с ума сошла, в такой холод – в кофточке?»
Женщина стояла совсем неподалеку от Михаила и молчала. Ему казалось, что ом даже слышит ее дыхание.
Луна взошла повыше и стала менять свою окраску на желтую. Женщина тихонько рассмеялась. Михаилу невольно стало не по себе. А женщина негромко и тягуче пропела частушку:
Как мы с милым расставались,
Ох, и расставалися,
Слезы падали на розы,
Розы рассыпалися.
– Тьфу, черт! – потихоньку ругнулся Михаил, узнав Катин голос. – Выпила, так теперь и холод нипочем.
– Месяц мой светлый, – вдруг громко сказала Катя таким звенящим и напряженным голосом, что Михаилу опять сделалось жутковато, – ночка моя тайная, Ломенга ты моя глубокая!
«Или напилась совсем, или сбесилась», – решил Михаил.
– Ветер мой быстрый, – продолжала тем же тоном Катя, – ты везде бываешь, все знаешь. Слетай к милому моему, посмотри, как живет он на чужой стороне, как слово, что мне подарил, держит.
Голос ее зазвучал угрожающе:
– А если отобьет его у меня какая разлучница – пусть не будет ей покою ни днем, ни ночью! Пусть счастья ей никогда в жизни не видать, пусть глаза она все повыплачет. И пусть детей у нее никогда ни ребеночка не народится. А ему, коли изменит мне, пусть сюда дорога навсегда будет заказана. Уйди за тучи, месяц ясный, чтоб дорогу он не увидел. Утопи ты его в омуте своем, матушка Ломенга. Пускай вынесет его струя в место дремучее, чтоб никто его не нашел и не похоронил никогда.
Михаил увидел, как Катя опустилась на колени и уперлась обеими руками в землю перед собой.
– И мне тогда, – уже глуше прозвучал ее голос, – коли бросит он меня, – не жить. Прими ты меня тогда, землица сырая, кормилица наша. На что мне жизнь без него, на что белый свет, на что солнышко ласковое?
В небе возник звук, окреп ненадолго и стал гаснуть. Михаил поглядел вверх, но ни реактивного самолета, ни следа от него, конечно, опять не различил.
Когда он повернул голову в сторону Кати, она уже стояла.
– Федь, а Федь, – проговорила она голосом нежным и ласковым, – ты прости меня, что я всякое тут болтаю. Ой, и наговорила я всего. Выпила я сегодня – и как дурная. Прости, Федя. Скучно мне без тебя. Как приедешь, крепко я тебя обойму, поцелую. Ты меня слышишь, Федя?
Она широко раскинула руки, и заречная сторона слабым эхом откликнулась на ее призыв:
– Фе-едя! Милы-ый! Ау-у!
– А-у! – громко раздалось сзади, за леском. – Ты куда девалась? Катю-ха! Иди-и!
– Иду! Сейчас! – поспешно отозвалась на крик подруги Катя.
Она резко повернулась. Прошуршали раздвигаемые ветви, прохрустели под быстрыми-удаляющимися шагами мелкие сучочки.
Михаил снова остался один.
Он встал, размялся и не спеша двинулся по тропке. Луна сделалась голубовато-серебряной. Река уже не везде была агатовой: кой-где на воду упал лунный свет.
«Попался, брат Федька, – усмехнулся про себя Михаил. – С Катей смотри, держись – шутки плохи. С характером девка…»
Он дружелюбно посмеивался, бормотал иронические высказывания насчет влюбленных и шел дальше, обходя кладбище, минуя бор. До Комарихи оставалось совсем немного.
И тут он поймал себя на том, что, отпуская вслух шутливые замечания, думает на самом деле совсем о другом.
Если всю вторую половину дня его мысли, возможно от усталости, разбредались, не сосредоточиваясь ни на чем, то сейчас они приняли определенное направление.
Он перебирал в памяти тех из встреченных им в жизни девушек, которые нравились ему и которым, вероятно, нравился он. И думал: может ли какая-нибудь из них вот так ждать и звать его, как Катя Федьку? Выходило, что, видимо, такой ему не встречалось.
Впереди показалась Комариха. Луна висела сбоку от нее и освещала дома крайнего порядка. Виден был и дом, где жил Михаил.
Он направился к освещенному порядку, раздумывал и наконец осознал, что он, пожалуй, даже завидует этому верзиле Федьке. Выругал себя и прибавил шагу.
Но идти домой ему теперь как-то не очень хотелось.
Конец нового дома
Уже подходила пора сплошного листопада и туманной сеяни грибных дождичков. Днем было еще жарковато, зато к вечеру в лощинах у дороги закурился над болотцами, поросшими осокой, туман и холодом потянуло из низин. Солнце упало за частокол дальних ельников и подсвечивало оттуда края западных облаков. Предстояло провести холодную ночь на открытом воздухе, и поневоле приходилось убыстрять шаг.
От маленького поселка лесорубов Прятки, получившего название свое от извилистой речки, прячущейся в густых зарослях ивняка, ольхи и болотных дудок, до городка Снегова, куда я направлялся, было чуть более семидесяти километров.
Сначала я намеревался идти большаком и заночевать на середине пути в какой-нибудь деревушке, которые отстоят тут друг от друга на пять-шесть километров, но передумал и, свернув на проселок, стал через перелески выбираться на Ломенгу.
Ломенга в этих местах не так широка. Это уже в низах разливается она в полноводную реку, чтобы вплеснуть ледяные струи лесных речек и рек, впадающих в нее, в необъятную ширь Волги. А здесь Ломенга тиха, спокойна, но довольно глубока. Стальная лента ее широкой просекой прошла сквозь частые перелески, пролагая прямой путь с северных водораздельных увалов к югу.
К Ломенге я шел без всякой определенной уверенности в дальнейших своих действиях, надеясь только на авось. Катер, моторная лодка, даже простая рыбачья лодчонка в это время в этих местах были редкостью. И все же я надеялся на счастливую случайность. Действительно, было гораздо лучше дремать на корме лодки, зная, что каждую минуту ты на несколько десятков метров приближаешься к дому, чем ворочаться на чьем-нибудь сеновале и думать, что впереди около сорока километров дороги, которая в нескольких местах была далеко не сахар.
«В крайнем случае разожгу костер и переночую на берегу, – раздумывал я. – Три лишних километра – куда не шло. Зато вдруг удача!..»
В перелесках еще сохранилось дневное тепло. Под ногами похрустывала подсыхавшая трава, иногда шуршали и первые опавшие листья. Растертые в ладонях, они пахли почему-то свежими щами из крапивы и щавеля. Какой-то шальной тетерев, не сообразуясь со временем, вдруг начал бормотать совсем неподалеку. От этого в лесу стало словно еще тише. Тетерев побормотал и замолк, и уже думалось, что это бормотал не он, а где-то прокатилась по камешнику струйка родниковой воды.
Наконец деревья разбежались по сторонам, началась болотистая низинка, ноги в которой увязали чуть не по колено, и в лицо ударила волна речной свежести. Открылась Ломенга, гладь которой поблизости еще играла теплыми красками, а дальше, к северу, казалась темной и неподвижной. Я сбросил с плеч на землю надоевший рюкзак, снял ружье, спугнув шумом и резкими движениями кулика, который сорвался с закрайки маленького заливчика и пронесся над водой, исчезнув на противоположном берегу. Пора было разводить костер. В рюкзаке у меня помимо прочих предметов лежало несколько крупных сорьезов, тщательно переложенных травой. Сорьез – рыба капризная и в ловле, и в переноске. Я не надеялся донести свой улов до дому и решил вознаградить себя за предстоявшую неуютную ночевку превосходной ухой.
И вдруг вдали над темной поверхностью Ломенги, как раз посреди нее, замерцал огонек. Неяркий вначале, он по мере того, как темнело, становился все светлей и светлей. «Катер!» – мелькнула у меня радостная мысль, и я побежал вниз по течению реки, к тому месту, где, как мне казалось, удобней всего было окликнуть плывущих на катере и где катеру можно было подойти к берегу. Я спешил, учитывая скорость катера и скорость течения, боясь, что не успею добежать и останусь незамеченным. Однако, обернувшись, я увидел, что огонек только чуть-чуть изменил положение относительно берега реки. Кроме того, не слышно было шума мотора.
«Лодка с фонарем, – догадался я, – а может быть, со смольем: рыбу колют».
Немало пришлось постоять мне, прежде чем огонек приблизился настолько, что стало ясно: это костер на плоту. В наступивших сумерках еще довольно хорошо различалась черная масса плота, о которую ударялись струи воды. Двое людей сидели у костра, одна темная фигура возилась на конце плота, очевидно у рулевого весла. Плот не был похож на обычные, гоняемые по Ломенге одним или двумя плотогонами: отличался меньшими размерами и своеобразной формой. «Кажется, не в один ряд связан», – подумал я и загорланил:
– Эгей! На плоту!
Эхо от крика метнулось вверх по реке и заглохло в перелесках. В ответ с плота раздался сипловатый стариковский голос, негромкий, но отчетливый:
– Ну… чего вопишь?
Я начал длинно объяснять, куда я иду и что мне нужно. Плот поравнялся с тем выступом берега, на котором я стоял, и пошел мимо. Не дожидаясь конца моих объяснений, тот же голос откликнулся вторично:
– Иди ниже. Там схватимся.
Метров через пятьдесят плот нехотя приблизился к берегу. Старик, высоченный, худой, стоящий на краю плота на прямых, словно палкообразных, ногах, ловко задел багром за травниковый выступ берега и крикнул:
– Прыгай!
Я тяжело прыгнул на плот, заколыхав его. Заплюхалась о бревна вода. Старик выдернул багор и отдал приказание через плечо:
– Юрей! Отваливай на середку.
И вот я лежу на плоту, рядом с костром. Костер разложен на булыжниках, насыпанных поверх бревен. На плоту довольно сухо и даже, можно сказать, уютно. Под головой у меня рюкзак, ложем служат еловые «лапаки», прикрытые драным плащом. Старик сидит рядом с моим изголовьем на таком же ложе. Вода цвета вороненой стали побулькивает с боков плота. На дальнем его конце две фигуры распрямляются и вновь нагибаются над рулевым веслом – чуть обтесанным бревном с доской на конце. На середине плота, сбоку от костра, – наспех сделанный из палок и веток шалаш. Теплота костра, легкое покачивание, ощущение усталости в ногах – все располагает ко сну. Но я перебарываю себя и для соблюдения правил вежливости веду разговор.
Старик помешивает палкой в костре, щурит бесцветные глаза, прикрытые красноватыми веками, и отвечает кратко, сухо, без лишних рассуждений. Лицо у него узкое, заросшее серебряной щетиной. Черная когда-то борода тоже почти вся поседела. Седые волосы космами выбиваются из-под шапки-ушанки, свисают на лоб, прорезанный редкими, но глубокими морщинами. Он мотает головой в сторону двух фигур у рулевого весла и поясняет:
– Юрей – зять. Тонька – дочка. Из Баронских кривулей мы. Знаешь, повыше Паломы? Дом переломывать будем, подрубать по самые окна. Отпросились у начальства, билет выправили на порубку. Вот и решили водой пригнать. Зараз дровишек прихватили.
– Давно женаты? – указываю я на зятя и дочку, которые едва различимы во тьме.
– Второй месяц пошел, – сообщает старик. – Как обженились, малость пожили и решили переломываться. Вот и поехали. Заготовили. Оно бы и в старом еще можно позимовать, да уж, видно, надо.
На дальнейшие расспросы старик отвечает все короче и неохотнее. Чувствуется, он не любитель много говорить. Долг вежливости отдан, я желаю старику спокойной ночи и начинаю дремать. Сквозь сон некоторое время еще слышу, как старик обращается к дочке и зятю:
– Ладно выправили! Здесь место ходкое, малость поедем. А у Филькина камня на ночь схватимся али луны дождемся. Пустошинским заворотом ночью опасно идти: можем сесть где-нито.
И уже самое последнее, что доносится до меня как бы издалека:
– Тут вот, справа, Малый Пыжмас впадает. Сойму мы в его устье годов двадцать назад связали. Да вывели из устья рановато: боялись, воду упустим. А наверху, на Ломенге, лед в заторе стоял. Возьми и прорвись. Такой пошел ледолом – матку чуть не оторвало. Цинки, как бечевки, лопались, дерева, что спички, ломались. Накострило лесу – упаси бог. Тыщи полторы кубиков размолило!..
Начали мерзнуть спина и правый бок, и, вероятно, от этого я пробудился. По-прежнему слева от меня горел костер, хотя и не таким ярким пламенем, как раньше. Плот, видимо, стоял у берега, но ни берега, ни воды нельзя было различить в густой черноте ночи.
Старик похрапывал и что-то бормотал во сне. Но Юрий и Тоня не спали. Юрий лежал напротив меня, по другую сторону костра, подперев поставленной на локоть рукой голову и глядя в огонь. Тоня сидела у полусогнутых колен мужа, сцепив пальцы рук на своих согнутых ногах, и тоже смотрела на костер. Я, не открывая полностью глаз, потихоньку рассматривал их. Оба были красивы, каждый по-своему. На правильно очерченном лице Тони особенно выделялись глаза. По всей вероятности, голубые днем, они при неверном свете костра казались почти черными. Ее густые рыжевато-золотистые, чуть вьющиеся волосы были заплетены в косы, но маленькая прядка свешивалась на лоб, подчеркивая его белизну. Юрий был блондином с большой, крепко посаженной головой и с неожиданными на его белобровом лице светло-карими глазами. Рабочая одежда – ватник, кирзовые сапоги на каждом из них – не могла скрыть мужественную красоту их сильных, хорошо сложенных фигур. Похожи они были только румянцем на щеках, обветренными, загорелыми руками да еще одной, пожалуй, самой важной, чертой – здоровьем, которым веяло от них, молодостью.
– Нет, ты, Юрка, все же скажи, – продолжала Тоня разговор, очевидно начатый задолго до моего пробуждения. – Все до точки. Что у тебя с Валькой было?
– Опять за старое, – недовольно поморщился Юрий. – Далась тебе Валька!.. Сто раз говорил: бродили, провожал, ну, поцеловались два-три раза…
– А дальше?
– Все. Я же говорю, все! – почти раздраженно ответил Юрий.
– Ну ладно, не сердись, – примирительно отозвалась Тоня.
Наступило молчание. Потрескивали головешки в костре, где-то рядом чмокнула берег мелкая, неизвестно кем в такой тиши поднятая волна. По небу одна за другой прокатились две звезды.
– И все-таки скрываешь ты от меня, Юрка, – снова начала Тоня. – Обижайся не обижайся, а чувствую я.
– Что ты чувствуешь? – усмехнулся Юрий, покусывая обломок тонкого прутишка.
– Обманываешь ты меня. Было у вас с Валькой… Ну, в общем… так же она тебе близка, как я. Догадываюсь я, и люди говорили.
– Сплетни, – бормотнул Юрий.
– Сам знаешь, сколько я сплетням верю… А тут не могу. Ну, скажи, Юрка. Как же так, ведь между нами никакой тайны стоять не должно! Очень тебя прошу, правду скажи! Да ведь ты должен сказать. Кому же еще, как не мне? Понимаешь, должен!
– Ну, а если бы и было, так что?
– Как «что»? Да я сейчас не об этом. Юр, ну, расскажи мне. Не лги только.
– А чего лгать? – потянулся Юрий, укладываясь на спину и подсовывая руки под голову. – Ты ведь привяжешься, как смола. Ну, скажем, было. Так ведь я еще только подходил к тебе, а с ней давно знаком был.
Наступило короткое молчание. Затем заговорила Тоня, и в голосе ее чувствовались горечь и укоризна:
– Эх, Юрка, Юрка! Вот уже третий раз ты меня обманываешь. А живем-то… Про историю с бензовозом сколько ни говорил, выкручивался, про то, что с Колькой друзьями расстались, доказывал, а сами рассорились. Теперь, видишь, Валька…
– Так что ж, по-твоему, преступление я, что ли, сделал? – недовольно проговорил Юрий. – Все эти дела до того, как я с тобой дружить начал, прикончились. Вообще бы не стоило копаться, а ты выпытываешь, будто черт знает что произошло.
– Не о том я. Врал-то зачем?
– Опять врал! Ну, не сказал тогда, зато после сказал. Убыло, что ли, от этого? Что же ты думаешь, мне до тридцати лет монахом жить было нужно? Живой ведь человек. Может, и не только Валька была. Другие ребята…
– Плохо это, Юрий! Все ведь живые… И снова не про то я. Простить бы можно, да скрывал-то почему? Врешь-то для какой цели?
– «Скрывал»! «Врешь»! «Простить»! И словечками же ты побрасываешься! А уж если на полную откровенность идти, так ведь не мог же я в парнях обо всем тебе доложиться.
– Это почему?
– У характера своего спроси: «Почему?» Знаю я тебя: поговори бы о таком до свадьбы, так с тебя сталось бы, сдурела бы, ломаться начала: не пойду, мол, я у него не первая. Скажи, не прав?
– А после свадьбы? А теперь почему сказал?
– Ну, теперь другое дело, – засмеялся Юрий, протянув руку к жене и погладив ее по плечу. – Уж девичья-то придурь должна выскочить из головы. Теперь дурака валять да кокетство разыгрывать ни к чему. Нечего людей смешить, надо жить. Да ты, я вижу, опять спорить собираешься, – полушепотом прибавил он. – Спать надо, с луной дальше двинемся. Папашу, кажись, разбудили. Кричишь тут. Да и посторонний, может, не спит. Такие разговоры… Ложись давай.
Я спохватился и с непростительным опозданием завозился, делая вид, что просыпаюсь. Однако Тоня не обратила на это никакого внимания. Ее губы машинально повторили: «Надо жить…», и она глухо сказала Юрию:
– Спи. Посижу я.
– Как хочешь, – зевнул Юрий и повернулся спиной к костру.
Перевернулся на другой бок и я. Через несколько минут сон снова овладел мной.
На этот раз я спал очень недолго, причем во сне опять повернулся лицом к огню. Чуть приоткрыв глаза, я увидел Тоню, сидящую в прежнем положении. Ноги она подобрала еще ближе к себе, а подбородком уперлась в колени. Она плакала, но беззвучно. Слезы катились из ее широко открытых глаз, и она не вытирала их. Может быть, потрескивание головешек в костре заглушало всхлипывания, только казалось, что Тоня не плачет, а просто думает о чем-то, и слезы эти не настоящие, а всего лишь дождевые капли, упавшие на лицо. Боясь показать Тоне, что я видел ее плачущей, я плотно прикрыл глаза и начал похрапывать. Она встала и пошла к концу плота. Я приподнялся и посмотрел ей вслед. Старик тоже приподнялся и тоже глядел в ее сторону. «Проснулся, – догадался я, – и увидел, как она плакала».
По плеску воды стало ясно: Тоня умывается. Затем она вернулась к костру и снова села. Немного погодя раздался ее шепот:
– Юрий, а Юрий! Проснись-ка. Поговорить надо.
– Поехали, что ли? – сонным голосом пробормотал Юрий.
– Нет. Сказать я тебе должна…
«Буду спать, – решил я. – Нечего подслушивать семейные разговоры, но и мешать им говорить нельзя: пусть разбираются между собой. Сплю».
Однако благое решение оказалось трудновыполнимым. Сон, как нарочно, не приходил, и приглушенный разговор молодоженов настойчиво лез в уши.
– Я у тебя откровенности требовала насчет Вальки и всего прочего, – каким-то хрипловато-напряженным шепотом говорила Тоня. – Так знаешь, почему?
– Ну, почему, почему? – нетерпеливо спросил Юрий, стремясь, видимо, быстрее прекратить надоевший ему разговор. – Снова здорово. Когда и кончишь ты!
– Так вот, – словно бы не слушая его, продолжала Тоня, – ты мне все, наверно, до капельки рассказал. Значит, не первая я у тебя, да и не вторая. Да дело не в этом. Должна и я с тобой до точки откровенной быть. Ведь ничего из нашей жизни между нами скрытым оставаться не может. Не должно. Верно?
– Верно, – зевнул Юрий. – Ты и так, я думаю, врать не умеешь. Верю. Кончай.
– Должна сказать я, – с трудом проговорила Тоня, – признаться должна. Тяжело мне. Скрывать не могу… Ведь и ты у меня второй…
От неожиданности этого признания я открыл глаза и сейчас же снова прикрыл их. Старик не храпел и, по всей вероятности, не спал. Тоня сидела невдалеке от Юрия. Даже в слабом отсвете потухавшего костра было видно, как побледнела она, как побелели ее губы. И несмотря на то, что я наблюдал эту сцену всего несколько мгновений, я успел заметить, как полусонное лицо Юрия моментально посерьезнело.
– Не придуривай! – строго сказал он.
– Правду говорю, – горько вздохнула Тоня.
– Кто? – отрывисто спросил Юрий.
– Он-то? – чуть слышно проговорила Тоня. – Борька Нелидов.
Последовала продолжительная пауза. И когда Юрий заговорил, в его громком шепоте слышались раздражение, подозрительность и угроза:
– Так ты что? В самом… деле?
– Я же сказала: откровенность на откровенность.
– Брось ты об откровенности, – повысил голос Юрий и встал. Он глядел на Тоню в упор, а она не отводила взгляда от красных головешек, которые кое-где уже подергивались пеплом, а кое-где еще давали пищу языкам пламени. – Дуришь, Тонька? – зло спросил он. – Ну скажи, что врешь. А может быть… Тогда докажи, что правду сказала. Дай, Тонька, честное слово! Слышишь?! Сейчас же дай! Я знаю, что твое честное слово стоит, знаю – не прокинешься им. Ну!
– Правду сказала, – монотонно ответила Тоня. – Честное слово.
– Ты дала честное слово! – почти выкрикнул Юрий. – Что же это?!
– Тише, – так же размеренно сказала Тоня. – Перебудишь всех. Слышал ведь, что дала слово, так зачем переспрашиваешь? От правды не скроешься…
Лицо Юрия исказилось. Он дернулся, словно хотел прыгнуть в сторону, но неожиданно присел на корточки и схватил Тоню за плечи. Ища глазами взгляд жены, который она упорно отводила, он лихорадочно зашептал, по-волчьи оскаливая зубы:
– Получилось? Как мальчишку обвели. До свадьбы небось святой прикидывалась. Притронуться не давалась. Знала, что если раскушу тебя, так на черта ты мне нужна будешь. Такую недотрогу из себя выставляла, а сама…
До него словно только дошел полный смысл признания жены. Он выпрямился во весь свой высокий рост, как-то неестественно всхлипнул и выкрикнул грязное, ругательство:
– Эх, ты!..
Вслед за этим раздалась звонкая пощечина. Тоня чуть не упала на бок и схватилась рукой за лицо, упираясь другой рукой в бревна плота. А фигура Юрия уже металась с одного конца плота к другому, немилосердно раскачивая его. Юрий схватил вещевой мешок, бросал в него какие-то предметы и говорил, говорил свистящим, злым шепотом:
– Одурачили. Сучка! Ну ладно. К черту вас! Дом перестраивать будем… Нашли дурака! Заманили. Ихнюю старую рухлядь перестраивать понадобилось, так зятя стали искать. И нашли дурачка. Ну, посмотрите, какой я дурачок! Сволочи! Посчитаемся еще. Пошли вы…
Он еще раз пробежал по плоту, вскидывая мешок на себя, хватая в руки плащ, какой-то узелок, топор. Затем послышался глухой стук, и плот стал качаться все тише и тише. Это Юрий соскочил на неразличимый в темноте берег и растворился во мраке.
Я взглянул на Тоню. Она переменила положение, села, подогнув ноги под себя, упираясь в плот одной рукой. И странно – она улыбалась! Улыбка была совсем натуральной, однако после всей этой сцены она казалась более страшной, чем недавние ее слезы.
Поднялся со своего ложа старик. Кряхтя и вздыхая, он подобрался к дочери. Присел возле нее, с трудом сгибая хрустящие колени, и расстроенно, с хрипотцой в голосе, пробормотал:
– Что же это ты, доченька? Как же? Пошто такую напраслину на себя возвела? Зачем такое наговорила? Ведь сболтнула же?
– Слышал, папа? – спокойно спросила Тоня и, не дожидаясь ответа, добавила: – Еще бы не напраслина! Самую что ни на есть ерунду сказала. Ты-то вот не поверил. А мне проверить его надо было. Видел, как он меня ударил? И этого я ждала, и это для проверки снесла. Ты-то знаешь: стерпела ли бы я, чтобы меня били? Я бы такую сдачу дала, а не смогла бы руками защититься, так на плоту приколков немало. Ничего, вытерпела.
– Ой-ёй-ёй, Тонюшка! – почти по-бабьи причитал старик. – Честным-то словом пробросалась. Нехорошо получилось.
– Нехорошо, – вздохнула Тоня. – Да что ж поделаешь? И честное слово продать пришлось, чтобы человека испытать, с которым сквозь всю жизнь идти собиралась.