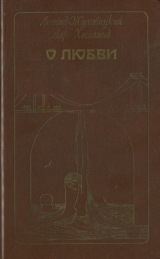
Текст книги "О любви"
Автор книги: Леонид Жуховицкий
Соавторы: Ларс Хесслинд
Жанр:
Рассказ
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 24 страниц)
– Ну что ж… Как там сформулировала ваша приятельница? «Риск – не писк»?
Наконец-то девушка засмеялась.
Батышев вдруг почувствовал легкость и свободу. А, черт с ним! В самом деле, чего особенного? И так всю жизнь живешь по логике…
Хороший человек Оля Рыжакова обитала в типовой кирпичной пятиэтажке, как раз под крышей. Дом был явно выстроен в эпоху крайней экономии и вынужденных архитектурных новаций: быт не умещался в тесных квартирках и выплескивался наружу. На одной из лестничных площадок стояла детская коляска, на другой – старая тумбочка, на третьей то ли сушились, то ли проветривались два матерых фикуса с листьями, толстыми, как подметки.
Марина открыла дверь и нашарила выключатель в коридоре. Затем двумя движениями развязала шнурки на башмаках и не сняла их, а сбросила, несколько раз тряхнув той и другой ногой. В носках прошла в комнату, а там швырнула на пол сумку, куртку со ступней и «Шикотаном» и села в низкое кресло.
Батышев поставил чемодан в коридоре, повесил на вешалку плащ, авоську с рыбой, минуты две пошаркал подошвами о половичок – и тоже вошел.
Девушка снова ушла в себя. Она думала, мрачно сведя брови, и ему сесть не предложила.
Тогда он сел сам, в такое же низкое кресло, по другую сторону журнального столика.
Потом она вдруг подняла голову и спросила:
– А вы кто?
Это было сказано просто, словно их разговор по выходе из гостиницы ни на минуту не прерывался. Девушка как бы жила в двух мирах. В одном был Хабаровск, квартира на пятом этаже и дорожный попутчик с авоськой. Другой существовал за ее густыми сведенными бровями. Она переходила из мира в мир, как из комнаты в соседнюю, и уследить за ее перемещениями было нелегко.
– Профессия? – уточнил Батышев ее вопрос.
– Хотя бы.
Он назвал профессию.
– А контора? – спросила Марина.
– Кандидат. Доцент. Преподаю в университете.
– Ха! – усмехнулась она. – Ничего себе. Слава богу, что не у нас.
– Что значит «ха»? – переспросил Батышев, которого задело не это невинное междометие, а его темный двойник, давно уже таившийся в памяти.
– Да так, – сказала Марина и вновь замолчала.
Просто сидеть напротив нее было глупо. Батышев заложил ногу на ногу и стал осматриваться со снисходительным любопытством, как богатый турист в не слишком экзотической деревушке.
Но чем больше он осматривался, тем больше располагала к себе квартира, куда его случаем занесло. Как-то сразу стало ясно, что это берлога, то есть жилье, созданное человеком не для приема, не для показа, а сугубо для себя, жилье удобное, уютное и любимое, как старинное разношенное кресло или большой и теплый домашний халат.
Сам Батышев мечтал о берлоге с молодости, с первых студенческих лет. Где только ему не приходилось работать! Как-то дефицитную книгу прочел стоя – в подъезде под лампочкой. А диплом и почти вся диссертация написаны ночью на коммунальной кухне – в те годы он только и работал по ночам…
И после, начав преподавать, Батышев грезил о собственной комнатушке, пусть крохотной, пусть каморке, но полностью своей. На прочитанных газетах, на полях черновиков он, думая о другом, машинально чертил планы: окно, кушетка и три стола. Или один, самодельный, во всю длину стены и дальше, под прямым углом – до противоположной.
Три стола – это была мечта, верх комфорта, работа, ставшая кайфом. На одном, допустим, все материалы по диссертации, на втором – текущие статьи, на третьем – студенческие работы, рефераты, присланные на отзыв. Устал, ушло настроение – пересел от стола к столу и опять как огурчик.
Батышев всегда любил бумаги, разбросанные на широкой доске, и не любил порядка. Пока лист рукописи просто валяется на столе, мысль, записанная на нем, жива, гибка и готова к развитию. А пронумеровал, замкнул в папочку, прошил – все. Страшно ломать этот строй, это благолепие. И глупо ради двух-трех поправок производить уйму ненужной работы – расшивать, разбирать, перенумеровывать…
Когда женился, родилась дочь – стало не до трех столов, хотя жена идею поняла, приняла и, в принципе, поддерживала. Потом быт наладился. Теперь у них было три комнаты на троих. Но у семейной квартиры свои законы. И в нынешней комнате Батышева стояло не то, что он в юности нафантазировал, а то из гарнитура, что не вошло в спальню и в комнату дочери. В общем, тоже неплохо получилось…
Иногда Батышев подумывал: вот выйдет Юлька замуж… Но, во-первых, он с трудом мог представить, что дочь вдруг уйдет. А во-вторых, понадобятся ли ему тогда три стола? Вроде бы уже и сейчас одного хватало.
А эта квартирка была маленькая, так называемая «распашонка»: совмещенный санузел и ход в кухню через комнату. Но что она берлога, сказывалось во всем.
Вещей было мало, но в каждой чувствовался отпечаток личности, каждая что-то говорила о хозяйке. И кушетка у дальней от окна стены, в самом уютном углу, и самодельный светильник у изголовья со специальной полочкой для книг, и низкая маленькая скамеечка, стоявшая там же, на случай, если книг для вечернего чтения окажется слишком много, и кактусы на подоконнике в ярких жестянках из-под японского пива и, кажется, единственное в комнате украшение – сухая ветка дикого уссурийского винограда с черными сморщенными ягодами и длинной плетью, петляющей по стене чуть не до полу. Чистенькая женская берлога, где, наверное, так приятно вечерами пить чай с вареньем, где можно весь выходной проваляться в постели с книжкой – берлога, в которой, если нужда заставит, не страшно зимовать…
Девушка все сидела в своем кресле, откинувшись, скрестив руки на груди и вытянув ноги в носках. Поза была не слишком женская, но ей шла. Впрочем, проблема «идет – не идет», судя по всему, беспокоила ее мало.
Батышев встал, подошел к книжным полкам и стал просматривать корешки. И вновь его кольнула незлая зависть: библиотека незнакомой женщины была такой же частью берлоги, как светильник у кровати или сухая ветка на стене.
Тут не было подписных изданий, не было вообще книг необязательных, купленных потому, что так принято, потому что другие берут, потому что вдруг завтра понадобятся, потому что как раз оказались свободные деньги, потому что стоят – хлеба не просят. Книжки были из тех, что добываются по одной, и любую из них так легко было представить на низенькой скамейке возле кушетки.
Да, с таким запасом на полках можно было сосать лапу, не вылезая из берлоги.
Батышев повернулся к Марине и сказал:
– Отличная библиотека! Книжки – одна к одной.
– Оля вообще умная, – отозвалась Марина.
– Чувствуется. Знаете, собраны как вещи для похода: все необходимое и ничего лишнего…
Батышев усмехнулся пришедшей мысли, подумал немного и сформулировал:
– В принципе, библиотеку и надо собирать так, словно потом придется тащить ее на собственной спине.
На девушку это умозаключение никакого впечатления не произвело.
Он вздохнул, машинально глянул на часы. Было с чем-то десять.
– Кстати, – спохватился он, – вы ведь голодны, наверное. Когда вы ели в последний раз?
– Днем, – сказала она. – Я не голодна.
– Сейчас мы еще успеем в ресторан. А минут через двадцать…
– Наверное, вы хотите есть?
– Я пообедал как раз перед вечером.
– У меня там колбаса, – сказала она. – Ну его к черту, ресторан. Давайте лучше пить чай.
– А он тут есть?
– Что-нибудь да есть.
Батышев не был уверен, удобно ли распоряжаться чужим чаем в чужой квартире. Но возразить не решился. Хороший человек Оля Рыжакова была обречена до конца нести хлопотное бремя своей хорошести.
Батышев вспомнил про свою злосчастную авоську с торчащим хвостом и поспешил оправдаться:
– У меня с собой прекрасная кета – увы, подарок. Но, на худой конец, можно и ее.
Марина отмахнулась:
– Не умрем!
Она пошла на кухню.
Батышев снова сел в свое кресло и тут только обратил внимание, что спальное место в комнате всего одно. Он вздохнул – опять жизненная сложность! Ни на какие рискованные размышления это его не навело.
Не в возрасте было дело – что возраст в наши дни! И не в мрачном лице девушки – настроение меняется. Дело было в самом Батышеве.
Лет пять назад у него случился первый в жизни роман с собственной студенткой – осенью, в колхозе. Раза три вечерами девчонка утаскивала его гулять, задавала вопросы по курсу, довольно поверхностные – училась она весьма так себе. Батышев кое о чем догадывался, но из роли преподавателя не выходил. Тогда она неожиданно сказала:
– Чего вы боитесь? Я же не трепло.
Он оторопело спросил:
– А ты не боишься?
Та ответила:
– Ха!
Она была издалека, из шахтерского поселка – небольшая, крепкая, с черной короткой стрижкой. К нему относилась странно: заботилась, жалела и все уговаривала не выкладываться на лекциях.
– Ну что ты жилы-то рвешь? – говорила она. – Все равно же половина дураки. А кому надо, тот и сам выучится!
Иногда они ездили в город. Батышев осторожничал и все оглядывался. Она успокаивала:
– Да ты не бойся! Если что – отпирайся, и все. Ничего не было, и точка. А уж я тем более отопрусь.
Месяца через два после начала занятий она сказала ему, что должна поехать домой.
– Надолго?
Она ответила:
– Увижу…
Батышев не сразу спросил:
– А что там?
Она сказала сумрачно:
– Да так…
Батышев медлил. Он тревожился за нее и по тону чувствовал – что-то серьезное. Но в то же время понимал: задай он сейчас вопрос порешительней – и простой долг близкого человека втянет его в чужую заботу, в чужую жизнь. Как глубоко – кто знает?
К этому Батышев не был готов.
Он спросил, но не настойчиво…
На факультет она не вернулась. Письма не пришло.
А Батышев после этого как-то сразу, словно о порожек споткнулся, начал стареть. Не лицом или волосом, а словно что-то осело внутри. Семья, работа, знакомые – все осталось. А вот нечаянную радость больше не ждал. Как давно, в молодости, любил повторять пьяный сосед по коммуналке: «У души крылышки опустились».
Марина выглянула из кухни.
– Идите, – сказала она, – закипел.
Они устроились у кухонного стола. Чай был уже разлит по чашкам, колбаса нарезана. В хлебнице лежала горка сухарей.
– Хлеба нет, – сказала Марина, – а сухари сладкие. Черт с ними! С колбасой пойдет.
Она поднесла чашку к губам, отхлебнула и уставилась на Батышева:
– Так, значит, доцент? Интересно. Никогда не пила чай с доцентом.
Он ответил:
– Всё когда-нибудь делаешь впервые. Я, например, никогда не ел колбасу со сладкими сухарями.
Шутка была так себе, но девушка засмеялась, и Батышеву показалось, что понемногу она успокаивается: видно, напряжение, скручивающее ее изнутри, постепенно отпускало.
Он спросил:
– Ну, так как мы с вами завтра – летим?
Она махнула рукой:
– A-а! Надоело ломать голову. Решу завтра.
– Завидую, – сказал Батышев.
– Чему?
– Что такие вещи, как поездка в Москву, вы можете решать по настроению.
Он спохватился, что сам начал разговор, который решил не заводить. Но было поздно.
– Не в Москву, – сказала Марина, – еще дальше. Один парень едет в Прибалтику и меня позвал с собой.
– Но весы еще качаются? – понимающе улыбнулся Батышев.
– Нет, весы давно стоят, – возразила она, и фраза прозвучала странно: началась с усмешки, а кончилась угрюмо и глухо.
– Ничего, – поспешил успокоить Батышев, – съездите в Прибалтику, и наладится.
Она сказала с уже привычной ему прямотой:
– Это все барахло. Я люблю другого человека.
И опять Батышев не понял, зачем была произнесена эта резкая фраза: чтобы вызвать его на расспросы или, наоборот, прервать неприятный ей разговор.
Марина долила чайник и вновь зажгла газ. А Батышев, чтобы заполнить паузу, стал хвалить квартиру, в которую они так неожиданно попали. Он говорил, что бедные комнаты куда интереснее богатых, потому что эти говорят о вкусах человека, а те лишь о кошельке.
– Я, например, не понимаю коллекционеров, – сказал он. – Вот у меня знакомый живопись собирает. Ну и что? В собственном доме выглядит как смотритель музея. Кажется, кончится экскурсия, мы уйдем – и он уйдет. Уж очень несоразмерны масштабы! Собственный Коровин или Врубель – знаете, это звучит так же странно, как, скажем… ну личный миноносец или тепловоз…
– Берите колбасу, – сказала девушка. – Оставлять некому. Оля вернется через месяц.
Батышев взял сухарь с колбасой. Он сразу сник и поскучнел. Он любил и умел говорить, легко держал любую аудиторию и гордился этим, как свидетельством своей профессиональной силы. Но тут он был беспомощен. Эта странная девица словно бы автоматически отключалась, едва разговор уходил чуть в сторону от ее сиюминутных желаний, сомнений и нужд. Казалось, весь огромный и бесконечный мир – лишь необязательный придаток к тому, другому, таившемуся за ее сумрачным лбом…
Они допили чай, доели колбасу, и Батышев вежливо посидел в кухне, пока она убрала со стола. И лишь тогда сказал:
– Знаете что, Марина? Вы издергались за день – ложитесь-ка спать. Я посижу тут; а вы пока ложитесь.
– Что значит «вы»? – переспросила она. – А вы?
– Я постараюсь в кресле.
– Еще чего! – сказала девушка, и обида у Батышева прошла. Слушатель ему попался тяжелый, зато с товарищем повезло. – И вообще я не хочу спать, – продолжала Марина. – Знаете что? Ложитесь вы.
– Ну уж нет. Вы женщина.
Она возмутилась:
– Вот чушь! Какое это имеет значение?
– А что тогда имеет значение? – усмехнулся Батышев.
– То, что вы хотите спать, а я нет.
И опять, даже в этой мелочи, Батышева поразила прямота ее мысли: она шла мимо правил приличия, мимо привычной житейской дипломатии – прямо к сути дела.
По инерции он продолжал упрямиться. Тогда она сказала:
– Вам же нужно выспаться. Мне не обязательно, а в вашем возрасте лучше выспаться.
Он расхохотался – на комплименты она была мастер. Марина посмотрела с недоумением, потом, поняв, расхохоталась тоже.
Они перешли в комнату. Видимо, хозяйка уехала недавно, воздух не успел застояться, но Батышеву все же почувствовался пыльный привкус нежилья. Он подошел к форточке.
– Вам не будет холодно?
– Я не мерзну, – сказала Марина. – И знаете что? Если вам все равно, говорите мне «ты».
– Как хочешь, – сказал он, – мне не трудно.
Он сел в кресло. Ему совсем не хотелось спать и не хотелось пользоваться сомнительным преимуществом возраста.
– Ну, так что будем делать?
Марина, не отвечая, прошлась по комнате и, остановившись у книжных полок, резко, как мальчишка палкой по забору, провела пальцем по корешкам. Звук вышел рассыпающийся, дребезжащий.
– Давайте гадать, – вдруг предложила она.
– Каким образом?
– По стихам. Называешь страницу и строчку – а там глядим, что кому вышло.
Батышев пожал плечами. Ночь предстояла длинная, спать, скорей всего, не придется. Гадать так гадать.
Выбрали томик Элюара и толстую книгу пословиц и поговорок. Марина принимала это дело всерьез, страницы листала стремительно, и рот ее был жадно приоткрыт. Если строчка выпадала пустая или бессмысленная, она ее вслух не произносила и тут же называла другие цифры. Поэтому процент удач был довольно высок. Батышев почти сразу получил прекрасную строчку: «Мой дом – его тебе я подарил».
Марина даже ахнула от восторга:
– Это же про Олю Рыжакову!
Она раскрыла сборник изречений и тут же попала на фразу, многозначную, как совет оракула: «День государев, а ночь наша».
– Здорово, а? – восхитилась она. – Прямо про нас с вами. Современное гадание – у нас девчонки в общежитии изобрели.
– Ну, милая, – возмутился Батышев, – это уж совсем нахальство! Все, что есть на свете, придумали только вы. Да если хочешь знать, когда мне было столько, сколько тебе сейчас, мы с товарищем – он тогда был начинающий поэт – гадали по Блоку.
– Правда? – удивилась девушка и уставилась на него с напряженным интересом. – Ну и как – сошлось?
Батышев развел руками:
– Самое странное, что сошлось. Прямо-таки поразительно сошлось. Конечно, у хорошей поэзии двадцать подтекстов, но все-таки… Правда, мы гадали втроем, и третьему выпало что-то невнятное. А вот товарищ мой попал на строчку – ну будто специально для гадания.
– Что за строчка?
С недоумением, не рассеявшимся за двадцать с лишним лет, Батышев процитировал:
– «Ты будешь маленьким царем».
Марина нетерпеливо спросила:
– Ну и кем он стал?
– Знаменитым поэтом. В общем, царь. А большой или маленький… Лет через тридцать, наверное, выяснится.
– А кто он? Вам не хочется говорить?
– Да нет, почему же…
Он назвал фамилию.
– Вот это да! – произнесла она ошарашенно. – Ведь все точно. Нет, в гаданиях что-то есть… А вам что выпало?
Она и это спросила с интересом, хоть и меньшим.
– Тоже строчка любопытная, – сказал Батышев. – И тоже в какой-то степени пророческая. «Среди видений, сновидений…»
Она наморщила лоб:
– Ну и что это значит?
– То и значит, – сказал он невесело.
– Маниловские мечтания?
– Не совсем, но близко.
– Но вы же доцент!
Он усмехнулся:
– Скоро, наверное, и доктором буду.
– Разве этого мало? Манилов не был доктором наук.
Батышев вздохнул со спокойной горечью:
– Если бы ты знала, сколько не сделано… То ли честолюбия не хватило, то ли просто лень… Я всегда больше любил придумывать, чем записывать, фантазировать, а не доказывать… Как бы это тебе выразить… В мышлении, да и в жизни вообще меня всегда привлекал не столько результат, сколько сам процесс.
– Ну и что? – возразила она холодновато. – Разве это плохо? Результат жизни – кладбище.
– Ну зачем уж так? – сказал Батышев. – Естественно, рано или поздно все там будем. Но ведь и после нас кто-то останется. О них тоже думать надо.
– А вам там, – она ткнула пальцем вниз, – не наплевать будет, плохо им или хорошо?
– Там? – он пожал плечами. – Точно не знаю, но предполагаю, что в высшей степени наплевать.
– Вот видите!
Тон у нее был довольно растерянный – наверное, ожидала возражений.
Батышев сказал:
– Да, но пока-то я здесь. И туда, между прочим, не тороплюсь. А вот здесь, сейчас для меня вовсе не безразлично, что будет потом. С дочерью, с моими студентами, даже с тобой.
Наверное, это прозвучало высокопарно. Девушка посмотрела на него недоверчиво – словно он вот-вот начнет врать.
Батышев разозлился:
– Но это же очень просто. Вот мы с тобой сидим в комнате, из которой утром уйдем навсегда – во всяком случае, я. Так почему же мы не рвем книги, не плюем на пол, вон даже посуду грязную не оставили? Тебя ведь заботит, как тут будет жить эта женщина после нас? То же самое и с жизнью вообще. Масштабы больше, а суть одна.
– Ну а если вас это и беспокоит, разве вы способны что-нибудь изменить? Ну вот чем вы можете помочь, например, мне?
– Лично тебе? Думаю – ничем.
Батышев все еще злился на нее.
– А другим?
Он пожал плечами.
Марина сказала с вызовом:
– Никто никому не может помочь.
– Возможно, ты и права, – кивнул Батышев, хотя и думал иначе. Просто его начал раздражать этот спор, в котором девчонка вынудила его защищать прописные истины, себе оставив парадоксы. Обычная студенческая метода поразвлечься за счет преподавателя. На семинарах у его ребят это получалось редко. А вот ей почему-то удалось.
Он зевнул и откровенно посмотрел на часы. В конце концов хватит. Все-таки завтра восемь часов лёта…
Но Марина не заметила его демонстрации. Взгляд ее снова как бы ушел внутрь, рот беспомощно приоткрылся. И Батышев вдруг разглядел в ее глазах такую тоскливую, безнадежную боль, какую лет пять назад видел в зрачках соседки, умиравшей от рака.
Тогда он спросил, разом забыв все свои соображения насчет сна, завтрашнего полета и важных московских дел:
– Слушай, девочка, у тебя что-то случилось? Если не хочешь – не отвечай.
Она посмотрела на него с растерянностью и надеждой и задала очень странный вопрос:
– Вы порядочный человек?
– Что ты имеешь в виду?
– Ну – в общем смысле. Не пьете, жене не изменяете… Вообще.
Он усмехнулся:
– Если в этом смысле – боюсь, тебе надо поискать другого собеседника.
– Нет, тогда как раз годитесь.
Она замолчала надолго, и Батышев решил ей помочь:
– А что у тебя?
Девушка ответила:
– Если коротко – влипла.
Он невольно скользнул глазами по ее фигуре, но не заметил ничего. Впрочем, это ведь и видно не сразу.
– Так влипла, что жить больше не могу. – Голос был спокойный, но брови так жестко сошлись над переносицей, что лицо словно бы похудело на треть.
– Ну, погоди, – сказал он рассудительно, чтобы сбить ее с драматической волны. – В конце концов это не трагедия. Со всеми женщинами бывает. Сугубо практическая вещь – надо ее практически и решать.
Она усмехнулась с досадой:
– Да нет, вы не то думаете. Я не беременна. Будь дело в этом… Пять рублей, день в больнице – и вся любовь.
Это было произнесено с такой легкостью, что Батышев сразу понял – приходить в больницу с пятирублевой квитанцией ей не приходилось ни разу.
Он сказал со вздохом:
– Слушай, у меня голова пухнет от твоих загадок. Расскажи лучше толком, а? С начала до конца. Как на комсомольском собрании.
Она засмеялась:
– Ну что тут рассказывать? Все очень примитивно. Познакомились в турпоходе, он был с женой, но весь вечер с ней не разговаривал. Представляете: ночь, костер, гитара, ну и вино, конечно. Всем весело, дурака валяют, танцы устроили под собственный визг – кто в купальнике, кто в тренировочном. А он сидит в сторонке на бревне и молчит. К нему, естественно, лезут, он отшучивается – он вообще остроумный, а в глазах такая тоска… Ну а мне семнадцать лет. Та еще дура была! Кривляюсь вместе со всеми, а сердце – только что не разрывается! Ну вот не могу терпеть, что рядом хороший человек мучается… Потом села в сторону и тоже давай молчать – из солидарности. Сижу и придумываю, какой он тонкий, ранимый, как больно ему сейчас, как противен весь этот бардак…
Грубое слово она произнесла просто, словно обычное.
– Ну и, разумеется, как жена его не любит и только сосет кровь… Знаете, такое было настроение! Тем более пить не умела, а в тот вечер – что я, глупей других?.. В общем, в лепешку бы расшиблась, только бы ему стало хорошо.
– Сколько ему лет? – спросил Батышев.
– Сейчас тридцать пять. А тогда – тридцать один.
– Красивый?
– Нет, – без раздумий ответила она.
– Но?..
– Обаятельный. Худой, нелепый, руки болтаются. И очень умное лицо.
– Ну, значит, сидишь ты, жалеешь его, – напомнил Батышев.
Девушка кивнула:
– Ну да. Молчу и придумываю, как бы ему помочь…
Она усмехнулась, словно вспомнив что-то.
– Короче, подошла к нему и все это высказала.
– А он? – спросил Батышев.
– Погладил по плечу. «Спасибо», говорит… Пошли на речку, там берег песчаный, низкий. Я ни о чем не спрашиваю, несу какую-то чушь. А он – ни слова. Потом вдруг говорит: «Ладно, малыш, не тревожься. Все будет нормально. Хочешь, стихи почитаю?» Думаете, я случайно сегодня для гадания Элюара вытащила? Четыре строчки с тех пор помню.
Батышев посмотрел на нее вопросительно, и она прочла:
На двух половинках плода —
На спальне, продолженной в зеркале,
На кровати – пустой ракушке
Я пишу твое имя.
– Хорошие стихи, – сказал Батышев.
– Вы представляете, как они мне тогда?
Она вновь усмехнулась виновато и грустно.
– В общем, ходили, ходили по берегу, за мыс ушли. Ночь теплая, август. Ну что, говорит, будем купаться?.. Ему-то хорошо, он в плавках, а мой купальник у костра сушится. Но вот понимаете – не могу сказать ему «нет»… Ничего, говорит, разденешься и в воду, а я отвернусь… Разделась, оборачиваюсь – стоит лицом ко мне.
Марина улыбнулась, качнула головой:
– А я ну дура дурой. Вот поверите: не то что зубы – колени стучат друг о друга.
Она задумалась, и лицо у нее стало такое, что Батышев отвел глаза: смотреть на нее в тот момент было стыдно, как подглядывать. Так, глядя в сторону, и спросил:
– А он?
Она то ли усмехнулась, то ли вздохнула:
– Подошел, поцеловал в лобик… Ладно, говорит, девочка, одевайся. И пошел по берегу. Уж как я тогда оделась – не помню. Иду за ним, он молчит, и я слова сказать не могу. Так и приплелась к костру на три шага позади, как побитый пес… В город возвращались – не то что заговорить, посмотреть на него не могла. А стали прощаться – сам подошел, взял за руку… «Спасибо, малыш». И все.
– А жена? – напомнил Батышев.
Марина качнула головой:
– Не помню. Я из той поездки больше ничего не помню. Вот как увидела, что он один на бревне сидит и ему плохо… Все. Кранты. Только он и я.
– Да, – проговорил Батышев, – полная невменяемость.
Она согласилась:
– О чем и речь. Как доской по голове.
– Ну а потом?
Глаза у девушки потухли, она заговорила почти без выражения:
– Потом я стала его ждать. Он с моим братом работал, телефон узнать – ничего не стоит. День жду, неделю жду! Нет! Тогда потащилась к нему сама. Идея была такая: объяснить, чтобы он не подумал чего-нибудь не то. Мол, просто увидела, что ему плохо, и хотела помочь… Ну, поймала его после работы, объяснила с грехом пополам. «Я, говорит, только так и понял». – «И если, говорю, вам когда-нибудь будет плохо или что-нибудь понадобится, просто позвоните и скажите: „Это я“. Посмотрел и тихо так: „Я знаю, малыш“… Тут как раз его автобус подошел…
Она вдруг прервалась и подозрительно уставилась на Батышева:
– Вам не скучно все это слушать?
– Ты давай дальше, – сказал он.
– Ну, в общем, высказала я ему все это, и так легко стало. Словно освободилась. Сказала, и все… Но прошла неделя, другая – и, оказывается, ни от чего я не освободилась.
Марина снова свела брови и не сразу выговорила:
– В общем – влипла. Стала ждать, что он позвонит. А это уже – все.
Голос у нее стал деловитым, как у врача, который в ординаторской рассказывает коллегам об обреченном больном.
– Он мне, естественно, не позвонил, и никакая моя помощь не потребовалась. Ну, тут уж я повела себя совсем глупо: стала за ним бегать. Причем самым примитивным образом. Хоть бы предлог какой придумала! А то приду, смотрю на него, как теленок, и молчу. Анекдот!
– И как он это воспринимал?
– Как будто так и надо. Он вообще был на высоте. Выйдет: „А, Марина, привет! Ну что, проводишь немного?“ И шлепаем до его дома. Вот такие хорошие приятели.
– Тебя это устраивало?
Она подумала немного, вспоминая:
– Да. Тогда устраивало. Вижу его, говорю – чего еще надо! Как-то привел домой. Жену ведь я тогда в турпоходе тоже видела, – она усмехнулась, – в общем, возобновили знакомство. Очень мило поговорили, пригласили еще бывать…
– Ну и?..
– Ну и стала бывать. Когда с ним приходила, а то и сама. В гости уходят – меня с собой: „Познакомьтесь, это наша Марина“. В магазин бегала, в прачечную. В общем, друг дома, свой человек в семье! Как уборка – тут уж я душу отводила. Паркет у них только что языком не вылизывала…
Она замолчала, уставилась в свою невидимую стенку, и Батышев испугался, что вот сейчас она опять замкнется…
– Ну и как долго тебе этого хватало? – спросил он, спокойной „преподавательской“ интонацией как бы отделяя ее рассказ от них сегодняшних, отодвигая его в безопасное, остывшее прошлое, откуда факты доходят до нас обкатанными, лишенными эмоций, растерявшими свои болезненные шипы.
Это подействовало – она подняла взгляд.
– Сейчас вспомню… Пожалуй, долго, почти год. – Она отвечала, морща лоб, старательно, как врачу больная, не понимающая логики и цели вопросов и озабоченная лишь одним: ответить точно. – Ведь я его видела часто, раз в неделю, а то и больше. По крайней мере знала, что могу видеть, когда захочу. И Света мне звонила – это его жена.
– А он?
– Ни разу, – сказала Марина.
– Ну и как думаешь – почему?
Она пожала плечами:
– Наверное, боялся, не так пойму. Что-нибудь лишнее подумаю.
– А про тот случай на берегу вспоминал?
– Ни разу.
И опять в голосе ее не было ни горечи, ни обиды – только желание точно ответить на вопрос.
– Что с тобой происходит, конечно, догадывался?
Она улыбнулась, и Батышев подумал, что для девушки с такими красивыми зубами она улыбается довольно редко.
– Дурак бы догадался, – сказала она. – Я как-то пыталась заговорить – и двух слов не дал сказать: „Малыш, не надо, я все знаю. Не надо об этом“. И все.
Батышев вдруг поймал себя на том, что смотрит на происшедшее ее глазами. Только он и она, вокруг пусто. А ведь в драме по меньшей мере три лица…
– Жена младше его? – спросил он.
– Да, ей сейчас двадцать восемь. Мне двадцать один, ему тридцать пять, ей двадцать восемь.
– Она к тебе как относилась?
– Хорошо. В основном хорошо. Наверное, жалела – не знаю.
– Ну а дальше?
– Что дальше?
– Рассказывай!
– Так нечего рассказывать, – невесело возразила она. – Так и тянется до сих пор.
– В каком смысле тянется?
– Люблю его.
– И дома бываешь?
– И дома бываю.
– Детей у них нет?
– Мальчишка, – сказала Марина, и губы ее растянулись от удовольствия.
– Сам-то он кто? По профессии?
– Конструктор. Хороший, но не ах!
– И никто другой тебе за это время не нравился?
– Если бы! – с горечью бросила она.
– Так, – сказал Батышев, – ясно. Дай-ка сообразить…
И опять она посмотрела на него, как больная на врача – с доверием и надеждой.
Батышев задумался, но ненадолго. Теперь, когда он знал все или по крайней мере основное, девушка не казалась такой уж сложной. Двадцать один год – просто молода. Вполне нормальная первая любовь – безрассудная, безнадежная, все как положено. Только нелепо затянулась. Хотя и это естественно: ведь тогда, на берегу, у девчонки был сильнейший эмоциональный шок. Еще бы! Ночь, костер, река, странный, умный, грустный мужчина – и на песчаной косе голая дрожащая девочка, у которой все впервые. От одного количества впечатлений можно получить нервный сдвиг! Кстати, при такой шикарной декорации мужчине вовсе не обязательно быть умным и странным. Вполне достаточно просто – быть. Хорошо еще, парень удовлетворился эстетическим удовольствием…
– Чему вы улыбаетесь? – спросила девушка.
– Так, – сказал он. – Мне бы твои заботы вместе с твоими годами.
Теперь, когда девушка была ему ясна, она сразу стала проще и ближе. И у драмы ее непременно должен был отыскаться благополучный конец. Все-таки прекрасная вещь первая любовь, особенно если удается вовремя от нее избавиться.
Батышеву уже не думалось о сне, его тянуло к дальнейшему разговору, как умелого шахматиста, стоящего за спиной новичка, тянет подсказать выигрывающий ход.
Он снова улыбнулся, и Марина спросила:
– Я какую-нибудь глупость выдала, да?
– Знаешь что? – сказал Батышев. – Там еще вроде по сухарю осталось. Поставь чайник, а?
Девушка прошла на кухню, и он, не дождавшись, пошел за ней, встал рядом и начал объяснять то, что ему самому, в общем, было уже ясно.
– Видишь ли, – начал он мягко, – может быть, дело вообще не в нем. Только в тебе. Семнадцать лет! Ну, не попадись тебе тогда он – все равно бы в кого-нибудь влюбилась. Возраст такой! Через месяц, через год… Ты просто была обречена на любовь, а он оказался в нужном месте в нужный момент.
Она слушала внимательно, не протестуя.
– Правда, это длится уже четыре года, – признал Батышев. – Срок! Весьма немалый срок для первой любви. Но, в принципе, все могло кончиться куда быстрей. Знаешь, в каком случае? Если бы он пошел тебе навстречу. Пойми – это элементарная психологическая ситуация. Когда ребенку не дают игрушку, он неделю ревет. А взял в руки – и тут же бросил. В общем, – он поднял палец, – тот самый запретный плод. Прекрасно, что он к тебе не притронулся. Но поверь – если бы у тебя с ним что-нибудь было… Ты понимаешь, что я имею в виду?






