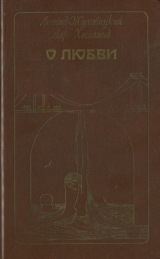
Текст книги "О любви"
Автор книги: Леонид Жуховицкий
Соавторы: Ларс Хесслинд
Жанр:
Рассказ
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 24 страниц)
– Куда ты меня ведешь? – спросил Эдвин.
– Пошли, пошли, – таинственно проговорила Соня и, вырвавшись вперед, подбежала к насыпи в дальнем углу сада. Некрашеная деревянная дверь вела в погреб, скрывавшийся под травой. Крышу венчали длинные стебли крапивы, купырь и ромашки. Соня открыла дверцу, и ржавые железные петли, сработанные вручную, отозвались на это протяжным скрипом. Следом за Соней Эдвин начал спускаться вниз. Волна сырого холодного воздуха ударила ему в лицо.
– Оставь дверь открытой, света здесь нет, – сказала Соня.
Молча стояли они на середине подвала, на стылом каменном полу. Глаза медленно привыкали к полумраку. На некрашеных деревянных полках опрятными рядами выстроились консервы, банки с вареньем, горшки. На гвозде висели два-три пустых пластиковых мешка. У стены стоял ящик с картошкой. На деревянной полке, над каменным полом, лежали в сухом песке морковь и свекла.
– Зачем мы сюда пришли? – спросил Эдвин.
Ничего не ответила ему Соня. Приподнявшись на цыпочки, чтобы дотянуться до верхней полки, она сняла с нее один из самых больших глиняных кувшинов. Опустила его на верстак. Десятилитровый глиняный кувшин какие выделывают в Хеганесе. На местных аукционах такая домашняя утварь обычно шла нарасхват. Соня сняла алюминиевую фольгу, закрывавшую горлышко кувшина и стоявший в погребе сырой запах земли смешался со сладким ароматом меда.
Эдвин удивленно взглянул на Соню, когда она, не вдаваясь в объяснения, запустила руку в вязкую массу, наполнявшую огромный кувшин. Она поцарапала локоть о край кувшина, но рука продолжала упорно нашаривать что-то в глубине. Потом вытянула руку, но мед не желал ее отпускать. Клейкая масса плотным слоем облепила ее руку до локтя.
– Ты что, с ума сошла? Смотри не заляпай платье! – сказал Эдвин. Он смотрел на нее, не веря своим глазам. В руке у Сони теперь лежал огромный медовый ком. Она протянула его Эдвину. С торжеством. Поднесла этот громадный ком, с которого капал мед, вплотную к его лицу. Вызов сверкнул в ее глазах. Мед капал и капал на каменный пол.
– Что это у тебя? – сердито спросил он.
Соня не отвечала – свободной рукой она оттирала слои меда. Терла и терла, будто скребком. Теперь Эдвин уже видел, что она держит в руках. Отчетливо видел. Страшный предмет. Сердце его бешено колотилось о ребра. Каждый удар отдавался в груди резкой болью. Эдвин ровным счетом ничего не понимал. Предмет в ее руках внушал ему ужас. Никогда прежде он такого не видел, но сомнений быть не могло. Металлический предмет, отливающий холодной синевой, властно говорил что-то Эдвину, но он отказывался понимать эту речь. Казалось, в мозгу зазвучал предостерегающий рев сирены. Эдвин никак не мог собраться с мыслями – всеупорядочивающего кода не было. Оставалось одно – назвать своим именем вещь, маячившую перед глазами. Тупо, словно слабоумный, глазел он на револьвер в руке Сони, с которого густыми струйками стекал мед. Вверху, на рукоятке, читались буквы, выгравированные в металле: наполненные золотистым медом, они отчетливо проступали на темно-синей поверхности: ЛЮГЕР.
– Черт возьми, это еще что такое? – задыхаясь, прошептал он.
– Револьвер, – отвечала она.
– Сам вижу, черт тебя драл, – прошипел он.
Не в силах подыскать нужные слова, он растерянно замахал руками.
– Что это такое? Отвечай!
– Орудие убийства, – ответила она с таким спокойствием, словно держала в руках моток ниток.
– Ору…орудие убийства? Где ты взяла его? И кто засунул его сюда?
Эдвин сглотнул слюну, скопившуюся во рту. Она еще не успела сказать ни слова, а он уже знал ответ. Связь событий проступала все явственней, но он отказывался ее принимать. Тем более – воспринять сознанием.
– Это я положила его в кувшин, – спокойно сказала Соня.
– Где ты взяла его, черт побери?
– В письменном столе нашла. В отцовском. В ящике.
– А каким образом он попал к убийце?
Соня смерила Эдвина долгим взглядом.
– А он к нему и не попадал. Да и нет никакого убийцы.
– Нет убийцы? – тупо переспросил он.
– Это я застрелила их, – недрогнувшим голосом произнесла Соня.
– Ты застрелила их… почему?
Разинув рот, Эдвин ошалело уставился на нее. На миг ему почудилось, будто из-под ног его выдернули трап и он летит в бездну. Голова у него пошла кругом. Он нипочем не хотел верить, но знал: она сказала правду.
– Кровосмешение… знаешь, что это такое? Что это значит, слыхал?
Эдвин молча кивнул.
– Нет уж, где тебе знать. Только тот, кто сам натерпелся, может понять, – проговорила она, две жесткие складки у рта вдруг обозначились на ее лице. Снова она замкнулась в себе. Молча уставилась в стену. А после заговорила так, словно была здесь одна, в темном чреве подвала, словно рядом не было никого. Она не выпаливала слова, а выплевывала их с яростью. – Проклятый старик то и дело принуждал меня с ним спать! А проклятая баба во всем ему потакала! Вот потому я их и застрелила!
Соня тяжело вздохнула. Он с ужасом глядел на нее.
– И давно?.. Давно он такое сделал с тобой? – спросил он.
– Всю жизнь он лапал меня! А когда мне двенадцать исполнилось, он меня изнасиловал…
Соня смолкла и, не отводя глаз от револьвера, с которого по-прежнему стекал мед, раздумчиво произнесла:
– Знаешь что, хуже всего другое: я бы и во второй раз убила их… Я ни о чем не жалею… Теперь весь кошмар позади…
Он взглянул на нее – одна лишь нежность была в его сердце. Она вдруг постарела лицом: не скажешь, что ей всего четырнадцать. Он обнял ее.
– Зачем ты показала мне револьвер?
– У меня никого нет на свете, кроме тебя, – глухо сказала она.
– Все равно не пойму…
– Я уезжаю отсюда… Но мы же не расстаемся. Моя тайна навсегда свяжет нас. Вернее обручальных колец прикует нас друг к другу. Понял теперь?
Страстная мольба читалась в ее глазах.
Мало-помалу открывалось ему значение всего, что только что произошло: ему одному раскрыла она свою страшную тайну. Это был ее дар ему, кто мог бы подарить больше? Она вверила ему свою судьбу. Жизнь ее теперь была в его руках. Теперь он знал ответ на вопрос, который мучил его с первого дня их встречи. Она все сказала ему своими словами. Да и не только словами. Она вверила ему свое будущее, свою судьбу. Этот подарок ее заслонил и затмил все прочее. Теперь она уже не просто дорогой ему человек, человек во плоти и крови. Соня теперь для него символ. Символ смысла жизни. Ради нее одной стоит жить. Он на веки вечные предан ей. И она всегда будет с ним. Ангел она, вот кто, голубой ангел. Его, Эдвина, ангел-хранитель. Его Соня. Ему хотелось броситься к ней, крепко прижать ее к себе, спрятаться от всей мерзости мира в гриве ее распущенных, сверкающе чистых волос. Но он не смел…
– Нам надо избавиться от этой штуки… чтобы ее не нашли, – сурово проговорил он, кивком головы указав на револьвер в ее руке. Эдвин снял со стенного крючка один из мешков.
– Клади сюда, – приказал он.
Соня вложила револьвер в пластиковый мешок. Тщательно завернув его, Эдвин засунул пакет в карман джинсов. Он только что сказал "мы", как нечто само собой понятное – ни на миг даже не задумался. Так-так, отныне он, Эдвин Ветру Наперекор, соучастник убийства. Убийства добропорядочных набожных супругов Ольссонов. Одно из двух: Закон или Любовь. Так, стало быть, к черту закон!
– Пошли! – сказал он.
Соня покорно подала ему руку и следом за ним вышла в сад. Свет словно бы снял тяжесть с души. В саду стоял запах свежескошенной травы, стало легче дышать. Соня с тревогой взглянула на Эдвина. Он сжал ее руку и с улыбкой показал на верхушку дерева. Там, на макушке высокой груши, две сороки – самец и самочка – учили своих птенцов летать.
– Сороки – они всю жизнь вместе, – сказал он.
Она кивнула. Робкая улыбка тронула ее губы.
– Помоги мне руки отмыть, – попросила она. – Шланг лежит справа за погребом.
Вода поступала в сад из пруда, раскинувшегося на пригорке. Стекала сюда под наклоном. Тепло прокаленных солнцем камней нагрело воду до температуры тела.
– А куда мы спрячем револьвер? – спросила Соня, отмывая руки под струями, брызнувшими из шланга.
– Туда, где его никто никогда не найдет, – сказал он.
– Так куда же?
– Уж это мое дело, Соня.
– Ладно, – легко согласилась она, пожимая плечами.
Тетка сочла своим долгом как можно лучше устроить племянницу в большом городе – Гетеборге, а посему решила ее сопровождать. Тетушка – сама заботливость и чуткость. Всю дорогу она болтала о том о сем, не давая Соне углубиться в свои мысли. Только когда она направилась к киоску, чтобы купить в дорогу какое-нибудь чтиво, Эдвин и Соня наконец ненадолго очутились наедине.
На небе ни облачка. Светит солнце. Над перроном железнодорожной станции Арвика клубится жара. На Соне – желтое платье. Волосы, на затылке перехваченные желтым бантом, пышным "лошадиным хвостом" свисают на спину…
– Надеюсь, часто будешь звонить? – тихо спросил он, ковыряя носком кроссовки теплый асфальт.
Соня кивнула.
– Как только деньгами разживусь, – сказала она.
– А не то я сам стану тебе звонить. Можно и письма писать.
Они чуть-чуть помолчали.
– А эту штуку ты куда дел? – со страхом спросила она.
– В озеро швырнул, – ответил он.
– В какое озеро?
– Не скажу.
– Почему?
– А тебе лучше этого не знать. Один я буду это знать.
– Но почему?..
– Это еще крепче свяжет нас, – сказал он ей с улыбкой.
Она ответила ему настороженным взглядом. Но внезапно лицо ее осветилось улыбкой, согнавшей с него выражение страха и озабоченности.
– Так, значит, один за всех? – спросила она.
– И все за одного! – подтвердил он.
– Соня, нам пора садиться в вагон, поезд отходит через несколько минут, – сказала тетка, готовясь отнести в купе вещи. – Прощайся с Эдвином.
Соня протянула Эдвину руку. Тетушка поднялась в вагон.
Может, нынче самый благословенный день уходящего лета?
– Я люблю тебя, – глухо проговорил он, вперив взгляд в багажную тележку, стоявшую поодаль на перроне.
– Я это знаю, Эдвин, – сказала она.
Соня стояла не шевелясь. У Эдвина перехватило дыхание. Она вся подалась к нему, словно желая поцеловать его, но тут же осеклась. Повернулась и убежала. Вскочила на ступеньки и скрылась в вагоне.
Низко пригибаясь на бегу, Эдвин мчался вдоль поезда, пока в одном из окон не увидал Соню. Она примостилась в глубине купе. Она смотрела на него. Он смотрел на нее. Они не сводили друг с друга глаз, покуда окно вагона не скрылось за поворотом.
Электрогитары в Иванову ночь
Одиночество, что ли, сочившееся из кирпичных строений, приглушало шаги человека, миновавшего стальную ограду? Он шел, слегка наклонившись вперед. Тяжелой походкой. Неторопливой.
"Может, еще и депрессией, черт возьми, тянет оттуда, – подумал он, – и главное, под праздник, в канун Иванова дня!"
Одд Экман сплюнул на дорогу.
За последний год он много раз проделывал этот путь. Сколько – он не знал. Но как бы часто ни преодолевал он эти шестьсот сорок два шага, отзвуки укоряющих криков чаек в своем мозгу он унять был не в силах.
Весь его путь от автобусной остановки до застекленной двери седьмого отделения проходил под зеленым березовым сводом.
Ступеньки ко входной двери. Лифт на второй этаж.
Но хуже всего было ожидание перед занавешенными дверьми из армированного стекла.
От одного сознания того, что будет, когда вслед за сестрой он пройдет в отделение, рубашка прилипала у него к спине.
Встреча с отцом всякий раз была для него все равно что суд, на котором он исполнял разом три роли.
Ответчик. Беспощадный обвинитель. И смешной защитник, не располагающий сколько-нибудь серьезными аргументами.
Судья – а судил виновного взгляд старика – выносил ему безжалостный приговор, который разъедал его изнутри и заставлял упрямую совесть перемалывать клетки мозга, превращая их в кричащее болезненное месиво.
Тем не менее Одд не был виновен в каком-либо дурном или злонамеренном поступке, который бы заслуживал такого наказания. Единственный его грех состоял в том, что он появился на свет. Он был сыном. А старик в седьмом отделении – его отцом. И все.
И если что-то и заставляло его раз за разом тащиться на автобусе в больницу, то уж, во всяком случае, не любовь. И не сострадание. Единственной причиной, которая гнала его сюда, было то, что по воле случая он был когда-то зачат этим, ныне высохшим, как трут, человеком, который, должно быть, сейчас сидел, дрожа мелкой дрожью, в кресле из выбеленного дуба.
Из сетей родства не выпутаться…
Ветер шевелил кроны берез. Солнечный свет, пробиваясь сквозь листву, высвечивал яркие пятна на посыпанной гравием дорожке. На веревке, натянутой между стволами, раскачивалось белье. Желтая бабочка искала защиты от ветра в траве, среди одуванчиков. В воздухе прочно стоял запах стариковской мочи, но вдруг повеяло ароматом свежескошенной травы. Стрекотали сверчки, где-то далеко на западе куковала кукушка.
Но долговязый двадцатилетний молодой человек с глубоко посаженными глазами мечтателя был абсолютно глух к обещаниям Иванова дня, он не мог радоваться лету.
Он физически ощущал, что праздник Иванова дня, подобно празднику Рождества, больше всего обостряет чувство одиночества у всех, кто лишен свободы.
«Везет же людям!» – подумал он, взглянув на свои часы. Сейчас, в эту самую минуту, его друзья катаются на яхте в фиордах. Сейчас они выпивают, а ближе к вечеру, козлы чертовы, будут танцевать с легкодоступными девочками – работницами консервной фабрики на пристани Стормё…
Он подумал также, что на море в холодную погоду пиво, черт возьми, становится еще вкуснее от привкуса свободы. А погода и впрямь хороша – недаром мошкара кружилась над палубой, когда Рёен, Йонте и он загружали яхту крепким пивом и водкой. Их переполняло ожидание предстоящего праздника. Позже, вечером, у него в голове начался какой-то шум. Всю ночь сон боролся с бессонницей, а наутро крики морских чаек в ушах заставили молодого человека сесть в автобус и поехать в больницу.
– Иванов день принадлежит нам, молодым, это праздник смеха и жарких объятий, черт возьми, – сказал он вслух и попытался попасть плевком в кальсоны, которые плясали на ветру; сзади на кальсонах по диагонали светло-голубой краской было отштамповано: "Областное самоуправление. Больница Святого Йоргена".
Он закусил губу и стал следить взглядом за бабочкой, которая металась в тени листвы, а затем взмыла ввысь в поисках света.
Он словно чувствовал, как чертов старик, сидя в кресле, сверлит стены седьмого отделения своими немыми попреками и как его самого, сына этого старика, засасывает магнитное поле укоров.
Чти отца твоего и матерь твою…
Черт побери, не сын же виноват в том, что старик сидит здесь и не может сказать, что ему надо. Разве сын – причина того, что старик не способен сообщить окружающим, что ему требуется – то ли стакан воды, то ли судно? Он не знал своего отца, отец не знал его и никогда не заботился о том, чтобы узнать сына. Они жили вместе, но между ними не было ничего общего.
В течение двадцати лет у них была одна крыша над головой. Тем не менее их ничто не связывало. Никакие нити. Только билеты в кино.
Да, это правда, по пятницам старик давал ему деньги на кино, пока ему не исполнилось пятнадцать лет, и он не стал зарабатывать сам.
"Никогда не забывай, паршивый мальчишка, что ты получал от меня деньги на кино по пятницам. Пойми раз навсегда: всю жизнь я надрывался, чтобы ты всегда был сыт", – обычно говорил он, когда был еще в состоянии говорить. Он говорил это каждый день. А пьяный – кричал. Пьян он бывал часто.
Старик никогда не жаловал родственников.
"Нечего им вмешиваться в наши дела", – говорил он. Родственники постепенно отошли от них и стали чужими людьми.
У Одда не было ни братьев, ни сестер, мать умерла от рака, когда ему исполнилось шестнадцать лет.
Теперь он единственный человек на всем земном шаре, который чем-то обязан старику. И с этим ничего не поделаешь.
У хорошо вымытого окна в дубовом кресле сидел старик, полностью потерявший речь, он мог только издавать неразличимые звуки – мычать. Он не мог поднять руки, ноги тоже его не слушались. Глаза его больше не видели мир. Но и мир тоже не видел его. Человек из плоти и крови превратился в диагноз: "Слабоумный из седьмого отделения".
Санитары поднимали его на хитроумной машине, упряжке с подъемным устройством, позволявшей им сберечь силы, и усаживали его в кресло, лицом к миру. И он сидел в комнате для посетителей и ждал. Ждал день за днем.
Вот уже в течение двух лет, двух месяцев и восемнадцати дней он протирал подстилку из серого пластика – полиэтилена, защищавшую кресло от мочи. А тот, ради кого он всю жизнь гнул спину и тратился на кино, сейчас шел по дорожке из гравия к седьмому отделению.
«Конечно же, ты одинок. Но мы, что молоды сейчас, будем еще более одиноки».
Он не сомневался, что когда женится и заведет семью, его дом будет царством телевизора, заполненным тишиной. Дом – спальня, дом – столовая, где дети будут спать и кормиться, пока, встав на собственные ноги, не отправятся в путешествие по жизни. Всюду поселится тишина, не станет разговоров, не станет человеческой дружбы – и стена будет расти. На рабочих местах, бензоколонках, в банках и магазинных кассах – нигде не будет людей; всю работу станут выполнять компьютеры, а когда Одду исполнится пятьдесят, Управление по уходу за престарелыми наверняка построит для него, Рёена и Йонте специальную резервацию. Тогда настанет его черед протирать кресла в отделении длительной терапии – кресла, сделанные для стариков по всем правилам эргономики. Но тут уж никто не появится на дорожке, ведущей в больницу, и некому будет плюнуть на его кальсоны.
Никто не мог поколебать в нем этой уверенности. Даже сам черт.
Старик никогда не моргал. Взгляд его был устремлен за пределы кирпичного здания. Окно с панцирным стеклом защищала маркиза в зеленую полоску, которая давала приятный свет и мешала солнцу высушивать хрусталики глаз.
"Деньги на билеты в кино… да, конечно… Но разве не ты, отец, сказал матери: "К чертям собачьим! Незачем парню учиться дальше. Кончит школу – пусть пойдет работать. Нам в доме не нужны умники и болтуны. Нашей семье не нужны нескладехи, у которых руки не тем концом вставлены. Мы честно вкалываем, на чужой счет не живем. Мы работяги, такими и останемся. Этот паршивец тоже будет работать. Пусть учитель говорит, что у него способности. А ты, старуха, не реви! Если я говорю, что мальчишка будет работать, так оно и будет! Сколько бы ты ни ревела. Ясно?"
Ей было ясно. Каждое слово.
И потому с семи до половины пятого Одд запихивал диатомит в двери сейфов на фабрике Розенгрена и ненавидел каждую минуту, которую проводил в цехе.
– Слушай, ты не поможешь?
Голос раздался из кустов рядом со стоянкой. Девушка в плотно облегающем кожаном комбинезоне цвета киновари, с белыми звездами на плечах и белыми полосками на рукавах куртки и брюках, вышла из зелени. Наверное, у парикмахерши помутилось в голове, и она отхватила ножницами чуть ли не все волосы. Прическа ее напоминала скошенное поле ржи.
– Я? – Одд ткнул себя в грудь.
– Ну да, ты. Не береза же!
– А что нужно?
– Руки нужны. Только сильные. – Теперь она улыбалась. Открытой улыбкой. Одними губами.
Он пошел к ней по лужайке. Туфли утопали в траве. И впервые за все утро он отключился. Мысли о старике отошли на задний план.
Веснушки у нее на носу напоминали Млечный Путь.
– Надеюсь, что справлюсь, – сказал он, кивнув и тоже улыбнувшись.
Она смотрела на него, прищурив один глаз.
– Справишься. Он лежит вон там. – Она ткнула куда-то большим пальцем.
Он остался на месте и смотрел, как она пролезала через дырку в живой изгороди, окружавшей стоянку. Комбинезон не мог скрыть красоту ее фигуры. Через кожаные брюки угадывалась форма бедер. Бедра крепкие, мягкие. Движения девушки были естественны, она передвигалась непринужденно, с той же чувственной плавностью, что и негры. Передвигалась, как человек, сознающий свою привлекательность.
Солнце падало ей на спину, под красной кожей комбинезона прорисовывался контур мини-трусиков.
Она обернулась к Одду. Откинула голову назад, почесала шею.
– Ну чего уставился? Девушки никогда не видел?
– С зелеными глазами – никогда.
– Контактные линзы, – коротко сказала она.
– Не жарко в коже в такую погоду? – спросил он и пошел за ней следом.
– Нет, если ничего не надевать вниз, – ответила она.
Он потупил взгляд и повел плечами, потом плюнул и бросил взгляд на окно седьмого отделения. Ее прямота смущала его. Беседовать с девушкой легче, когда рядом товарищи. Или когда девушка уже знакомая.
Рядом с кустом форсиции лежал перевернутый мотоцикл. На руле висел белый шлем. На траве валялась холщовая сумка.
– Давай вместе поднимем его.
– Твой?
– Мой. – Она кивнула.
– Тысяча кубиков, совсем неплохо. Надеюсь, мотоцикл не пострадал? – сказал он с восхищением.
"Хонда". Фабричный номер был нарисован черной краской на хромированном бензобаке.
– Обычно он переворачивает его осторожно… Вот подлец…
– Обычно?.. Кто переворачивает?.. – Одд в изумлении посмотрел на нее.
Он стоял так близко от нее, что чувствовал запахи дезодоранта, кожи и бензина.
– Один из парней – он в третьем отделении, – развлекается тем, что переворачивает мой мотоцикл. – Девушка покрутила пальцем у виска. – Чокнутый, – добавила она.
– Хорошо, что существуют разные способы развлекаться. – Он взялся за сиденье, нагретое солнцем. Он подумал, что точно так же жгло бы руку, если бы он положил ее на спину девушки. Они подняли мотоцикл и поставили его.
– Тысяча кубиков, черт побери. Должно быть, сила?
– Вроде бы так.
Воробьи дрались на гравиевой дорожке из-за бумажки от мороженого.
– А этот из третьего отделения… ну, который переворачивает твой мотоцикл, он что, твой парень? – спросил Одд.
Она засмеялась, и он заметил, что зубы у нее неправильные. Рот был большой, губы – крупные. От смеха веснушки побежали кверху.
– Он наркоман, – сказала она.
– Твой парень?
– Нет, который мотоцикл переворачивает. Наркоман из третьего отделения.
– А зачем он переворачивает твой мотоцикл?
– Он пристает ко мне, и, когда я отшиваю его, он мстит. Логика подсказывает ему: коль скоро ему не удается опрокинуть меня на спину, можно вместо этого опрокинуть мой мотоцикл. Мой парень, говоришь? Не нужен мне никакой парень. У меня есть мотоцикл.
– А у меня нет ни девушки, ни мотоцикла.
Он посмотрел в сторону седьмого отделения. Окна, завешенные изнутри белыми шторами, отражали небо и прятали тех, кто должен был сидеть в кресле до конца своей жизни. Все оставшиеся дни. Кроме праздников.
Одд знал порядки седьмого отделения. Со второй половины дня пятницы и до утра понедельника слабоумные лежали в кроватях. В конце недели в клинике не было персонала, который одевал больных. Некому было погрузить их в подъемное устройство и усадить в кресло. В итоге последних переговоров насчет рабочего времени между профсоюзом и государственными работодателями условия труда персонала больниц, слава богу, улучшились. Теперь с особой тщательностью стали следить за соблюдением рабочего времени. Каждая минута внесена в график и соответствующие диаграммы. Профсоюз одержал большую победу. Вне всякого сомнения. Настоящую победу. Применительно к рабочему времени персонала.
Но Одд знал также о плодах этой победы. Никто из математиков и инженеров страны равных возможностей не удосужился подсчитать пролежни у слабоумных больных, которые тоже следовало бы учесть в трудовом договоре. Те же старые песни. Расплачиваться всегда должен слабый.
– Ты здесь лечишься? – спросила она.
– А что, я похож на пациента? – Теперь настала его очередь улыбнуться. – Нет, я приехал сюда навестить отца. Он в седьмом отделении. В длительной терапии.
– Жаль. А что с ним?
– Он сидит в кресле и весь дрожит. И не может говорить. Это называют старческим маразмом.
– Ничего себе! – Она покачала головой.
– А ты что здесь делаешь в канун Иванова дня? – спросил Одд.
– Подрабатываю в летние каникулы. В третьем отделении.
– Ты учишься?
– Да, изучаю науку управления… в университете.
– Ты не похожа на бюрократа!
– Внешность обманчива, – улыбнулась она.
– А кто лежит в третьем отделении?
– Отделение юных наркоманов с психической неполноценностью, название красивое. А по существу это значит, что мы держим здесь ребят, которые так много кололись, что свихнулись.
Она вставила ключ в зажигание.
– Ты поедешь в город? – спросил Одд.
– Нет, у приятеля моей матери поблизости дача.
Одд сунул руки в карманы брюк.
– Трудно управлять мотоциклом? – спросил он.
– Нет, он меня слушается. Вовсе не трудно.
– Тысяча кубиков. Слишком жирно для девушки.
– Девушки разные бывают.
– Это как?
– Некоторым нравится большая скорость.
Она собрала волосы и натянула на голову шлем, ее лицо вновь осветилось беглой улыбкой.
Одд ковырнул носком ботинка землю. Сплюнул. Она повернула ключ зажигания. Тысячи кубиков заурчали в блестящих стальных цилиндрах. Она прибавила газу, мотор заработал сильнее.
– С чего это ты все спрашиваешь и спрашиваешь? – сказала она.
– Может, мне обидно, что ты сейчас влезешь на эту кофеварку и смоешься, – поспешил он с ответом.
Признание это повисло между ними словно бы на ничейной земле.
Мотор работал спокойно, надежно, как аппарат "сердце-легкие" в больнице. Прошла целая вечность. И еще одна вечность.
Из боязни взглянуть в глаза девушке он смотрел на втулку переднего колеса "Хонды".
– Почему тебе это обидно? – сказала она.
Она подняла сумку с травы. Она тоже избегала смотреть на него.
Он жалел, что у него вырвались эти слова: будто между ними пролегла трещина, которая разрасталась в пропасть. И, вообще, о чем, черт возьми, он думал? По какому праву он ей навязывался?
Одним фактом своего существования эта девушка, оседлавшая стального коня, доказывала право женщин на независимость. Она личность, за ней – сила. А он – кто? Дерьмовый рабочий на фабрике Розенгрена по производству сейфов. Набивщик диатомита. И ничего больше. Единственный сын бессловесного старика, человек, который кусками запихивал свою жизнь в огнеупорные двери и не мог найти для себя ничего лучшего.
Неожиданно она вскинула голову. Поймала его взгляд и улыбнулась.
Улыбка была неуверенной, но тем не менее теплой, как солнце после дождя. Она прижала к себе сумку.
– Ты умеешь сидеть сзади и держать сумку? – спросила она.
– Это единственное, что я умею. Я – лучший в Швеции специалист по этим делам: сидеть сзади на мотоцикле и держать сумки, – сказал он поспешно, словно боялся опоздать с ответом. Она посмотрела на него долгим взглядом. Затем рассмеялась. У него перехватило дыхание.
– Хочешь поехать со мной на дачу к приятелю моей матери?
– Хочу, – сказал он.
– А как же твой отец?
Она повернула рукоятку регулятора газа. "Хонда" взревела.
– Отец никуда не денется.
– О’кей. Делай как знаешь. Это твой отец, а не мой. Надень запасной шлем, он в сумке.
Одд еще раз взглянул на окна отделения длительной терапии и плюнул. На листке одуванчика появился след.
– Тогда поехали…
Он застегнул джинсовую куртку на шее, чтобы защититься от ветра. К черту пропахшие мочой кальсоны старика с больничным штампом на заднице!
– Не бойся, не покрасишься! – закричала она через плечо.
– Ты о чем?
Девушка повернула рукоятку газа почти до упора. Встречный ветер дул Одду в лицо. Машин было мало. Они поехали по шоссе на север.
– Держись за меня, иначе тебя сдует!
Он осторожно положил руки ей на бедра. Придвинулся ближе. Прижался грудью к ее спине. Она стала женщиной из плоти и крови. Они проезжали места, где было много лисичек, и жимолость цвела дважды в году. Проезжали мимо нарядных деревянных домиков, выкрашенных красным и белым цветом. Желтые поля рапса пахли медом. Озера улыбались среди зелени, а люпин окрашивал обочины во все цвета радуги.
Покрышки пели, соприкасаясь с горячим асфальтом.
Блюз-музыка тоже голубая, – подумал он. Самым красивым был голубой люпин.
Она прибавила газу, и "Хонда" помчалась подобно летучей лошадиной упряжке. Это была настоящая магия движения. Состояние, какое возникает только у посвященных, теперь снизошло на него. Он был королем шоссейных дорог и владел частью мира. Он был свободен.
– Меня зовут Одд… Одд Экман. А тебя? – закричал он ей в ухо, стараясь перекричать шум ветра и шум мотора. Она наклонила мотоцикл. Сверкающая мощная машина летела по изгибу дороги.
– Разве это так важно?
– Я обещал маме никогда не ездить на прогулку с незнакомыми женщинами!
– Тогда позвони ей и скажи, что маменькин сынок отправился в путешествие с Ирис.
– Она не отвечает по телефону!
– Она тоже не может говорить? – Ирис засмеялась.
– Не может. Она умерла.
– Извини.
– Ничего. Она умерла давно.
Они ехали по шоссе на север. Движение стало интенсивнее. Ирис, как слаломщица, лавировала в автомобильном потоке.
Блестящие от пота лица смотрели на Одда через окна автомобилей. Зимние лица, летящие в лето.
Розовый автомобиль проскочил в крайний ряд. Студебеккер пятидесятых годов, воплотивший в хром традиционно-американскую привычку пускать пыль в глаза. Он напомнил Одду картину Тулуз-Лотрека, висевшую на стене в комнате Рёена. На картине была изображена поблекшая проститутка, направлявшаяся на мужской ужин к богачам. И в студебеккере ехали одни мужчины. На водителе и двух пассажирах красовались кожаные шляпы техасского фасона. У двух молодых людей на заднем сиденье были бритые макушки с гребешком волос посередине, как у петуха. Третий был обрит наголо. Зеркальные стекла темных очков и свастики на куртках блестели на солнце. На черных кожаных спинах сверкали три ненавистные Одду буквы Б. С. С[2]2
Начальные буквы трех шведских слов – лозунга «Сохраните Швецию шведской».
[Закрыть]. На антенне болтался лифчик. Над радиатором развевался искусно покрытый разноцветным лаком дракон, изрыгающий огонь. Марк Кнопфлер ревел в стереосистеме салона. Пассажиры американской машины хлестали крепкое вино. Все, кроме водителя в кожаной шляпе.
Бритоголовый поднялся на заднем сиденье и стал мочиться на дорогу. Он удовлетворенно заржал, когда моча забрызгала ветровые стекла следующих за ними машин. Из правого заднего кармана джинсов он вытащил специально сделанную цепь. Одд видел, как таким же оружием бритоголовые пользовались в драках с иммигрантами: острозаточенная велосипедная цепь с напаянными кусками свинца.
Студебеккер прибавил скорость. Парень с громким хохотом плюхнулся на заднее сиденье. Машина сделала несколько рискованных обгонов и исчезла из поля зрения Одда. Шоссе перед ними извивалось буквой S.
Внезапно Ирис сбросила газ и тормознула. Одд вжался грудью в ее спину.
– А, черт…
Шоссе впереди было перегорожено деревянными стойками в красную и желтую полоску. Человек двадцать полицейских в сине-зеленых комбинезонах направляли все машины с молодыми водителями и пассажирами к обочине дороги и выстраивали их там в ряд. Полицейские не трогали пожилых и семейных. Добродушно улыбающийся блюститель порядка остановил и Ирис. Он поднес руку к форменной фуражке и отдал честь, что должно было означать: слуги общества рады вам служить.






