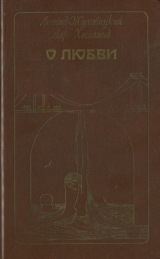
Текст книги "О любви"
Автор книги: Леонид Жуховицкий
Соавторы: Ларс Хесслинд
Жанр:
Рассказ
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 24 страниц)
Помолвка
Каша из ржаной муки представлялась его матери чудодейственным средством – уж оно-то наверняка поможет ему догнать в росте одноклассников. И он верил этому слепо. Каждое утро он добросовестно проглатывал бурую клейкую массу, но по-прежнему, к великой своей досаде, оставался на голову ниже самого маленького из соучеников. Плачь не плачь, от слез толку мало. Один метр тридцать шесть сантиметров – перерасти эту отметку не удавалось никак.
Обиду ему тоже пришлось проглотить.
Чтобы защититься от самых отчаянных забияк в классе, ему то и дело приходилось пускать в ход кулаки. Учителя, надзиравшие за поведением учеников на переменах, скоро заметили его страсть разрешать конфликты с помощью силы.
Здешняя школа в Омутсфорсе слыла образцовым учебным заведением. Обучение велось в ней по новым программам, утвержденным главным управлением школ и основанным на новейших достижениях современной педагогики, создателем которой был американский профессор Нил Постмэн. Новейшая педагогика предписывает во главу угла воспитания ставить личность ученика, телевизоры же – удалить из классной комнаты. Школьное преподавание вовсе не должно отражать мир как в капле воды, напротив, в классах шторы надо держать опущенными, а от этого самого окружающего мира отгородиться следует напрочь. Задача школы – воспитывать независимых, свободных, творческих, сильных людей, способных критически оценить мир, простирающийся за стенами школы, и облечь эту критику в слова.
Чтобы подчеркнуть современный характер своих педагогических принципов, школа придумала девиз – предмет особой гордости всех учителей, и девизом этим украсили футболки учеников: "Вперед к углубленному знанию!"
Чтобы прекратить драки на переменах в школьном дворе, директор, естественно, созвал учительский совет.
И собравшиеся учителя все, как один, высказались в том смысле, что драчливость есть отклонение от нормы и драчуна-коротышку необходимо срочно направить к школьному психологу.
После нескольких доверительных и дружеских бесед с глазу на глаз школьный душелюб огласил свой диагноз. Агрессивность – следствие отчаяния, в кое повергает ребенка его малый рост, – с этим заключением психолога ознакомили всех учителей.
Как только школьный психолог вынес свое суждение, классная руководительница созвала родительское собрание и взволнованно изложила собравшимся суть дела. Всем сердцем приняв сторону слабого и обиженного, она призвала родителей объяснить своим детям, насколько несправедливо и даже недемократично травить товарища за то, что ростом он дотянул всего лишь до ста тридцати шести сантиметров. Такую постыдную травлю можно сравнить разве что с преследованием цыган, евреев и иммигрантов, сказала она.
Собрание это имело необычайный эффект.
Уже на другой день разразился ад. Теперь, когда и школа и родители запретили ученикам мучить недомерка, мучительство это стало излюбленным развлечением его одноклассников на переменках. Оно превратилось теперь в самый популярный вид спорта, чуть ли не как футбол.
Медленно, но верно мальчика отвадили от школьной компании. Эдвин Сквозной Ветерок предпочел держаться особняком. Местные жители считали его слегка чокнутым. Молчаливый изгой, он повсюду бродил один. Приятелей у него не было, была только Соня. Но одиночество не тяготило его – он его полюбил. Уже не требовалось вечно быть начеку, вечно ждать нападения "дедов"-старшеклассников, вдобавок одиночество позволяло ему размышлять. А он любил размышлять. И если бы его спросили, какое занятие лучше всех других на свете, он тут же ответил бы: "размышлять".
Вечерами отец часто читал вслух Библию. Вся семья была набожная. Двенадцати лет от роду мальчик вдруг открыл, что некоторые священные истины, с младенчества ему внушаемые, на поверку оказались ложью, бессовестной выдумкой. Открытие это отняло у него прежнюю детскую веру и навсегда посеяло в его душе недоверие к родителям, к богу и церкви, к законам.
В тот вечер отец медленно и внятно читал вслух из Священной Книги ("Книга Бытия", гл. I, ст. 27): «…И сотворил Господь человека по образу и подобию своему…»
По образу и подобию своему? Какого черта! Он – Эдвин Сквозной Ветерок, и ничего божественного в его облике не сыщешь. Один-единственный взгляд в зеркало, и ясно, что это брехня.
«И раскаялся Господь, что создал человека на земле, и воскорбел в сердце своем» («Первая книга Моисеева», гл. 6, ст. 6).
«И сказал Бог Ною: конец всякой плоти пришел пред лице мое; ибо земля наполнилась от них злодеяниями. И вот я истреблю их с земли» («Первая книга Моисеева», гл. 6, ст. 13).
Когда мальчик собственными ушами услыхал эти слова из Священной Книги, что господь, мол, отнюдь не в восторге от своего творения, то сразу же смекнул, что, стало быть, господь – не такой уж и великий мастер, каким все его считали. Великий бог-отец – просто незадачливый кустарь-одиночка, не справившийся со своей работой.
С того дня, как Эдвин Сквозной Ветерок открыл, что весь мир – не что иное, как плод одной-единственной чудовищной ошибки, жить ему стало немножко легче. Он даже смирился со своей внешностью – пусть даже его непомерно большая голова смахивает на косо посаженный огурец.
Причитания школьного психолога, что, мол, внешность Эдвина влияет на его поведение, он воспринимал отныне снисходительно, коль скоро раскусил брехню насчет совершенного творения божьего. Он понял, что внешний облик всегда накладывает отпечаток на поведение любого живого существа.
720 022 – 1903, Эдвин Киннунен, – так обозначен он в списках местного налогового ведомства. Сын заводского рабочего Мартти Киннунена, прибывшего в Швецию из Финляндии в 1960 году и в 1967 году приобретшего шведское подданство, и супруги его Ильвы Анни Марьи Кангасмаа, прибывшей из Финляндии в 1960 году и получившей шведское гражданство в 1967 году.
В первый же школьный день одноклассники наградили мальчика прозвищем "Эдвин Сквозной Ветерок". Одним этим они уготовили сутулому финскому недомерку участь "мальчика для битья". Сказать по правде, прозвище это было довольно метким. В чем-то оно отражало весь облик Эдвина, а большего и не требовалось…
Вообще-то Эдвин при ходьбе сутулился, он шагал, сильно наклонясь вперед, словно боролся с порывами встречного ветра. Теперь, спустя восемь лет, Эдвин соглашался, что и впрямь был резон наградить его "ветреной" кличкой. Хуже обстояло дело, когда кличку эту только-только изобрели. Стоило Эдвину ее заслышать, и он тут же впадал в ярость. Исступленно размахивая кулаками, он накидывался на своих обидчиков и лупил их почем зря.
– Идиоты проклятые! Вы что, совсем сбрендили? Олухи безмозглые! Какой я вам Сквозной Ветерок?! Я же согнувшись хожу, будто со встречным ветром борюсь, а вы – "Сквозной", да еще "Ветерок"! – орал он сквозь слезы.
Что ж, сверстники его не были злодеями от рождения. Росли они в добропорядочных семьях. И всех их учили терпимости и благоразумию. Посмеиваясь, они вняли его протестам и тут же прилепили ему другое прозвище, а именно – "Эдвин Ветру Наперекор". Но может, кличка не одно только зло ему принесла? Нынче он уже мог подвести итог. Жизнь – нелегкая штука, и мир наш – жестокий мир. Чтобы успешно шагать в будущее, нужна изрядная доля душевного здоровья. Из книг, которые он брал в библиотеке, он усвоил, как важно быть сильным в этой жизни. И тут он словно бы шел "наперекор ветру" – пятнадцатилетний мальчик, в эпоху расцвета видеотехники зачитывающийся книгами. Его соученики издевательски кричали ему вдогонку "Эдвин Наперекор", и он молча глотал обиду, но от всех этих мук закалялся душой. Так в огне закаляется сталь.
Одна лишь Соня понимала, что кличка больно ранит его. И она звала его Эдвином. Всегда – просто Эдвином.
У кооперативной лавки он слез с велосипеда, на котором развозил почту, – хотел передохнуть перед подъемом в гору. Порывшись в заднем кармане джинсов, выудил оттуда круглую коробочку с нюхательным табаком и постучал костяшками пальцев по крышке – так всегда делали старики, собиравшиеся во дворе. Приподняв губу пальцем левой руки, всунул в рот понюшку табака.
По шоссе прогромыхал грузовик, взвихрил недвижную летнюю марь. Под ногами у Эдвина задрожала земля. Задрались края объявлений, расклеенных на стене… Изящные буквы и цифры, выписанные черной тушью на белой бумаге и наперебой предлагавшие дешевый товар, парили над синей лежачей восьмеркой – эмблемой кооператива. Лежачая восьмерка – символ бесконечности. Вперед, мол, навстречу вечности. Или, может, "ступайте ко всем чертям"? – так, по крайней мере, стала толковать смысл эмблемы мать Эдвина, когда кооператив отказал своим членам в скидке на приобретаемый товар.
Доска объявлений пестрила бумажками. Кто-то потерял браслет. Две девушки предлагали свои услуги – присматривать за детьми в субботние вечера за пятнадцать крон в час. Оранжевая афиша с зеленым текстом сулила лучшее спортивное событие года. Сенсационный матч местной футбольной команды с лондонской командой "Гринэм Коммон Футбол Клаб". Начало игры в пятнадцать ноль-ноль в воскресенье. После матча – лотерея.
Скользя равнодушным взглядом по всем этим бумажкам, мальчик кончиком языка без устали обрабатывал табак, засунутый под губу, а под конец, сплюснув в комок остатки табака, попросту выплюнул его.
Кругом – тишина, будни, обыденность. Скука, которой не видно конца. Покой, заведомая предначертанность каждого пустяка. Мальчик прислонился к нагретой солнцем стене – мухи еле-еле успели взлететь и опуститься на нее в другом месте. И все же именно этот день, дышащий покоем и скукой, должен был обернуться для Эдвина леденящим душу кошмаром.
На траве перед лавкой лежала черная овчарка – она дремала и даже не подняла глаз, когда к ней на нос уселся шмель. Волчьи повадки, охотничий инстинкт – все это у сучки, должно быть, давно сменилось размеренностью и рассудительностью.
На стоянке стояла машина с домиком-автоприцепом. И казалось, горячая волна, струящаяся от асфальта, приподняла машину и держит ее над землей.
"Омутсфорс – наверно, самое скучное место на свете", – подумал мальчик. Здесь люди просто живут, можно сказать, существуют… Вот мужчина в синих нейлоновых шортах, поблескивающих на солнце, с белыми галунами. На нем синяя рубашка с короткими рукавами, с белой оторочкой, и ноги у него тоже белые с синим узором вен – синяя рубашка вышла из лавки и направилась к автоприцепу.
Рядом с этим мужчиной шагала женщина в белых нейлоновых шортах, с голубой строчкой по краям, в белой блузке с рукавами "фонариком". На ее белых ляжках виднелись аппетитные ямочки. Оба – и мужчина, и женщина – были в белых шапочках с синими козырьками, отогнутыми вверх, так что ничто не мешало идущим смотреть в летнее небо. Для Эдвина было загадкой, зачем они вывернули козырьки, но убедительного ответа на этот вопрос он так и не нашел. В руках они несли пластиковые мешки, украшенные лежачими восьмерками.
Нахлынуло странное чувство: а не завладел ли кооператив всем Омутсфорсом, втиснув жизнь городка в свою синюю серию? Эдвин знал: стоит только отворить стеклянную дверь магазина, и он увидит полки, уставленнгле килограммовыми пакетами из водонепроницаемой коричневой бумаги, на которых синими буквами выведено слово: ЖИЗНЬ. Само собой, коричневыми мешками стали пользоваться по совету правления кооператива, находящегося в Стокгольме – надо же как-то считаться с требованием общественности о защите окружающей среды, особенно накануне выборов. А то ведь производство белых мешков – бумагу в таком случае нужно отбеливать – влечет за собой повышенные выбросы хлора…
– Господин и госпожа Свенссоны, потребители-обыватели! – презрительно буркнул мальчик, провожая взглядом сине-белую пару, уносящую свои мешки к автоприцепу.
"Такими мы с Соней не будем никогда! Мы нипочем не станем разъезжать в автоприцепе – с пеларгониями в окнах. Мы с ней махнем на Ривьеру, во Франции, или на залив Санта-Моника в Калифорнии, и будем ходить там под парусом", – подумал Эдвин.
Он улыбнулся своим мечтам. Он еще не знал, что неотступным спутником его жизни будет страх.
До последней точки его нынешнего почтового маршрута оставалось проделать несколько километров. Бледно-зеленый почтовый ящик, к которому он держал путь, стоял на отшибе, окруженный деревьями. От него тянулись, теряясь за елями, два следа автомобильных колес – только по этому можно было догадаться, что у ящика есть хозяева.
Таге Ольссон отнюдь не принадлежал к числу солидных клиентов Королевского почтового ведомства. Помимо газеты "Свенска дагбладет", зеленому ящику у лесной дороги изредка адресовалось какое-нибудь деловое письмо с обратным адресом. "Шведское общество пчеловодов" или "Европейская рабочая партия".
Хуторянин Ольссон был вообще человек неприметный. Он служил церковноприходским сторожем, и работа эта весьма его устраивала, особенно когда случались похороны. Был он вдобавок великий молчальник. Вроде бы живет на свете человек, а его не видно и не слышно. Только когда он орудовал в лесу электропилой, мог он устроить шум, но даже и тут шума не было, оттого что вырубка Ольссона тоже располагалась на отшибе от поселка.
Алиса, жена его, с вечной улыбкой на лице, считалась самой прилежной рукодельницей во всем Омутсфорсе. На ежегодных рождественских базарах, проводимых Церковным швейным союзом, никто не мог выставить столько работ, сколько она. Словом, Ольссоны были трудяги, которые пеклись только о своих делах и не совали нос в дела ближних, вдобавок, говаривали люди, у Алисы такое доброе сердце…
Проделать добрых два километра в гору, чтобы доставить адресату одну-единственную газету – такое любому почтальону, подрядившемуся заменить на лето штатного письмоносца, покажется тяжкой обузой, но Эдвин Ветру Наперекор всей душой влекся к конечной точке своего пути.
Выведя велосипед на шоссе, он перекинул ногу через раму, беглая гримаса исказила его лицо. Он стоя крутил педалями, держа путь к ближайшему взгорку.
Осенью он пойдет уже в девятый класс. А Соня – та на один класс его младше. Когда он думал о ней, у него щемило в груди; вот так же отчаянно сжалось у него сердце, когда весной нашел он на дороге свою мертвую кошку – ее задавила машина.
Образ Сони мгновенно вставал перед ним – стоило лишь этого захотеть. Мрачная тень, казалось, заслоняла ее глаза, в которых застыл какой-то немой вопрос. Глаза эти не хотели встречаться с его глазами, они бежали от них. Золотистые волосы Сони свисали ей на грудь длинными прямыми прядями. В неизменно влажных губах быстро размокали сигареты. Сплошь и рядом Соня сидела молча, погруженная в свои мысли. А Эдвина начинало трясти от волнения – он не понимал, за что она его наказывает, отчего молчит, когда он заговаривает с ней. Остро ощущал он свою ущербность. И тщетно пытался найти ответ на вопрос: ну почему она такая? Все, что он когда-либо ей говорил, как и все, что она прежде говорила ему, неустанно, раз за разом, проносилось у него в голове. Со всех сторон пытался он обмозговать эти слова, в поисках ключа к ее тайне. Неужто ей не понятно, что молчание больно ранит его? Как-то раз он не выдержал – прикрикнул на нее.
Она тут же бросилась бежать.
А уж как скверно сделалось у него на душе…
Он все копался в себе и не знал покоя. И ее он винил и себя самого.
А ведь у него не было на нее никаких прав. Он не мог назвать ее своей девушкой. И ни разу ее не поцеловал. Однажды он пытался ее обнять, но стоило ему прислонить голову к ее плечу, как она разрыдалась и убежала от него.
Эдвин стоя крутил педали, и всякий раз, когда он переносил тяжесть с одной ноги на другую, душераздирающе скрежетала велосипедная цепь.
Восемь месяцев минуло с тех пор, как он впервые повстречал Соню. Как всегда на перемене, он отсиживался за оградой дома Строительной компании – только здесь и можно было уединиться. Шел дождь.
Она подошла к нему – прямые длинные волосы закрывали ее лицо – и попросила у него прикурить.
Вдвоем они выкурили сигарету, затягиваясь поочередно, но почти не говорили друг с другом. Когда прозвенел звонок, они вместе побрели в школу.
Мальчик изо всех сил нажимал на педали. В канаве густо цвели придорожные розы. Цветки шиповника благоухали, как синтетический очиститель воздуха в приемной бумажной фабрики.
Они продолжали встречаться позади склада, где Строительная компания держала цемент и лесоматериалы. Запах креозота, каким пропитывали дерево, оседал в их одежде, покуда они молча сидели рядом и ждали, когда прозвонит школьный звонок. Всякий раз они приходили сюда, не обращая внимания на дождь. Два-три дня в феврале Соня не появлялась – слишком сильна была стужа.
– Эх ты, Эдвин Ветру Наперекор! Что нос повесил? Девушка-то не твоя! Ее право – делать на переменке что ей в голову взбредет! – говорил он себе в таких случаях.
Они с Соней были совсем разные – роднило их лишь одиночество.
– Я, знаешь, неразговорчива, – говорила она. – Одноклассники не любят меня за то, что я редко смеюсь.
Эдвин не возражал ей, но он же сам видел, что она не смотрит людям в глаза, да и вообще понимал: она из тех, кто обречен вечно служить козлом отпущения. Оба они – и он, и она – неудачники.
– Тихо, Эдвин Ветру Наперекор! Терпи, глотай обиду! – внушал он себе, когда мальчишки набрасывались сзади на Соню и тискали ее грудь, тогда как другие девчонки из ее класса стояли тут же и хихикали.
Уж слишком хорошо знал он правила игры – попытайся он прийти ей на помощь, ей бы только во много раз хуже стало от этого.
У него каменели мышцы, все тело ныло, когда он отворачивался, чтобы не видеть, как мучают и унижают ее. Когда вот так нападали на Соню, он страдал много больше, чем когда его одноклассники, как фашисты, издевались над ним самим. Почему же ее унижение терзает его больше собственного?
Как-то раз он спросил отца, зачем бог допустил, чтобы сын его единородный окончил свои дни в муках на кресте.
– В страдании всегда есть смысл, – отвечал отец.
Может, он прав? Необходимость постоянно покоряться другим наделила Эдвина важным и ценным даром, способным помочь ему достойно пройти жизненный путь, – яростной ненавистью к любым угнетателям, к любой власти.
Как-то раз он проводил ее до зеленого почтового ящика у лесной опушки и в тени деревьев взял за руку. Она не отняла руки. С тех пор они всегда встречались после уроков за складом Строительной компании. Тут они принимались ждать, и когда поблизости уже не оставалось ни одного школьника, вдвоем отправлялись к взгорку за кооперативной лавкой.
Внешне они казались полной противоположностью друг другу. Соня была рослая девочка и горбилась, силясь спрятать рано развившуюся грудь. Носила она по преимуществу джинсы, с дырками на коленках, и просторные кофты, связанные ее матерью. Ходила она всегда потупив взгляд.
– Какая чудесная погода нынче! – скажет он ей. Вот так прямо и скажет, без обиняков. Как хорошо, что нынче чудесный день, – ведь он такое намерен Соне сказать, что больше сродни синему небу и солнцу, чем серой хмари. Хорошая погода душу радует, – подумал он.
– Я люблю тебя, – скажет он ей, когда они присядут рядом для перекура.
Он не заглянет ей в глаза и не объявит ей это торжественно – что называется, прямо в лицо. Не поворачивая головы, он скажет это как бы между прочим, ровным будничным тоном. А после он устремит взгляд к горизонту. Как Берт Ланкастер в фильме "Отсюда – в вечность".
Итальянская киноактриса долго разглядывала сбоку Берта Ланкастера, а на берег между тем набегала волна за волной. Потом эта женщина растянулась в теплом песке, закрыв глаза и полураскрыв рот. Волны ласково омывали ее тело. И стало у них одно дыхание – у моря и у той женщины.
Но с Соней, должно быть, будет все по-другому? Может, она опустит глаза, вперив свой взгляд в землю? Или застынет на месте, не шевелясь, словно и не услышала его слов, а после возьмет его за руку, все так же не поднимая глаз? А может, попросту пошлет его к чертям?
– Я люблю тебя, Соня.
Раз за разом повторял он про себя эти слова. Пробовал их на вкус, качаясь над велосипедной рамой и крутя педали. Слова эти – все равно что спасательный жилет в бурной горной реке. Спасательный круг в водовороте бездны.
А все же это странные слова, нелепые. Может, он заблуждался, бог знает что вообразив о любви? Может, все не так, как он себе представлял? Вспомнилась брошюра про любовь, такие раздали им в школе за неделю до начала каникул. Учитель отвел два урока изучению этой роскошно изданной книжки, из которой Эдвин узнал, что он может умереть от любви. Смотрите, влюбленные, влажные поцелуи отставить! При сношении предохраняться от заражения! Любовь превратилась в свод технических правил, которые любящим надлежит выполнить, чтобы выжить. Вирусу СПИДа нет дела до того, что любовь молода. Никогда ничего не было лучше любви, теперь же она – не любовь, а страшная опасность. Любовь и смерть идут рука об руку. Время любви прошло. Но чем ее заменить?
Ящерица с оранжевым узором на шее бежала по песчаной дорожке. Сколько таких ящериц он видел нынешним бабьим летом! Скоро он уже будет у цели. У поросшей мхом каменной ограды, там, откуда на северо-запад тянулась межа, он должен был увидеть Соню.
Кусты можжевельника на отлогой вересковой поляне выстроились наподобие футболистов – защита, центр, нападение. Четверо, двое, четверо.
Соня обычно сидит на большом камне и швыряет камешками в почтовый ящик. Иной раз она каблуком чертит "классики" на усыпанной гравием дороге, а не то играет с ромашками, освобождая их "лица" от лепестков.
Случается, она без всякого смысла заплетает свои волосы в косички, которые тут же распускает. Посасывает длинные травинки, вдруг кидается помешать какому-нибудь муравью перебраться в свой муравейник на другой стороне дороги. Или еще – вырезает ножиком свистульки из рябиновых прутьев.
Почему она каждый день ждет у ограды? Четырнадцатилетние девочки не сидят у почтовых ящиков, дожидаясь, когда туда наконец опустят "Свенска дагбладет". Даже если отец посылает ее за газетой, ей все равно нет нужды день-деньской торчать у ограды. Может, только здесь ей удается выкурить сигарету? Но дома же ей все равно запрещают курить, и ничего, вроде бы обходится без курева в отсутствие друга. Нет, ясно, что Соня сидит у ограды только ради него, Эдвина. Она ждет его. Соня Ольссон плюс Эдвин Ветру Наперекор. Так-то вот.
Коль скоро он понял это, он должен в один прекрасный день собраться с духом и сказать те самые слова, которые так трудно вымолвить. Они поднимутся на взгорок, где цветут анютины глазки и львиный зев, и закурят, глядя вниз, на зеленый почтовый ящик, и тогда он бросит эти слова прямо в воздух, не глядя на Соню.
Иной раз его влекло к ней с такой силой, что больно щемило в груди. Случалось, когда он летел на своем велосипеде к зеленому ящику, тело его вдруг сводила судорога. И только тогда отпускала она его, когда на условленном месте он видел Соню. Поистине она стала частью его существа.
Но он-то, что значил он для нее?
Спросить ее об этом? Но она может ответить, что Эдвин Ветру Наперекор мало занимает ее мысли. Стало быть, спрашивать об этом нельзя. Можно ли задать подобный вопрос, если, услышав ответ, уже не захочешь жить? Нет уж, лучше не знать, есть ли у нее к нему чувство, лучше просто верить в это и ждать. Все относительно, – вычитал он в книгах. Коль скоро существует возможность, что Соня его полюбит, кто знает, может, так оно и будет?
А не то, Эйнштейн ведь что говорит?
Все относительно в этом мире. Если, к примеру, где-то глубоко в лесу рухнет дерево, то считать его рухнувшим можно лишь в случае, если кто-то об этом знает.
А все же чудно, что она нипочем не поднимет глаз, не взглянет на Эдвина, когда он наконец появится перед ней. Если бы Эдвину пришлось дожидаться ее, он встретил бы Соню улыбкой. Слышит же она, как он едет к ней? Гравий скрипит под колесами. Громыхает багажник. Но Соня нипочем не поднимает глаз, взгляд ее устремлен в матушку-землю.
Эдвин глубоко вздохнул и исступленно заработал ногами, взбираясь на последний пригорок, – мышцы вздрагивали и ныли вовсю, когда он его одолел.
– Вот это да…
Взвизгнуло заднее колесо. Переднее врезалось в гравий. Когда Эдвин затормозил, в воздух взметнулось облако пыли, которое поплыло над землей, а затем мягко осело на вересковом поле, где стояли можжевельники-футболисты. Он спрыгнул с велосипеда. Еле переводя дух, уставился на почтовый ящик. Кругом – тишина. На взгорке, куда они поднимались обычно, сейчас не было никого. Птицы и те умолкли. Стрекотали сверчки, в верхушках елей шелестел ветер, но Сони не было нигде.
– Тьфу ты черт, Соня…
Охваченный разочарованием, он запрокинул голову. Высоко-высоко в небе кружили над ним две большие хищные птицы… Эдвин мотнул головой, словно перед ним был калейдоскоп, – один толчок, и картина изменится. Почему же все-таки на обычном месте нет Сони? Может, нашлось поважнее дело, чем Эдвина дожидаться? Может, ей пришлось срочно уехать куда-то вместе с родителями? А может… может, ей попросту наскучило с ним встречаться?
Нервным движением руки он вытер рот и вскочил на велосипед. Стоя на педалях и притормаживая на ходу, он покатил вниз.
Мгновение он помедлил у почтового ящика, но вместо того, чтобы откинуть обитую толем деревянную крышку и бросить в щель газету, свернул на лесную дорогу.
Над ней нависали еловые своды. Ни солнце, ни ветер никогда не проникали сюда. В глубоких бороздах, оставшихся от тракторных колес, поблескивали темные зеркальные лужицы – осколки былых дождей.
Следы тракторных колес свидетельствовали: Таге Ольссон – добропорядочный и законопослушный шведский крестьянин; покорно следуя указаниям властей, он рубил свой лес, хотя цены на древесину по нынешним временам были и вовсе низкие. Судя по состоянию дороги, он проволочил по ней великое множество тяжелых стволов.
Недоброе предчувствие, робкое, как трепыханье крыльев бабочки, шевельнулось в душе Эдвина, когда вдали за полями показался дом Таге Ольссона.
По синему небу плыли легкие летние облака. Ветер буйно плясал над холмами, пригибая к земле траву, стебли растений. Нарочитый покой, разлитый в этой картине, не он ли встревожил мальчика? Или, может, необычный гомон? Дроздам и зябликам пришла пора токовать – они и чирикали всласть на яблонях Таге Ольссона. Но за птичьими голосами таилась стылая, немыслимая тишина. В саду на безупречно подстриженный газон осыпался белым снежным дождем яблоневый цвет.
Он слез с велосипеда у калитки.
Двери конюшни и хлева были распахнуты настежь. Во дворе перед домом стоял трактор – дизельное сердце его сейчас отдыхало. Кругом – ни звука, ни человеческих голосов не слышно, ни гуденья машин. Дома, что ли, нет никого?
Эдвин прислонил велосипед к раскрытой калитке и зашагал по дорожке, аккуратно выложенной гравием. Гравий, правда, был второсортный и оседал под ногами.
Эдвин остановился подле трактора, тронул рукой капот. Вроде бы он еще не остыл? Странную картину являл собой дом Таге Ольссона – смахивает на натюрморт? Будто все в нем похоронено заживо. Но вроде бы и время завтрака давно прошло?
И собака что-то не лает на гостя. Эдвин облизнул пересохшие губы.
– Эй! – крикнул он. Никакого ответа.
Растворено одно-единственное окно в верхнем этаже.
– Почту примите! Газету!
Никакого ответа. И не слышно собачьего лая.
Эдвин сплюнул на гравий и направился к веранде. Заслышав звуки его шагов, птицы в деревьях смолкли.
– Ольссон! Возьмите газету!
Размахивая газетой, он шагнул к крыльцу и вспугнул большую серую беременную кошку, которая грелась на солнце, растянувшись на лоскутном коврике у входа в дом.
Мигом вскочив на перила веранды, кошка примостилась в резьбе – между двух стилизованных лилий – и оттуда настороженно уставилась на Эдвина.
Лоскутный коврик у двери был свежевыстиран. Яркие краски зазывно сверкали на солнце. Эдвин выплюнул табачную жвачку и поднялся на крыльцо. Кошка соскочила с перил и принялась тереться об его ноги. Он нажал покрытую медной зеленью кнопку звонка на дверном косяке, выкрашенном белой масляной краской. Раздался долгий звонок. Словно бы в унисон ему зашипела кошка.
Звонок огласил весь дом. Но Эдвин не услышал шагов по ту сторону двери. И никто не крикнул ему: "Минуточку!"
Оглядевшись вокруг, он приложил ухо к двери. Расслышал лишь тихое щебетанье птиц, которых Ольссоны держали в клетке.
– Черт возьми, куда они все подевались?
Эдвин устало пожал плечами и стал нашаривать взглядом подходящее место, где бы оставить газету. Чтобы ее не сдуло ветром, он просунул ее в щель между дверью и косяком. Щелкнул дверной замок, и дверь медленно приоткрылась. Из кухни донеслось уютное щебетанье волнистого попугайчика.
– Эй! Кто-нибудь дома есть? – крикнул Эдвин, надеясь, что его услышат. И снова ответом ему было лишь щебетанье птиц.
– Почта пришла! Газета!
Застыв на месте, Эдвин облизывал пересохшие губы и напряженно прислушивался. Наконец, он решил оставить газету на стуле в прихожей, и тут ему вдруг померещился какой-то шорох в комнатах. Будто там шевельнулся кто-то. Будто кто-то царапался об пол.
Кусок блестящего паркета, стол темного дерева – вот и все, что открывалось взгляду мальчика. Темно-красная бархатная занавеска заслоняла пространство комнаты. В прихожей царил безупречный порядок. Каждая вещь – на своем мосте. Ботинки выстроены в ряд, словно на параде.
"Полный порядок у Ольссонов", – подумал он и тут снова услышал тот самый звук… Будто кто-то ногтями царапал по жесткому дереву…
– Есть кто-нибудь в доме? – крикнул он и вошел в прихожую. Часто, прерывисто задышал.
Из двери кухни на безупречный, выложенный "елочкой", паркет прихожей падал солнечный луч, сверкающей полосой отражаясь в зеркале у входа. На полке под зеркалом лежали платяная щетка и рожок для обуви. Пылинки, словно огненная мошкара, роились в потоке света.
Еще не знал он, что лишь секунды отделяют его от того мига, когда ужас навсегда вонзится в него безжалостными когтями. Всего пять шагов – и жуткая картина огневой раной опалит его мозг. И каждая мелочь со всей остротой навсегда отпечатается в его памяти. Сколько ночей он будет лежать без сна, дрожа и обливаясь холодным потом…
Мухи мирно жужжали на кухне, ярко освещенной утренним солнцем. Фру Ольссон была в нейлоновом халате, расцвеченном уютным узором – желтые ноготки на голубом фоне, в нем она обычно убирала квартиру. Широкобедрая, без чулок. Ступни в войлочных туфлях, в коричневую клетку, были неестественно вывернуты – Эдвину вспомнилась походка Чарли Чаплина.
Женщина лежала ничком, рухнув всем корпусом на мойку рядом с плитой. Одна рука прикрывала сковородку, стоявшую на плите, локтем она раздавила глазунью на той же сковороде. Лицо женщины упиралось в мойку. Подбородок и рот погрузились в воду. В серой воде плавали куски жира, остатки пищи.






