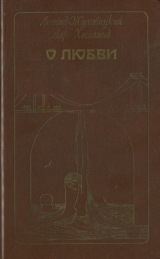
Текст книги "О любви"
Автор книги: Леонид Жуховицкий
Соавторы: Ларс Хесслинд
Жанр:
Рассказ
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 24 страниц)
– Водительские права, ваша милость.
Улыбка сошла у него с лица. Ирис взяла у Одда сумку. Вытащила бумажник и протянула полицейскому права.
– Шестьдесят шесть, одиннадцать, восемнадцать, пятьдесят, тринадцать.
Полицейский продиктовал ее номер в микрофон переносного радио.
– Ты сказал: пятьдесят, шестнадцать? – прохрипел голос из динамика.
– Нет, пять, ноль, один, три.
Из динамика послышался слабый треск.
– О’кей, все в порядке! – ответил голос.
– Зеленый свет, мое сердечко, – сказал полицейский уже без улыбки, возвращая Ирис ее права.
– Мы можем ехать? – спросила она.
– Не гони лошадей, сестренка. Дядя полицейский слишком устал от всего, что творится в Иванов день – пьянки, ругань, потасовки… И дядя полицейский в этом году подумал, что легче потушить искру, чем большой пожар. Поэтому мы сейчас проведем небольшой контроль жидкости, если так можно выразиться. Сколько спиртного молодая пара собирается влить в себя вечером?
Проговорил он все это шепотом. Полуприкрыв веки, он смотрел на Одда.
– Это наше личное дело. Тебя это не касается.
– Ты что, насмотрелся гангстерских фильмов по телевизору? Так не разговаривают с полицией в Швеции. Или мальчик важничает, изображая из себя умного братца, потому только, что девочка посадила его на массажный аппарат? Давай сюда сумку, парень!
Полицейский выхватил сумку. Роясь в ней, он цепким взглядом изучал Одда, подобно тому, как зверь следит за своей добычей. Кривая усмешка появилась у него на лице, когда он выловил бутылку с вином.
– Об этом дядя полицейский позаботится сам. – Он поставил бутылку на землю. – А сейчас посмотрим, нет ли у вас с собой еще каких-нибудь игрушек. Руки вверх и помаши солнышку, Тарзан!
Выражение лица полицейского выказало полное равнодушие к протестам Одда.
Одд поднял руки на высоту плеч. Полицейский ощупал его бока в поисках спрятанного оружия.
– Молодец! Все как полагается. Ты чист, как только что вымытая детская ж… А теперь очередь юной барышни.
Ручищи полицейского заскользили по кожаному комбинезону Ирис. Он не спешил. Похоже было, он нарочно медлил, прикасаясь к девичьему телу. Полицейский даже закрыл глаза.
– Скоро ты кончишь меня щупать?
Резкость в голосе Ирис заставила полицейского прекратить обыск. Правая рука полицейского задержалась на ее бедре. У самого лобка – ручища величиной с навозные вилы.
– Если это не устраивает твою милость, могу отвести тебя для полного обыска в участок, – спокойно сказал он, не убирая своих когтей с ее бедра.
От возмущения Одд судорожно задышал. Но страх перед полицией вынудил его промолчать. Ирис побледнела. Губы ее стали лиловыми.
– Вот теперь господа могут ехать. Бутылка останется у дяди полицейского. – Он снова отдал честь. Теперь по-настоящему элегантно. Вежливая дежурная улыбка снова появилась на его рябой физиономии.
– Вино выдержанное. Хорошо идет под рыбу, – сказала Ирис.
– Учтем. Приятного праздника!
– Уйди с дороги! – прошипела Ирис.
– Мы всего лишь выполняем свою работу, милочка. – Полицейский пожал плечами и беспомощно развел руками.
"Хонда" заворчала, когда они стали выбираться из полицейской ловушки. Они проехали мимо длинной вереницы автомобилей у обочины. Молодые люди, насупясь, стояли рядом со своими машинами, в которых полицейские искали спиртное. Розовый, как поросенок, сверкающий студебеккер стоял в очереди первым. Багажник был открыт. Четыре картонных ящика со спиртным и пивом стояли на дороге. Бритоголовый юнец, который мочился на едущих сзади, сидел сейчас на заднем сиденье полицейской машины. Нос его был расквашен, как перезрелый плод, упавший на землю. Из раны сочилась кровь. Зубы тоже были в крови, на подбородке кровь запеклась черными сгустками.
Спутники бритоголового лежали на животе, уткнувшись в придорожную пыль. Трое полицейских следили за ними. Никто из блюстителей порядка не намеревался шутить, на их лицах не было и тени улыбки. Одд догадался, что забавы "кожаных курток", должно быть, не совпадали с представлением полицейских о том, как следует развлекаться в канун Иванова дня.
Ирис свернула с шоссе и поехала по песчаной дорожке. Тень от высоких елей осеняла путников таинственным светом. Медленно, почти благоговейно, катились они по загадочному лесу, убежденные, что именно здесь перед одинокими путниками может возникнуть тролль.
Чары рассеялись, когда они выехали на дорогу, которая проходила мимо возделанных полей. Межи на крестьянских полях напоминали спицы колес. Дворняжка выскочила во взметнувшуюся пыль и залаяла, пытаясь прогнать "Хонду" со своей территории.
– Кажется, приехали!
Ирис остановила мотоцикл у покосившегося, гнилого, изъеденного насекомыми, деревянного помоста для молочных бидонов. Одд заметил, что на досках нет никаких надписей или вырезанных сердечек. Хотя помост стоял здесь, на краю дороги, должно быть, уже более ста лет и прямо-таки напрашивался, чтобы влюбленные или другие охотники расписываться на дереве вырезали на нем какие-нибудь слова.
Ирис вытащила из кармана комбинезона записку. Наморщив лоб, она стала рассматривать чертеж.
– Должно быть, вон та хибара!
Наполовину спрятанный в березовой роще, в зелени виднелся деревянный туристский домик. Черно-лиловую воду озера пересекал белый понтонный мост, который вел от другого, совсем уж маленького домика на берегу. Дачный участок окружал штакетник, сколоченный из поставленных наискось можжевеловых реек. Ухоженный, нарядный участок напоминал рекламную картинку из журнала "Уютный дом".
– Но они же меня не знают, – сказал Одд.
– Ничего! Мама мне как подруга. Надеюсь, ты не передумал, не сбежишь?
– Нет, черт возьми! Я рад, что ты взяла меня с собой.
– Хорошо, что ты поехал. А я ведь тоже не знакома с маминым другом!
– Ему может не понравиться, что я без приглашения врываюсь к нему в дом в канун Иванова дня.
– Ты мой гость, а я приглашена.
Когда они вошли через калитку в штакетнике, девушка взяла Одда за руку. Он приободрился.
– Ирис! Иди сюда! Мы здесь!
Крик донесся из хижины на берегу. Дым, шедший из трубы, дугой стелился над озером. Из маленького окошка высунулась белокурая голова и машущая рука.
– Мама, – сказала Ирис.
– А я и так догадался.
– Идите к нам купаться! – пригласила мать и снова закрыла окошко.
– Что, сдрейфил?
– Нет, черт возьми…
Стены раздевалки были обшиты панелью из сосны, скамьи – прибиты к стене. На нержавеющих крючках висели две пары шорт, блузка и рубашка. На одной из длинных скамеек под окном – пачка аккуратно сложенных махровых полотенец, белых и коричневых.
– Заходите и выпейте пива, – позвал мужской голос из бани.
Ирис пожала плечами. Кивнула Одду и сняла с себя комбинезон. Под ним ничего не было. При ней остались лишь легкий аромат духов, красные сапоги с высокими голенищами и трусики.
Одд напряженно разглядывал ель за окном, стараясь не смотреть на тело девушки, а сам тем временем расстегивал пуговицы на груди. Ему хотелось сказать что-нибудь светское, непринужденное, но он так ничего подходящего и не придумал. Он убеждал себя: ну что тут особенного – показаться в том, в чем тебя создал бог? Тем не менее ее обнаженная фигура в наступившей тишине все росла и росла, пока совсем не заполнила комнату. Когда она кончиками пальцев ноги стащила с себя сапоги, у него защипало в горле. А когда она, змейкой выскользнув из трусиков, бросила их на сосновую лавку, он ощутил на нёбе вязкую слюну.
– Заело? – улыбаясь спросила она и остановилась перед ним, чуть расставив ноги. Она подняла руки и взбила волосы.
– Ничего, все в порядке, – сказал он, пытаясь расстегнуть нижнюю пуговицу так, чтобы не дрожала рука. Тем не менее он видел краем глаза родинку на ее левой груди. Когда Ирис вздыхала или выдыхала, родинка напоминала колокольчик, колышущийся на ветру.
– Ты что, никогда не видал голой девушки? – спросила Ирис.
– С зелеными глазами – не видел.
Она прыснула. Показала ему язык и скрылась за дверью. Веселые голоса радостно приветствовали ее.
Он повесил джинсы на крючок рядом с комбинезоном Ирис и следом за ней вошел в баню.
Горячий воздух жег ноздри. От жара он начал моргать. Мать Ирис сидела на верхней полке под самым потолком. Потные плечи блестели в тусклом свете запотевшего окна. У нее были большие груди. Одна немного больше другой. Жестом истой вакханки она подняла в знак приветствия банку с пивом.
– Меня зовут Майкен. Я мать Ирис.
Женщина протянула ему свободную руку.
– Одд… Одд Экман.
Он поклонился ей и попытался, как мог, прикрыть свой стыд руками.
– Какая приятная неожиданность… Я думала, у Ирис только мотоциклы в голове, – сказала Майкен со значением и подмигнула ему.
– Не надо, мама, – попросила дочь.
Майкен засмеялась и отпила большой глоток пива.
Рот у нее был тоже большой. Пот жемчужинами растекался по лицу. Вероятно, ей чуть больше сорока. От солнца кожа ее стала желто-коричневой, и во всем ее облике не замечалось никаких следов увядания.
Он следил взглядом за капелькой пота, которая из лощинки между полушариями грудей бежала вниз по слегка округленному животу, пока не исчезла в густой тени между бедрами.
– Меня зовут Руне. – Мужчина, сидевший рядом с Майкен, протянул Одду руку. Нервно сжал ладонь гостя. Рука его была волосатой, черные волосы взмокли от пота и слиплись. Он не смотрел Одду в глаза. Казалось, он не хотел обнаружить свое "Я". Волосы на груди, животе, бедрах свалялись в клочья от пота. Крупные плечи и руки, черные от волос. Квадратная грудь. Щеки скрыты черной бородой. Одду показалось, что человек рад был бы спрятаться за своим волосяным покровом.
– Подложи, иначе сожжешь кожу, – сказал он, протягивая Одду полотенце.
– Вот пиво, Одд, – Ирис достала банку из ящика-холодильника.
Он увидел, что жар размыл тушь на ее ресницах и прорисовал черный узор у нее на щеке.
Одд бросил полотенце на лавку и сел рядом с девушкой. При этом он слегка задел ее плечом. Несмотря на жар в бане, прикосновение обожгло Одда. Беспокойный пульс забился у него в паху. Он открыл банку и стал пить. Крепко зажмурился, заставляя себя думать о футболе.
Возникшее в воображении зеленое поле и льющееся в глотку холодное пиво помогли ему обуздать желание, так что никто не мог догадаться о бунте, происходившем у него внутри.
Банный жар охватил его. Поры кожи раскрылись. От пота щипало глаза. Термометр на стене показывал 110 градусов по Цельсию. Ему, не привычному к бане, становилось все труднее дышать. Ирис же чувствовала себя прекрасно.
Чтобы не показаться слабаком, он решил еще немного побыть в изнуряющей жаре чистилища.
Руне плеснул ковш воды на большие камни над камином с дровами. Вода отпрянула от горячего гранита.
Пар с шипением взвился к потолку. Затем стал оседать, щипать Одда за щеки. Слепой от жара, он ринулся вон из раскаленной камеры добровольных пыток. Плечом толкнул дверь раздевалки. Словно разъяренный бык, бросился на понтонный мост. Стремглав кинулся в воду.
Ледяная вода озера зубастой пастью сомкнулась над его головой. Водяные токи холодными плетками стегали его разгоряченное тело. Кожу жгло и щипало. Фыркая и плескаясь, он вынырнул на поверхность, чтобы перевести дыхание.
Ирис легкими шажками бежала по мосту. Смеясь, она солдатиком спрыгнула в воду рядом с Оддом. Когда она проскользнула в воде мимо него, он почувствовал прикосновение ее груди. Это мимолетное прикосновение напугало его. Она – дьявол, – что хочет, то и делает, на остальное – плевать. Хищная птица, которая легко может разорвать его на части. И сожрать, кусок за куском. Но не это страшило его: что-то такое творилось у него в душе, чего он не понимал. Что-то зловещее. Могучий соблазн, от близости Ирис крепнущий с каждым мигом: он и сам жаждал, чтобы она разорвала его на части.
После купания все загорали на солнце. Лежали на мосту и пили пиво. Руне заговорил о налоговой политике губернского правления. О некоем пухленьком ревизоре по фамилии Якобссон. У Якобссона очки с толстыми стеклами, и он разъезжал по округе на машине. А на заднем сиденье были разбросаны сырные хлопья.
В течение трех месяцев этот раскормленный близорукий налоговый шпион, подосланный губернским правлением, строго проверял счета Руне и его брата в их слесарной мастерской. Потом наугад назначил каждому налог-штраф в семьдесят восемь тысяч.
Не имея возможности заплатить несправедливый налоговый сбор, брат Руне с отчаяния запил. Не в силах выносить все эти нескончаемые придирки, писанину и прочую бюрократическую возню, он повесился на ремне. Место для этого он избрал с умыслом и все совершил с профессиональным мастерством, крепко привязав второй конец ремня к трубе под потолком в подвале губернского правления. Доктор сказал, что самоубийство – результат депрессии.
Но Руне считал, что агенты губернского правления, обладая правом уничтожать мелкие предприятия, просто провели удачную операцию. Якобссон добился блестящего результата. Руне слышал, что Правление решило повысить его в должности. (Несмотря на то, что суд признал сумму налоговых платежей неправильной, а братьев – ни в чем не виновными.) В общем замысел шпиона удался, один мелкий предприниматель приказал долго жить, а его уцелевший компаньон – совсем без сил.
– Вместо того, чтобы прочищать трубы, я в течение полугода отвечал на бесчисленные вопросы властей, полные дерьма, – сказал Руне. Он походил на усталого бульдога.
– Кажется, я забыла в городе сметану к селедке, – сказала Майкен.
– То, что устроили в Швеции в тысяча девятьсот восемьдесят четвертом году, убило моего брата, – сказал Руне.
– А что устроили? – спросила Ирис и поболтала ногами.
– Да такое, чего нет ни в одной стране мира, чему и название придумать трудно. Правительство социал-демократов схватило шведов за горло, приняв в риксдаге фантастическое решение, что по таким налоговым делам обвиняемый сам должен доказывать свою невиновность. С этого замечательного для шведской истории года любой Свенссон с супругой должны доказывать, что они не нарушали налоговый закон. Во всех других странах, наоборот, чиновники, занимающиеся налоговым обложением, должны сначала доказать, что такой-то гражданин совершил преступление против закона – только тогда считается, что преступление имело место. Именно эта поправка в шведском законе убила брата. Волосы дыбом встают на голове, стоит только задуматься об этом. Социал-демократы угробили вместе с братом шведское государство! Чтоб они пропали!
– Вот теперь я вспомнила, что поставила сметану на холод, – сказала Майкен. Одд рассеянно прислушивался к рассказу про налоговые страсти, притворяясь, будто задремал, но когда на него никто не смотрел, украдкой ласкал взглядом тело Ирис.
После купания все вместе накрывали стол в березовой роще. Селедка, сметана, мелко нарезанный зеленый лук, только что сваренная свежая картошка, два сорта холодной, как лед, водки (Сконе и очищенная), хлеб, крепкое пиво, кофе, коньяк, клубника и взбитые сливки. На середину стола Майкен поставила глиняный кувшин с желтыми лютиками. Ирис сияла как летнее небо. Ее тонкое светло-голубое платье из хлопка расширялось книзу. Обнаженные плечи, на талии широкий белый пояс подчеркивали мягкую округлость груди. Все ели, разговаривали, смеялись, пили и снова пили. Руне быстро захмелел и кричал, что убьет налогового ревизора, когда вернется в город. Через некоторое время Майкен извинилась перед гостем и повела слесаря в дом. Вечер стоял светлый, как день. Птичий щебет сливался с ругательствами Руне, которые доносились из дома.
– А вот моему старику и другим больным не дадут ни селедки, ни свежей картошки в канун Иванова дня, – сказал Одд.
– Да и водки двух сортов тоже, – сказала Ирис.
– Вот только сознают ли это старики, что нынче Иванов день? – закончил Одд свою мысль.
По звукам, доносившимся из дома, можно было догадаться, что Руне рвет.
– Начинается… Пошли в парк, – сказала Ирис.
Теперь дневной свет уже немного померк. Каменные заборы походили на янтарные. Серебряная рожь на поле учтиво кивала колосьями. Ирис собирала маргаритки, васильки, потом сплела из них венок и надела себе на голову. Шутливо сделала несколько танцевальных па по траве. Закружилась в танце так, что легкое платье вскинулось вокруг бедер. Она была так красива, что казалась прозрачной на свету, сливаясь с цветами на летнем лугу. Свежая, желанная и недоступная, как девушки в рекламных фильмах компании "Кока-кола".
Ромашки, колокольчики, красный клевер, душистый горошек… Может, старика порадовали бы полевые цветы в вазе рядом с его креслом? Но заметил ли бы он вообще эти цветы? Запах цветов, во всяком случае, приглушил бы запах мочи. Но, может, при виде цветов старик стал бы больше тосковать по жизни?
Кружилась, кружилась и вдруг резко оборвала свое порханье.
– А ты, наверно, чокнутый, – сказала она.
– Это почему же?
– Ты такой серьезный.
– Я думаю о живых мертвецах, – сказал он.
– Разве бывают живые мертвецы?
– Мой отец – такой…
– Сколько можно твердить про отца? – Ирис закатила глаза.
– Плевать мне на старика… чтоб ты знала.
– Тебе и на меня плевать?
– Нет.
– Если так, – что я тебе? – спросила она.
Она завела руки за спину и смотрела на него как бы со стороны, прищурившись. Из парка доносились звуки электрогитар. Они шли рядом, а гитары пели песню "Белее бледного". Ни быстро, ни медленно. В канун Иванова дня. Летний луг не принял их, но и не гнал.
Одд хотел сказать: ни одна девушка еще не нравилась мне так, как ты… И как только ты, студентка университета и владелица "Хонды" объемом в тысячу кубиков, согласилась провести Иванов день с жалким работягой с фабрики Розенгрена по производству сейфов? Ты так хороша. А я совсем одинок в этом мире. Никто не любит меня. Одна только мать любила меня. Но когда ты со мной, я уже не чувствую себя одиноким. Спасибо тебе – твоими усилиями головная боль отпустила меня. Я затосковал по тебе, взаправду затосковал. Я хотел бы любить тебя на лугу среди цветов, хотел бы полюбить тебя не только на время. С тобой вдвоем отправиться в долгий путь. Все это он хотел высказать ей.
Но ей никто не нужен, у нее есть "Хонда". И он не привык делиться своими чувствами с другими. И потому он молчал…
Покажется ли он ей чудаком, если скажет что-нибудь другое, хотя, в сущности, то же самое? Поймет ли она его? Он все думал, думал, молчание становилось гнетущим. Ирис смотрела на него, лукаво улыбаясь.
– А знаешь, что одно-единственное короткое словечко навсегда привязало Джона Леннона к Йоко Оно? – спросил он тихо.
– Нет… Какое слово?
– На своем вернисаже Йоко Оно выставила художественное произведение – лестницу, которая вела к потолку.
– Художественное произведение?.. Лестницу?
– Под потолком над лестницей она прикрепила увеличительное стекло. Когда Джон Леннон пришел на выставку, он взобрался на лестницу. Через увеличительное стекло он увидел то, что Йоко Оно написала на потолке. Одно-единственное короткое словечко так заворожило его, что ему захотелось прожить жизнь вместе с художницей. Слово, изменившее его судьбу.
– Какое же это слово? – с любопытством спросила она.
– "Да".
– И все?
– Этого Джону Леннону было довольно… И я понимаю его, – сказал Одд.
– А я нет. Дура она – твоя Йоко Оно, – сказала Ирис. – А нам-то с тобой что за дело до этой истории?
– Когда я встретил тебя в больнице… я почувствовал, кажется, то же, что и Джон Леннон, – тихо сказал он.
– Гоп-ля! И теперь мы с тобой должны вместе прожить всю жизнь? – Ирис покачала головой и снисходительно улыбнулась.
– Этого я не говорил.
– Конечно же, ты чокнутый, – сказала Ирис. Она захохотала. И побежала к вершине холма. Венок из цветов упал с ее головы. Она и не подумала его поднять. Одд сплюнул в траву, он уже жалел о сказанном. Голова заболела снова.
Пастбище, спускающееся вниз к парку, временно стало палаточным городком. Юнцы, празднующие Иванов день, захватили все поле. Между палатками стояли сотни разных машин и мотоциклов. Целлофановые пакеты, бутылки из-под спиртного, банки из-под пива и кока-колы, одеяла, одежда, спальные мешки, остатки еды, бумажные пакеты, раскрученная туалетная бумага, стереоаппаратура, пустые ящики, – все было разбросано вокруг, будто после пожара. Одуревшие юнцы валялись между машинами. Они барахтались в собственной рвоте, их одежда была перепачкана блевотиной. Вокруг безжизненных тел роились мухи. Вся эта картина напомнила Одду телекадры резни в лагере беженцев Шатила в окрестностях Бейрута. Многие палатки обрушились.
Белые трясогузки прогуливались, помахивая хвостиками, вокруг спящих и клевали рвоту. Всюду мертвецкий покой. И хаос.
– Бедняги, – сказал он.
– Сами виноваты. Сами себе устроили это веселье, – Ирис пожала плечами.
– Может, и так.
Она засмеялась.
– Тебе и правда их жалко? – удивленно спросила она.
– Мне тяжело видеть, как люди страдают, – сказал он тихо.
– Уж не родственник ли ты Иисусу Христу? – спросила она с наигранным удивлением.
Ее алые губы изогнулись в насмешливой улыбке. Одд мгновенно вспыхнул от гнева, вызванного ее заносчивостью. Еще ребенком он на всю жизнь невзлюбил всякую властность и, стало быть, – угнетателей. Ее высокомерие разозлило его. Она казалась недоступной. Но при этом еще более желанной. И красивой.
Он шагнул к ней. Властно привлек ее к себе. Крепко поцеловал в губы. Губы были неподвижны. Тело – напряжено. Потом губы стали мягче, словно после спазма. Тело расслабилось. Она бегло ответила на его поцелуй и на миг всем своим мягким телом прильнула к нему. Он почувствовал слабую дрожь ее мышц, прежде чем она вырвалась из его рук.
– Так ты еще и насильник? – спросила она с улыбкой.
– Нет, набивщик диатомита на фабрике Розенгрена по производству сейфов.
Она засмеялась и поправила платье. Самоуверенность ее исчезла.
Она посмотрела на палаточный городок.
– Ты мог бы выбрать более романтичное место для своей атаки, – сказала она с легким упреком.
– Прости… Но ты была так хороша.
– У тебя, наверно, винтиков не хватает, – сказала она, покачав головой, и пошла вниз к парку.
Подвыпившая молодежь вокруг танцплощадки кричала и хлопала в ладоши в такт музыки. Длинноволосые музыканты ансамбля, одетые в пастельных тонов майки и черные, блестящие брюки, исторгали рок-н-ролл из своих хриплых глоток с помощью микрофона системы ПА, установленного на максимальную громкость. Английские тексты их песен сопровождались воем соло-гитар, стуком аккомпанирующих гитар и барабанным боем.
На площадке топали ногами и извивались в ритме жаркой музыки танцующие.
Роспись стен вокруг сцены, на которой находились музыканты, изображала демонстрацию под развевающимися красными знаменами, рабочих, которые швыряли бревна в деревянную пасть целлюлозной фабрики, женщин, стоящих у текстильных станков. Эти наивные мотивы из истории рабочего класса, ныне такие же архаичные, как и наскальная живопись, должны были напоминать людям, что народный парк когда-то был чем-то вроде храма, культовым местом, где бедняки удовлетворяли свою потребность в собственной культуре, что дарило им жизненную силу, чувство гордости и волю к борьбе за свои нрава.
Музыка оглушала. Одд чувствовал, как звук отдается у него в теле. Музыка безрадостная. Конечно же, он любил рок-музыку. Франк Заппа. Чикаго. Брюс Спрингстен. Ульф Лунделл. Дире Стрейтс… Но картина на сцене напомнила ему о старике. В танцующих, которые вихлялись в пьяном чаду в такт барабанному бою, он вдруг увидел потерянное поколение. И сам он тоже – один из них.
– Мне здесь не нравится, – сказала Ирис во время музыкальной паузы, как будто она прочла его мысли.
– Куда ты хочешь пойти? – спросил он.
– В Иванову ночь, – ответила она.
Птицы, сбитые с толку светлой ночью, продолжали, словно днем, выводить свои мелодии в листве деревьев. Ирис и Одд медленно спускались к озеру. Солнечные лучи, за день нагревшие землю, и красные гранитные плиты на берегу возвращали ночи накопленное за день тепло.
– Хочу заночевать здесь, – сказала Ирис.
– Здесь, на берегу озера?.. – удивился Одд.
– В канун Иванова дня нужно спать под открытым небом. – Она легла на спину в мягкую траву.
– У тебя на платье будут пятна от травы, – сказал он.
– Иванов день без пятен на платье – не настоящий Иванов день, – сказала она с улыбкой. – Ложись рядом.
Одд лег на спину. Он увидел, как на фоне светло-розового небесного купола летит стрекоза. Вдалеке прокричал нырок.
Он лежал так близко от девушки, что касался ее плечом. Мучительная головная боль постепенно утихала.
Само ощущение, что она рядом, было целительно. Его снова властно влекло к ней. Он повернулся к девушке. Ее влажные губы были чуть приоткрыты. Она не отодвинулась, когда он наклонился к ней и поцеловал. И не сдвинулась с места. Он осязал ее мягкое тело, казалось, кожа к коже. Она ровно дышала, и он чувствовал ее теплое дыхание на своей щеке. Но ее губы не ответили его губам. Она вяло уклонилась от поцелуя. Он поднял голову и взглянул на нее. Она открыла глаза, и он увидел, как в них блеснули слезы.
– Прости, что я веду себя так глупо, – сказала она.
– А в чем твоя глупость? – спросил он голосом, невнятным от волнения.
– Ты не поймешь, – глухо проговорила она.
– Я чем-то обидел тебя?
– Ты здесь ни при чем. Ты ничем меня не обидел. Что-то мешает мне. Я ношу это в себе с детства.
– Что же это?
– Страх.
– Меня не надо бояться, – сказал Одд, напряженно улыбаясь.
– Не тебя я боюсь. Когда я была маленькой, отец издевался над мамой. Часто избивал ее до полусмерти, так что ей приходилось лечиться в больнице. Он заставлял меня смотреть на это, чтобы я поняла: перечить ему нельзя. Каждый раз я думала, что вот сейчас мы с мамой умрем. Что-то во мне сжимается при одном приближении мужчины. Мы с мамой жили в постоянном страхе перед отцом. Когда мне было двенадцать лет, мы сбежали от него в Гетеборг. Мама развелась с ним, и мы начали новую жизнь.
– Я же не хочу обидеть тебя, – растерянно произнес он.
– Не о том речь. Ты мне нравишься. Ты никак не повинен в моих переживаниях. А все же…
Она не закончила фразу. Какой-то шорох в соседних кустах заставил ее быстро вскочить. Высокая худая девушка с распущенными черными волосами вылезла из-за кустов. На ней были поношенная куртка и грязные джинсы с красными заплатками. На коленях брюки порвались. Тушь ручьями бежала по ее запавшим щекам, губы распухли. Подбородок весь был в губной помаде. Из уголка рта тянулась полоска запекшейся крови.
– Можно мне посидеть с вами? – спросила она. Голос был слабый, она задыхалась, видно, бежала. Ее руки дрожали.
– Конечно… садись, – сказала Ирис.
– Я удрала от своего парня, – сказала она и достала мятую пачку сигарет из кармана. Вытащила сигарету и щелкнула зажигалкой.
– Зачем? – спросил Одд.
– Я долго танцевала с его приятелем, – сказала она и глубоко затянулась. – За это он ударил меня по лицу. Будете курить?
Ирис взяла сигарету. Одд отрицательно покачал головой.
Девушке на вид лет семнадцать. Или, может, шестнадцать? Было видно, что она грызет ногти.
– Ты боишься его? – спросила Ирис.
– Когда он напьется и разозлится, он может убить меня, – сказала девушка.
– Со странным парнем ты встречаешься, – заметил Одд.
– Встречаешься, – глухо повторила девушка безо всякого выражения. – Встречаешься… Он пользуется мной.
– Сейчас он гонится за тобой?
– Нет, я убежала от него. Я, должно быть, бродила в лесу больше часа, пока не набрела на вас. Я устала.
– Ложись и отдыхай, – сказала Ирис.
– Не уходите только, если я засну, – испуганно попросила девушка, в голосе был страх.
– Нет, мы тебя не оставим, – сказала Ирис.
Девушка легла рядом с ней, свернувшись калачиком.
Одд взглянул на Ирис. Она пожала плечами и снова легла на спину. Одд выдернул длинную травинку и засунул ее в рот. Он устал. Устал от бесконечных загадок. Устал с кем-то считаться. Устал оттого, что против воли вынужден сторожить в ночь на Иванов день заблудившуюся девушку-подростка. Он видел, что девушка придвинулась к Ирис. Она взяла ее за руку. Он почувствовал себя лишним.
– Я устал, – сказал он.
– Ложись и отдохни, – сказала Ирис.
– Нет, я пойду прогуляюсь, – ответил он.
– Ты обиделся? – спросила она.
– Нет, просто я совсем одинок, – ответил он.
– Но мы же здесь, – сказала Ирис.
– Я тебе не нужен. Что может эта девчонка, чего не могу я? – спросил он.
Ирис лежала спокойно, глядя в небо.
– Она может быть мне сестрой, – сказала она.
Девушка расплакалась.
– Я не собиралась портить вам праздник, – всхлипывала она.
Ирис обняла ее за плечи.
– Ничего ты не испортила.
– Всего хорошего, – сказал Одд.
Девушка положила голову на плечо к Ирис, как только Одд отошел от них.
В голове у него застучало.
– Не уходи, Одд! – крикнула ему Ирис.
Но он бросился бежать от этих девушек, лежавших в траве. Он бежал как безумный, словно пытаясь убежать от самого себя, от своего одиночества. Каждый шаг отдавался у него в голове. Ветви кустов рвали одежду, в кровь исхлестывали лицо. Он бежал вдоль берега к летнему домику Руне. Туфли хлюпали по воде, но он не замечал этого. Разочарование обратилось в гнев. Одиночество, сознание, что у него нет ни одного близкого человека, – все это переплавилось в ненависть. Не каменный же он в самом деле! А человек из плоти и крови, как и все живые люди. Что она вообразила, эта чертова студентка? Что можно над ним издеваться? Что он все стерпит? А ведь он ничем не хуже ее!
– Чертова кукла! – прошипел он сквозь сжатые зубы. – Зачем ты приволокла меня сюда? Чтоб ты пропала!
Последний отрезок пути к дому Руне он мчался как бешеный. Остановился, чуть не падая от усталости. Повалился на штакетник из можжевеловых реек. Вздохнул полной грудью.
– Я покажу тебе! Я не игрушка, которой ты или мой чертов старик можете вертеть, как угодно! – простонал он.
Он открыл калитку. Ключ торчал в замке зажигания "Хонды".
Рывком он отогнал мотоцикл с места стоянки. Повел его по дороге, пока не отошел от дома на несколько сот метров. Повернул ключ зажигания. Мотор заработал. Он влез на сиденье. Включил первую скорость. Отпустил сцепление. "Хонда" рванулась. Одд покачнулся и чуть было не свалился. Включил вторую скорость. Плавно отпустил сцепление. Прибавил газ. "Хонда" вела себя отлично. Скорость увеличилась. Он поехал ровнее. Убавил газ. Включил третью скорость. Ночной ветер трепал его волосы. Скоро он был уже на шоссе.
– Сейчас ты расплатишься за все бессонные ночи, старик! Твой сын явится с визитом, когда ты меньше всего этого ожидаешь. Разнообразия ради прямо посреди ночи!.. Надеюсь, ты не возражаешь? Ведь мы с мамой не возражали, когда ты пьяным являлся домой! Помнишь? Мучитель слабоумный! – закричал он в ночь.
Звук мотора и шум езды поглотили его крик. Он дал максимальный газ. Одд засмеялся, но в душе он рыдал. "Хонда" быстро набирала скорость. Стрелка спидометра дрожала на отметке 160. Неожиданно дорога круто изогнулась влево. Мотоцикл стремительно приближался к повороту.






