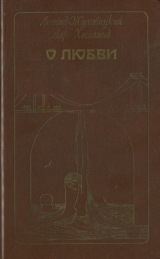
Текст книги "О любви"
Автор книги: Леонид Жуховицкий
Соавторы: Ларс Хесслинд
Жанр:
Рассказ
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 24 страниц)
А зима оказалась тяжелой. Долго, около месяца, мороз держался возле тридцати, ветер хлестал почти непрерывно.
Близкий мне человек лежал тогда в больнице, на другом конце города. А меня, как назло, свалил паршивейший вирусный грипп.
Я валялся в постели, обросший, измотанный, словно весь пропитавшийся гриппозной гнилью. Из носу текло, голова болела. Я даже не поднимал с пола осколки оброненного градусника.
И вдруг – звонок в дверь.
Поднимаюсь, кое-как поправляю пижаму.
Лестничная площадка выстужена, окна в подъезде обледенели, снизу от дверей ползет мороз. И вот из этой холодины и неприютности – Ленкин нос картошкой, малиновые щеки, старенький цигейковый воротник…
Толстая от кофты на свитер, болтает какую-то чушь, улыбается, сует мне два яблока и шахматный листок – ведь запомнила, что увлекаюсь.
Есть люди, от одного присутствия которых жить лучше…
Градусник вымела. Хотела платки постирать – я не дал.
– А Наталья как? – спрашивает так весело, будто Наталья не в больнице, а в оперетту пошла.
И почему-то становится спокойнее. Ну, болен, ну Наталья больна. Так выздоровеем же! В конце концов, если уж болеешь – и это делать надо с удовольствием. Вот партию Таля разобрать – подробно, с вариантами. Когда еще будет на это время!
А Ленка рассказывает театральные сплетни и просто сплетни – вот умница! Когда голова чужая, ни читать, ни писать – сплетни вполне диетическая духовная пища.
Порылась в холодильнике, что-то нашла, нарезала, разложила красиво на тарелочках – вышел легкий завтрак из трех блюд. И все это – рта не закрывая.
А потом надевает свою кофту на свитер, с трудом влезает в пальто, сразу становясь толстой. Я даю ей три рубля, говорю номер палаты. И по морозной, гриппозной Москве едет Елена с пакетом апельсинов на другой конец города, в больницу…
Не сочувствовала, не ободряла – просто болтала глупости.
Я тогда долго болел, многие навещали. А запомнилась четко, до мелочей – она…
Опять подошла весна. Елена стала готовиться на театроведческий.
Поступать туда полагалось со своими работами. Конкурс, экзамены – это уже потом.
И снова Ленка заколебалась: что писать, как писать, да и надо ли поступать вообще.
И опять я стал ее уговаривать, увлекся, сам поверил в свои педагогические похвалы и в конце концов придумал такого оригинального и мудрого театрального критика, что самому завидно стало. На этой волне вдохновения я и продиктовал Елене ее первую статью, полную таких сверкающих идей, что и слепой бы углядел в девчонке нового Кугеля. За эту статью мою приятельницу и отсеяли на творческом конкурсе.
Какой-то решающий член приемной комиссии строго выговорил нестандартной абитуриентке за ее взгляды на театр, сомнительные и безответственные. А насчет формы заметил, что она небезынтересна, но несомненно откуда-то списана.
Как можно списать форму отдельно от содержания, он не объяснил, а Елена, подавленная его суровым тоном, не спросила.
Впрочем, и спроси она – что изменилось бы?
Так и не взяли нас с ней в театроведы.
И опять по Ленкиному лицу мне показалось, что огорчил ее вовсе не провал, а лишь процедура провала. Во всяком случае, к дверям театрального зала она вернулась без всякой горечи, пожалуй, даже с облегчением.
К этому времени я стал получше понимать ее необычную любовь к театру. Раньше, как и все ее знакомые, принимал за данность: любит – значит, должна чего-нибудь хотеть. Теперь же понял, а может, просто привык: она вот такая. Любит – и все. И вполне ей этого достаточно…
Примерно в это время случился у Елены первый – всерьез – парень.
Он был молодой инженер, способный и с перспективами – по крайней мере, так поняла Ленка с его слов. Он подошел к ней в антракте, о чем-то заговорил. Потом еще несколько раз встретились.
Сперва парень пробовал хвастаться. Это впечатления не произвело, к успехам ближних Елена всегда была равнодушна. Но он, к чести своей, быстро сориентировавшись, стал жаловаться. Тут парень попал в самую точку. Ленка сразу же, будто только того и ждала, взяла его тяготы на себя и принялась жалеть своего инженера как умела, а потом – как он хотел.
Он же жалел ее мало и очень быстро стал относиться пренебрежительно, потому что себя ценил по перспективам, а в ней видел, что есть – билетерша с десятилеткой, только и всего.
Спустя месяц, может чуть больше, он ее бросил.
Девчонка рассказывала об этом не столько с болью, сколько с неловкостью. Неловко ей было за него: уж очень некрасиво он все это организовал. Позвал к приятелю на вечеринку, туда же привел молчаливую и розовую, как семга, девицу и стал громко распространяться, как после вечеринки они с семгой поедут на дачу, и как там никого нет, и какая там мягкая постель… Все это при Ленке и для Ленки.
– Ну зачем он так? – спрашивала она, глядя мне в глаза. – Неужели не мог просто сказать – и все? Я же ничего от него не требовала, не собиралась его удерживать… Зачем ему нужна была эта пошлость?
Я молчал. Зачем люди делают друг другу гадости?
– Если бы он был дурак… – начала Елена и остановилась.
Я сказал:
– Давай-ка разок поговорим серьезно.
Она не ответила, даже не кивнула. Но по безропотному ее лицу чувствовалось: сама поняла, что что-то в судьбе ее на исходе, хочешь не хочешь, пришла пора для новых жизненных усилий.
Мы пошли в парк, подальше, где не было людей.
Кончался август. Лист на липах держался крепко, но река за ночь холодала, и купающихся мальчишек стало заметно меньше. По реке ходили редкие лодки, с высоты обрыва они казались почти неподвижными.
– Ну что, брат, – сказал я ей, – пожила в свое удовольствие, а теперь надо что-то решать. Это ведь первый звонок. А может, и не первый.
Она отозвалась:
– Ты про эту историю?
Я возразил:
– Не только. Когда ты виделась с девчонками в последний раз?
– К Женьке ездила на той неделе…
– Погоди, – перебил я, – а она к тебе когда заходила?
Елена пожала плечами.
– А другие когда?
– Анюта приходит.
– Кроме Анюты?
Она промолчала.
– У тебя работа не хуже других, – сказал я, – мне она просто нравится. Денег мало – черт с ними, с деньгами. Но ты должна решить: это то, чего ты хочешь? Ведь сейчас ты – девочка после школы, любящая театр. А пройдет года три-четыре, и ты будешь просто билетерша со стажем. Это не страшно и не плохо. Но ты хочешь именно этого?
Она снова не ответила. Лицо у нее было подавленное.
Я жалел Елену, но и злился на нее. Я злился, что нет у нее элементарной жизненной цепкости, что вот позволила парню бросить себя так подло, что от подруг отстала на житейской лесенке и все дальше отстает…
– Девчонки от тебя уйдут, – сказал я, – уже уходят. Анюта останется. Я останусь. Все! В театре ты больше года, а кто у тебя есть? Кто звонил, когда ты болела? Одна Оля.
Оля была тоже билетерша, ее напарница.
– С Анютой тоже стало не то, – вдруг призналась Ленка и поморщилась, как от боли. – Мы, конечно, видимся, она ко мне приходит, но говорим только о ней.
– Естественно, – пожал плечами я. – У нее есть новости, а у тебя нет.
По тропинке, пересекающей нашу, пробежала спортсменка, некрасивая плотная девушка лет двадцати двух, в потной майке и старых тренировочных рейтузах, отвисших на заду. Она даже не повернула к нам свое раскрасневшееся сосредоточенное лицо. Но мы остановились, пропустили бегунью и посмотрели вслед, отдавая должное ее целеустремленности.
Она не походила на Милку, но чем-то напоминала ее.
– Ты пойми, – сказал я Елене, – мне твоя работа действительно нравится. Да для меня вообще лучше, чтобы ты там оставалась: о билетах не надо заботиться. Но вот ты подумай: этот твой инженер, конечно, ничтожество, жалеть о нем смешно, но пошел бы он на свое тупое хамство, если бы ты была не билетершей, а, скажем, студенткой театрального?
Она, помедлив, проговорила неуверенно:
– Может, я сама его чем-нибудь обидела?
Я взорвался:
– Да плюнешь ты наконец на это барахло? Тебя что, его психология волнует? Нашла в чем копаться!
То ли я ее убедил, то ли мой окрик отбил у нее охоту об этом разговаривать, но больше Ленка свою первую любовь при мне не поминала…
А теперь, вороша ту, давнюю историю, я вдруг сам задумался: за что же он ее так?
И знаете, ведь, пожалуй, у инженера с перспективами причина была.
Ленка не сделала ему ничего плохого и тем самым не дала никакого повода бросить себя красиво. А раз уж все равно некрасиво, так хоть душу отвести.
К тому же была надежда, что, столкнувшись с розовой девицей, Елена сорвется, нахамит и тем самым оправдает предстоящую процедуру. Но она обороняться не стала. И малый сам сорвался – стал юродствовать и пошлить. Видно, и раньше Ленка здорово его мучила своим непротивлением злу…
Мы с ней тогда гуляли довольно долго.
Она понуро молчала, и мне в конце концов стало стыдно – совсем затюкал девчонку. Я попытался поднять ей настроение, принялся говорить, что все это не так страшно, что решать можно и потом, спешки нет, да и вообще я могу ошибаться…
Ленка вдруг проговорила с едкой обидой – никогда раньше я у нее не слышал этот тон:
– От нас ушел старший администратор, Валерий Николаевич. В академический ушел – там на шестьдесят рублей больше платят. А ведь был хороший человек, болел за театр… Но даже не в этом дело. Ты знаешь, о нем сейчас много говорят – почти все одобряют. Театр там ужасный. Но раз на шестьдесят рублей больше – значит, правильно сделал.
– Это – жизнь, – сказал я.
– Но ведь они все время говорили о бескорыстии, о настоящем искусстве. Да и сейчас говорят.
– Актеры же не уходят, – возразил я.
– У них – слава, – невесело усмехнулась Елена.
Я сказал:
– Знаешь, старуха, пошли-ка в кафе-мороженое.
Мы пошли в окраинное кафе, пустое днем, взяли два фирменных мороженых «космос в шоколаде», и я, как всегда увлекаясь, стал фантазировать на тему возможных Ленкиных профессий. Я перебирал варианты, и один выходил заманчивей другого.
Но она слушала невнимательно.
Мы поели, и я проводил ее на метро.
Вскоре в Ленкиной судьбе произошло еще одно переломное событие: она ушла из театра.
Была она не актриса, даже не бутафорша, и оформилось все это с какой-то тоскливой простотой. Подала заявление, его подписали. В положенный день не вышла на работу. У двери зала появилась другая девочка.
Только и делов.
Молодой знаменитый театр на потерю не реагировал, потому что ее не заметил.
Осталась ли память о Елене на первой ее службе?
Кое-кто помнил. Еще года два я проникал в этот театр по Ленкиной протекции: у нее оставались связи на уровне уборщиц и билетерш. Потом и эти ручейки усохли…
Недавно, этим летом, я познакомился с одной из ее бывших подруг-актрис – той, что звала девчонку «мой пудель».
За прошедшие семь или восемь лет актриса стала большим зрелым мастером, приобрела прочную, честную славу, даже звание получила. Впрочем, сама ее фамилия уже довольно давно стала как бы персональным почетным званием.
Я ей напомнил про Елену.
Разговор был ночной, в гостиничном номере, в небольшом городке, куда театр приехал на гастроли. На столе, накрытом газетой, лежала пачка чая, в гладком казенном стакане трудился проволочный актрисин кипятильник. А сама она, худая, усталая, в очках, сидела в халатике и вязала.
Она проговорила:
– Да, да, да… Лена?.. Да… Да… Это когда было?
Я стал перечислять спектакли и разные случаи из жизни актрисы, хорошие и тягостные, – они четко помнились с Ленкиных слов.
– Да, да, да, – повторяла актриса, но в глазах ее и позе не было ничего, кроме недоумения.
– А ведь она вас очень любила, – обидевшись за Елену, укорил я.
С актрисой мы были едва знакомы, говорили по-настоящему в первый раз, и никакого права на претензии я не имел. Но, видимо, сработал инстинкт зависимости от зрителя, и актриса, вместо того чтобы послать меня к черту, сыграла этюд на тему «воспоминание». То есть подняла глаза к потолку, наморщила лоб, сосредоточилась, помедлила и просветлела:
– Да, да, да. Вспоминаю. Помню, помню, ну как же… Да, да, да.
Ничего-то она не помнила.
– Потеряли вы своего пуделя, – сказал я угрюмо, что было совсем уж неприлично и несправедливо.
Да, потеряла. Но ведь вся ее жизнь была цепочкой потерь. Она теряла здоровье на ночных репетициях, теряла свежесть кожи, калеча ее ежевечерним гримом, теряла зрение под театральными прожекторами, теряла молодость, теряла друзей, на которых не хватало времени, теряла любимых и любящих, на которых не хватало внутренних сил. Зато на сцене была велика и становилась все надежней и глубже – к своим тридцати пяти годам сделалась одной из лучших актрис в стране…
Что делать, искусство забирает у человека слишком много, лишь остатки отдавая собственно жизни: не хватает на два потока единственной души. Причем если добрый, тонкий человек сер в стихах или музыке, мы же его потихоньку и презираем. Зато другой могуч в творчестве, а в жизни, увы, приходится подхалтуривать.
Говорят, некоторых достает на все – и на человеческие отношения, и на искусство. Я таких богатырей, пожалуй, не встречал. Но если есть они – дай им бог!..
Но это я уже далеко ушел от Елены.
Так вот, распив с двумя другими билетершами и девочкой из бухгалтерии бутылку сухого вина, Ленка распростилась с театром.
А затем в ней заработал какой-то таившийся до времени резервный моторчик.
И недели не прошло, она уже работала на телестудии помощником режиссера. А еще через месяц поступила там же, на студии, на курсы ассистентов – служба рангом повыше. И все это без колебаний, без былой своей нерешительности, ни с кем не советуясь и не обсуждая столь существенные в жизни шаги.
Мало того – Елена пристроилась в одну из редакций внештатным ретушером, что давало ей в месяц дополнительно рублей двадцать, очень и очень не лишних.
Сторонившаяся прежде житейской сутолоки, без зависти пропускавшая вперед более целеустремленных, она вдруг словно проснулась и бросилась догонять преуспевших сверстников, и подруг своих в том числе.
Взыграло ли в ней самолюбие?
Наверное, и это сказалось, но лишь самую малость.
Главные причины были куда более земные.
Елена и раньше жила небогато. В старом доме у Пионерских прудов у них с матерью имелись две трети большой комнаты. Оставшуюся треть, отгороженную шкафами и занавесками, занимал бывший муж матери, Ленкин отец – чуть не написал я «бывший отец».
Впрочем, пожалуй, так было бы верней. И отцом он стал бывшим – некогда хороший портной, истаскавшийся по ателье, по халтуркам, по женщинам, по закусочным, по квартирам. Теперь это был пенсионер, семидесятилетний благодушный полуалкоголик, лицо которого – и нос, и впалые неряшливые щеки, и в маразматической улыбке губы, и легким безумием поблескивающие глаза – все было в красных пятнах и прожилках.
Видно, когда-то он был обаятелен, и стиль поведения сложился соответственный. С годами обаяние ушло, остались лишь манеры обаятельного человека, выглядевшие гротескно и почти непристойно.
Теперь он гордился взрослой дочерью.
Она же за время его отлучек – последняя длилась восемь лет – совсем отвыкла от родителя и не испытывала к отцу ни любви, ни нелюбви, а только немного брезгливую жалость да чувство неудобства оттого, что рядом за занавеской живет чужой, неопрятный и добродушно назойливый старый человек.
Мать у Елены прежде работала в больнице медсестрой. Здоровье ее и раньше подводило. В последние же годы совсем расхворалась и вынуждена была уйти на инвалидность. Пенсия ей вышла маленькая.
Вот и пришлось девятнадцатилетней девочке стать в доме хозяином и главой.
Теперь и она была занята, видеться мы стали редко.
Перезванивались, правда, довольно регулярно. Раза два в месяц дребезжал у меня телефон, и утробный женский бас приглашал уважаемого писателя на творческую встречу с акушерами Кунцевского района или на читательскую конференцию в московский цирк. Голос Ленка меняла здорово. Обычно я ее все же узнавал, иногда не узнавал, но в любом случае, конечно, соглашался, только ставил условие: чтобы в цирк и обратно меня доставили на такси или, в крайнем случае, на слоне.
Манеры Елена, в основном, сохранила прежние, веселые. Но при встречах замечалось, как она замоталась, посерьезнела и, к сожалению, потускнела, как тускнеем все мы, попав в беличье колесо неизбежной бытовой суеты. Бежим, торопимся – и все по кругу, по кругу…
Даже в лице Елены появилась какая-то озабоченность, словно бы застывшая торопливость – и туда успеть, и там не опоздать. Ее волосы по-прежнему лохматились, но на пуделя она больше не походила. Теперь она почему-то напоминала мне пони, неприхотливую и невзрачную лошаденку, которую так легко принять за коротконогого жеребенка – да вот тянет она всю жизнь, как взрослая лошадь! Посмотрите хоть в зоопарке: на одном кругу одинаковые повозки, облепленные детьми, тащит и высоченный верблюд, и эта коротышка. Жизнь, увы, на малорослость скидок не делает…
Еще тогда, в парке, я пообещал Елене – я у тебя останусь.
А ведь тоже не остался.
Начались у меня неприятности, не так тяжелые, как затяжные. Но сперва-то я не знал, что они затяжные, и стал довольно энергично бороться. Все остальное временно отложил, и Ленку в том числе. Вот к понедельнику утрясу свои дела – тогда и увидимся…
Но проходил понедельник за понедельником, дела не утрясались, неудача наслаивалась на неудачу, пока я наконец не задал себе простой вопрос.
Ну вот я борюсь, а если бы не боролся – тогда что?
И сам себе ответил: а ничего. То же самое и было бы. Ни хуже, ни лучше. Времени бы свободного больше осталось.
Тогда я решил, что это – полоса.
В принципе, полоса – понятие туманное. Но все же что-то такое в человеческой жизни существует. Даже в пословице отражено. Пришла беда – отворяй ворота.
Если разобраться, пожалуй, никакой тут мистики нет.
Ведь может так случиться: две-три неудачи подряд. Само по себе оно не страшно. Но человек, живое существо, внутренне начинает настраиваться на неудачу. Пропадает уверенность в себе. Да и сослуживцы начинают осторожничать: раз человеку не везет, значит, есть какая-то причина. И там, где прежде помогали, теперь предпочитают подождать.
Вот и еще несколько неудач.
Тут уж и приятели послабей потихоньку начинают сторониться: несчастливость – штука заразная.
И все. Началась полоса.
Зато пройдет время – и вдруг все меняется.
То ли кто-то не знал про полосу и помог. То ли знал, но все равно помог. То ли в равнодушных коллегах совесть пробудилась, и просто кто-то громко сказал:
– Что же это мы человека-то упускаем?
И как раньше во имя самосохранения было лучше неудачнику не помогать, так теперь становится лучше – помогать.
Глядишь – и пошла новая полоса, полоса везения…
К сожалению, цепь своих неудач я признал полосой с большим опозданием, так что много времени и сил ушло зря. И все это время – больше года – я с Ленкой не виделся.
Сперва откладывал на неделю, потом не хотел взваливать на нее свое дурное настроение, взвинченность и суетливость. А там уж стало не так важно, пять месяцев не видеться, или восемь, или год.
Но вот в минуту просветления я понял, что давно уже идет полоса, успокоился на этом, и жизнь опять обрела разные свои краски и цвета. Ведь глупо злиться на зиму за то, что она не лето. Да и в зиме есть свои прелести.
Короче, я бросил суетиться, начал регулярно писать, благо звонки из редакций и театров от стола почти не отрывали. Сразу и время высвободилось – на книги, на друзей, на все, что раньше откладывал.
Тут во мне проснулась совесть, и я позвонил Елене.
Мы встретились в центре, и я повел ее в кафе-мороженое.
Так уж вышло, что Ленка к выпивке всегда была равнодушна, да и я по этой части не профессионал, и наши с ней загулы обычно ограничивались двумя стаканами сладкой газировки и несколькими шариками клубничного или крем-брюле.
Стоял ноябрь, снег выпадал и таял. По крыши заляпанные легковушки смиряли скорость на скользком асфальте – все же у перекрестка нас обдало липкой грязью. Ленка основательно чертыхнулась, и это было для меня новым – раньше она на плевки фортуны реагировала женственней.
На этот раз мы пошли в хорошее, модное кафе, где у входа всегда болтался хоть маленький, да хвостик, а в зале над головой что-то висело и шевелилось: это «что-то», пристроенное под потолком, было, вероятно, мобилем, современным видом скульптуры, благородной абстракцией, рассчитанной на ценителя и знатока.
Мы с Еленой сели чуть поодаль, чтобы мобиль, хоть и легкий на вид, не мог нам непосредственно угрожать.
– Ну как ты? – спросил я. С чего-то ведь надо было начинать.
– Ничего, – сказала она довольно равнодушно. – А у тебя налаживается?
Я пожал плечами:
– Да как посмотреть.
– Я слышала, – кивнула она, – мне Анюта рассказывала.
Издательскими моими делами она поинтересовалась бегло, без воодушевления, и в этом была своя истина. Конечно, важно, хвалят меня или ругают, печатают или воздерживаются. Но ведь есть вещи и позначительней: хорошо пишется или средне, здоров или так себе, любят меня или нет.
Официантка принесла алюминиевые вазочки с мороженым – в золотистом абрикосовом сиропе плавали мягкие белые шары.
Ленка ела не спеша и вообще была спокойна, но не так, как два года назад, когда работала в театре и была счастлива этим. Я не сразу уловил разницу, но потом все же понял – с лица ее ушла постоянная улыбка. Теперь она улыбалась только когда улыбалась.
– С Анютой часто видитесь?
Она немного подумала:
– В общем, да.
– Ты все там же?
Она ответила, что все там же, на телевидении. И ретушью все так же подрабатывает. А еще время от времени пишет заметки в молодежную газету – и заработок, и практика. Если будет поступать на факультет журналистики – пригодится.
– Так ты решила на журналистику?
– Да, на телевизионное отделение, на заочное, – сказала она так буднично, что стало ясно: это не мечта и не высокая цель, а просто логическая ступенька вверх от нынешней ее работы, вроде капитанского звания для старшего лейтенанта.
Она была в простых, магазинных джинсах и какой-то курточке – обычной деловой одежде молодых женщин, не слишком озабоченных внешностью. Правда, в нарядном я ее вообще не помнил – может, потому, что и праздничное платье на ней казалось бы деловым. Есть люди вполне симпатичные, а порой и красивые, но не годящиеся для праздника, как те же пони для парада.
Она повзрослела, пожалуй, не так уж и намного. Но и этого хватило, чтобы сквозь забавную девчоночью мордочку начало проступать озабоченное женское лицо. Мне она все равно нравилась, но что я! Для меня Ленка всякая была хороша. Да ведь не в моей же оценке она нуждалась…
– Ну и кого же ты теперь любишь? – спросил я полушуткой, чтобы и она при желании могла отшутиться.
И действительно, Елена, как в прежние наши встречи, стала представлять: вытянула шею, сентиментально, со стоном, вздохнула и подняла глаза к мобилю.
Но тут же махнула рукой и бросила буднично, как о поступлении в институт:
– Был один парень.
Потом все же рассказала подробно.
Малый этот был студент из станкоиструментального, старше ее на два года, бабник, любитель выпить и порядочный хам. Учился он неряшливо и держался в институте в основном спортом: прыгал в длину по первому разряду и неплохо играл в футбол.
Ленку возле себя он не более чем терпел. Однако ей как будто и того хватало – было кому стирать рубашки и чьи неурядицы переживать.
Но постепенно парень все больше распоясывался, мучил девчонку, даже бил и хотел бросить. Но она попросила еще хоть на месяц оставить все как есть. Малый, подумав, согласился, мучил ее еще месяц и только потом бросил насовсем.
Рассказывала она об этом спокойно, ровным голосом, не жалуясь и не хвастаясь, а как бы просто информируя: вот так, мол, я жила.
А я смотрел на Елену и думал: ведь выросла моя лилипутка. Совсем взрослой женщиной стала – и любит, и мучается, и находит в этих мучениях удовольствие…
Я спросил, как у нее дома.
Оказалось – не ахти.
Полгода назад умер отец. Рассказывая про это, она его жалела, но так, как пожалела бы соседка. Мать совсем разболелась – сердце. Так что теперь дома Елена одна за все.
Правда, есть и хорошая новость: завела щенка. Личность симпатичная, хотя и неизвестной породы, полушпиц, полу еще кто-то, по имени Федот.
Мы помолчали, и я покивал головой: мол, понятно. Мне хотелось сказать Ленке что-нибудь человеческое, успокоить, что ли. Но она и так была спокойна. Поэтому я только спросил:
– Хочешь еще мороженого?
– Да нет, – сказала она, – хватит.
– А чего-нибудь хочешь?
Она немного подумала:
– Да нет, пожалуй.
Так и не удалось мне ее как следует накормить.
В кафе мы пробыли недолго – съели свое мороженое, выпили газировку и ушли. Зато потом прогулялись: я ее проводил до Пионерских прудов, и еще там покружили по переулкам.
Она сперва держала меня под руку, но затем отпустила: внутренние ритмы наши никак не могли совпасть, и на походке это сказывалось.
Елена неторопливо и как-то равнодушно переступала с ноги на ногу. Она казалась мне вялой и почему-то сутулой, хотя не сутулилась и даже голову не опускала. Просто взгляд у нее сделался… коротким, что ли, – он не уходил далеко, словно в двадцати метрах от подошв уже ничего не могло ее заинтересовать.
– Надоела слякоть, – сказала она, и мы немного поговорили о слякоти.
Я никак не мог освоиться с этой новой, взрослой женщиной. Слишком я привык быть с ней старшим и, по вечной нашей слабости, учить ее на собственном богатом опыте. А теперь жизнь ее и помяла и закалила, у нее появился свой опыт, ничуть не слаще моего. И я не только не мог угадать, что с ней будет, но не знал даже, чего она хочет и чего я хочу, чтобы с ней было.
И только медленно подкатывалась тоска, что человек такой близкий отошел уже далеко и все отходит, отходит…
– В театры-то выбираешься? – спросил я.
Она сказала, что редко, и это меня не удивило – мне и раньше казалось, что театр интересовал ее не как зрелище, а как нуждающийся в помощи организм.
В переулках тоже было слякотно, но тихо, без машин, и мы шли не озираясь. Кое-где ветхие домишки рушили, они покорно стояли в дощатых загонах, как старые кони, обреченные на убой.
– Вас-то ломать не собираются?
– Наверное, – поморщившись, отозвалась Елена. – Или перестроят. Все равно будут выселять.
– Куда?
– Под Каширу, – сказала она.
Так мы дошли до ее дома, а потом она проводила меня до метро.
– Ты никуда не опаздываешь? – спросил я эту новую выросшую Ленку – у прежней времени всегда было вдоволь.
– А-а! – бросила она и махнула рукой, из чего стало ясно, что вообще-то опаздывает, но один раз можно.
И тут я вдруг понял, что мы с ней расстаемся надолго, может, очень надолго. А если их вдруг сломают и переселят в Бирюлево или Медведково, тогда вообще можем увидеться случайно лет через пять. Перезваниваться, конечно, будем, но что они, эти звонки! Вот так годами люди висят на разных концах провода, говорят фразы, создают видимость общения и не знают, что уже давно потеряли друг друга.
Тогда я заторопился и уже без всяких предисловий и подходов, примитивно и прямолинейно стал проталкиваться к сегодняшней Ленкиной сути, к ее желаниям и планам на дальнейшее.
– Но почему именно журналистика? – стал спрашивать я. – Ты хочешь стать журналистом? Хочешь писать?
Она пожала плечами:
– Может, редактором.
– Тебе это нравится? – допытывался я.
Она посмотрела на меня с сомнением, как смотрела раньше, когда еще верила в мои советы.
– Ну а куда?
– Мало ли профессий!.. Я не против журналистики, я просто хочу понять…
Она сказала без интонации:
– Куда-то ведь поступать надо.
Я кивнул – меня тоже гипнотизировало это «надо».
– Поступать, конечно, нужно… Вот смотри. Раньше ты любила театр. Работаешь на телевидении – в общем, ведь тоже нравится? Так почему бы тебе, например, не стать телевизионным режиссером? Кстати, тоже по профилю, как телевизионная журналистика.
Она поморщилась:
– Нет, режиссером, – не то…
– Но ты ведь говорила, что ассистентом режиссера тебе нравилось?
– Ассистентом – другое дело, – сказала она.
Я возмутился:
– Но ведь режиссером-то интересней! По крайней мере работа творческая. Режиссер все-таки…
Тут я замолчал – потому что до меня вдруг дошло то, что, по идее, должно было дойти уже давно, три с половиной года назад. А именно – что ассистентом быть интереснее, чем режиссером, и помрежем интереснее, и билетершей интереснее, чем актрисой, и не поступить в институт интереснее, чем поступить. Потому что Елена – это не я, не Анюта, не Милка и не Женька, а именно Елена, с ее глазами и носом, с ее характером и редким врожденным даром – помогать.
Ведь, если разобраться, именно это и было ее призванием – помогать. И не так уж важно кому: театру, или актрисе, или режиссеру на телевидении, или мне, когда я болел, или Милке, когда она готовилась в институт…
Потом меня довольно долго мучила совесть. Не испортили ли все мы – а я особенно – Ленке жизнь? С каким тупым упорством мы толкали девчонку к хорошему – то есть к тому, что хорошо для нас. И ведь как отпихивалась, как уклонялась, как не хотела поступать в институт, не хотела становиться на ступеньку эскалатора, ползущего вверх, к общепринятому успеху – успеху, совершенно не нужному ей.
Мы гнали ее к самостоятельности, к творчеству, и все не туда, куда звал ее сильный врожденный дар – помогать. А из нее, может, вышел бы первоклассный редактор, или референт, или гениальная секретарша, помощница, о какой только мечтать. Но такая возможность мне раньше в голову не приходила. В секретарше мы привыкли к другому: губки, ножки, ноготки…
Мы дошли до метро и остановились.
– Давай хоть изредка-то видеться, – попросил я Ленку.
Она, как прежде, стала кривляться:
– Да надо бы, конечно. Но разве найдется у знаменитого писателя время на такую ничтожную…
Она съежилась и как бы приникла к земле.
Все же были в ней актерские способности! Могла бы стать характерной не хуже десятков других. Видимо, не хватало чисто человеческих качеств: эгоизма и той дубовой уверенности в своем праве, которая помогает сперва драться за место в училище, потом – за внимание педагога, а дальше – за роль, за прессу, за репутацию и, ближе к финалу, – за то, чтобы выкатиться на пенсию в звании заслуженного…
Я двумя руками взял Елену за воротник и серьезно посмотрел ей в глаза:
– Хоть раз-то в месяц давай? Как на работу. А то ведь совсем раззнакомимся.
На том и договорились: видеться раз в месяц.
Встретились мы с ней через год.
И тогда бы, наверное, не увиделись, да позвонила Анюта, сказала, что у Ленки день рождения, что она никого не звала, и поэтому есть идея просто взять и прийти.
Мне идея понравилась. Я только спросил, кто еще собирается нагрянуть.
Анюта ответила, что намыливалась Милка со своим мальчиком.
Это мне тоже понравилось, потому что Милку я не видел давно, еще со школьных ее времен, и интересно было глянуть, во что она выросла.






