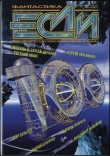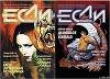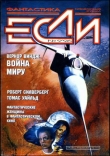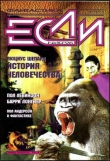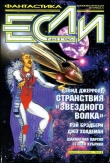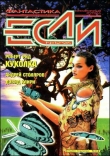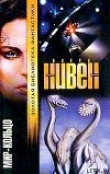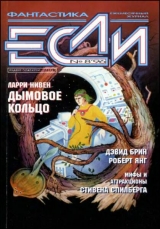
Текст книги "«Если», 1996 № 08"
Автор книги: Ларри Нивен
Соавторы: Дэвид Брин,Роберт Франклин Янг,Эдуард Геворкян,Мишель Демют,Сергей Ениколопов,Борис Силкин
Жанр:
Научная фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 20 страниц)
Сергей Ениколопов,
кандидат психологических наук
МЕНЯТЬСЯ ИЛИ МЕНЯТЬ МИР?
*********************************************************************************************
Известно, что человек – самая адаптационная «система».
А действительно, представим: в конце XIX века в атмосфере Земли было зафиксировано 28 % кислорода, теперь же —18 %. Добавим к этому кислотные дожди, существенно возросший радиационный фон, изгаженную природу. Впору мутировать, подобно героям Л. Нивена. Но ничего – выживаем!
Правда, социальная адаптация требует от нас гораздо больших жертв, хотя по этому поводу не проводит акции «Green Peace» и экологи не бьют в колокола…
Мы растем, учимся, выбираем профессию, заводим друзей, семью, обживаем свой дом и вступаем в сложные взаимоотношения с сотнями людей, преследуя при этом свои цели и решая (более или менее успешно) возникающие проблемы. Из этого, собственно, состоит жизнь: любой из нас стремится к «гармонии с окружающей средой».
Быть адаптированным – все равно что быть здоровым или, скажем, дышать: на это состояние специально не. обращаешь внимания. «Все системы функционируют нормально», – как рапортовали космонавты. Любая возникшая проблема, физическая или моральная, которая воспринимается как препятствие, включает механизм адаптации.
Классический чеховский рассказ «Хамелеон» проходят в средней школе. На уроках биологии изучают и настоящих хамелеонов с их особенностью менять окраску в зависимости от окружающей среды. Механизм адаптации изначально биологический: «приспособление строений и функций организма, его органов и клеток к условиям среды». Без этого та или иная популяция просто не выжила бы в меняющемся мире.
С человеком дело обстоит сложнее, ведь наши регулятивные возможности на порядок выше, чем у животных.
Существует бихевиориальная теория адаптации, объясняющая действия человека чисто поведенчески (грубо говоря, «дают – бери, а бьют – беги»). Есть интеракционистская теория, то есть теория межличностных взаимодействий, где субъект имеет дело с символами, действует в символическом пространстве. Эти теории (при том, что они не противоречат друг другу), кажутся мне одинаково ограниченными. Большая часть психологов даже не отождествляет адаптацию человека с приспособлением. Под вторым понятием чаще подразумевают достаточно пассивное поведение. Адаптация же требует активности.
Как может поступить человек, столкнувшись с неким препятствием? Возьмем бытовую ситуацию: кто-то живет в коммунальной квартире и не ладит с шумными, бесцеремонными соседями.
Он может либо отгородиться от них, укрепив дверь, обзавестись звукоизоляцией – либо начать себя вести в точности, как они. Или прекратить всякое общение, не обращать на них внимания и заниматься своими делами, или подыскать вариант обмена.
Это три основные модели процесса адаптации:
– изменять внешнюю среду;
– изменять себя;
– искать новую среду существования.
Два первых пути доступны только человеку (животное может разве что впасть в спячку). Вот чем адаптация отличается от приспособления: приспособиться в данном случае означало бы затаиться и терпеть, надеясь, что все как-нибудь образуется.
Если человек голоден – он лезет в холодильник или идет в магазин; холодно – можно одеться потеплее или включить обогреватель; предстоит экзамен – надо заниматься или писать шпаргалки; не устраивает работа – искать новую, и т. д., и т. п. Биология, как легко заметить, играет здесь роль ограничителя, нижнего барьера возможностей. Если никакого холодильника и магазина нет, человек остается один на один со своими биологическими параметрами: без воды и возможности раздобыть ее продержится пару дней, без еды – месяц, без шпаргалок может рассчитывать исключительно на свою память… Цивилизация в этом смысле – расширение возможностей адаптации.
Механизм адаптации «запускают» препятствия, ограничения, требующие безотлагательного решения. Как именно будет решаться та или иная проблема, зависит от многого: от опыта, личного и профессионального, от социального контекста, от того, что человек привык считать стабильностью. Понятно, что в экстремальной ситуации реакция человека, столкнувшегося с ней впервые в жизни (например, ставшего свидетелем преступления), будет резко отличаться от реакции профессионала, для которого это рутина; действия верующего христианина разнятся от поступков атеиста…
Что же такое воспитание? По сути, это адаптация человека к тем социальным условиям, в которых ему предстоит жить (или родители думают, что предстоит). От года до двадцати будущий член общества проходит этапы социализации, когда он начинает сознавать себя как часть сообщества и воспринимать его нормы.
В социализацию входит буквально все: скажем, понимание того, что человек должен быть одетым, а не голым. С возрастом «правила игры» усложняются – человек усваивает, что на работу надо одеваться определенным образом, на дачу – по-другому, в театре нельзя появиться в тапочках, и так далее. Этапы социализации человек должен пройти буквально во всех областях жизни: допустим, принадлежность к определенному народу. Маленький ребенок не делает этих различий, воспринимая все и вся как должное. Житель такого города, как Нью-Йорк, где черная, белая, желтая раса сосуществуют долгое время, вырастает с этим чувством. Но если житель Урюпинска в Зрелые годы впервые увидел негра – это может произвести на него сильное впечатление…
Сам социум может быть неадекватным, например, пуританским. И человек, воспитанный в духе многочисленных запретов и ограничений, в какой-то момент открывает для себя, что, несмотря на «мерзость плоти», о которой ему столько говорили, дети все же родятся, а мужчины и женщины любят друг друга. И такой человек придумывает для себя объяснение, адаптируясь к новому знанию, находя компромисс с собственными внутренними ограничителями. Скажем, игнорируя принцип удовольствия, утверждает, что он женится только по хозяйственной необходимости и для продолжения рода.
Другой пример: человек не может бить человека. Тем более – убить. Но начинается война, и мирный любящий сын, муж и отец становится беспощадным врагом, непримиримым бойцом. Социальные нормы сдвигаются, и это позволяет массе людей, настроенных скорее пацифистски, адаптироваться к ситуации неизбежного убийства.
«Двойной стандарт» присутствует и во многих боевиках, скажем, со Шварценеггером, герои которого часто нежные, чадолюбивые и в то же время очень «крутые» противники.
Итак, препятствие можно преодолеть, разрушить или вообще проигнорировать. Один из способов достичь желаемого – активность. Положим, при нехватке денег не экономить изо всех сил, а искать способы заработать. Поскольку в России бедность стала социальной проблемой, к слову скажу, что уныние старшего поколения – не настроение, а реальная проблема, так как возможности для активного поиска выхода у них существенно сужены.
Иногда преодоление реального препятствия перерождается в самоцель; в этом случае говорят о гиперактивности, гиперкомпенсации. Есть масса историй о знаменитых спортсменах, чемпионах, которых впервые привели в тренировочный зал, чтобы поправить здоровье хилого ребенка. Занимаясь спортом, человек начинал жить этим: дальше! выше! быстрее! И добивался выдающихся результатов.
Тем не менее «гипер» означает «больше, чем необходимо». Человек хотел улучшить плохую память, а в результате приложенных усилий стал выступать в роли «феномена», запоминающего бессмысленные ряды цифр или слов, и теперь он живет ради этого, строго дозирует еду – употребляет фосфор, витамины и прочее, по часам отдыхает… Гиперкомпенсация тоже не приводит к адекватности.
Не так мало людей, которые корректируют окружающее с помощью собственной агрессивности. Набить оппоненту морду в качестве весомого аргумента (а потом спросить: «Ну, теперь тебе все ясно?!») – тоже форма адаптации.
И, наконец, такая форма адаптации психологического механизма, как регресс. Проявляется он в том, что в сложной ситуации человек начинает вести себя, как маленький ребенок. (Здесь надо оговориться: деление достаточно условно: «чистых» форм адаптации мы в жизни не найдем. Если взрослый человек лезет с кулаками, это может означать, что его «взрослого» потенциала не хватило, чтобы справиться с ситуацией, и он как бы опять стал подростком). Эмоциональные реакции: плакать, драться, убегать – время от времени всем свойственны. Они могут давать эмоциональную разрядку, хотя и не решают проблемы. Но в психической патологии преобладает именно эта форма адаптации.
В Центре психического здоровья, где я работаю, есть больные дети четырнадцати – шестнадцати лет, которые сюсюкают, как младенцы, сворачиваются к клубок, принимая позу зародыша… Как правило, это связано с мощным стрессом. Например, пятнадцатилетняя девочка, которая находится в конфликте с матерью, обнаружила после развода родителей, что больше всего ее любили, когда она была лысая, безбровая. Самые счастливые ее фотографии сделаны в годовалом возрасте. И вот девочка бреет голову, брови и начинает вести себя,» как маленький ребенок. Это крайний случай. Но сколько мы видим на улицах сорокалетних дам с кокетливыми бантиками?
До сих пор разговор касался преимущественно индивидуальной адаптации. Но проблема существует и на макроуровне, на уровне общества. Сегодня в России это проявляется очень ярко, как вообще во времена социальных катаклизмов. За короткое время (а время очень важный фактор) изменилась система ценностей, правила поведения, профессиональные приоритеты, деньги… И это касается каждого человека непосредственно.
Наше общество не было к этому должным образом подготовлено, отсюда такое количество людей растерявшихся, не приспособленных к новым условиям. Они ходят на митинги и тусовки, надеются на чудо, вкладывая средства в «пирамиды», а потом образуют «общества обманутых вкладчиков». Психологический мотив посещения массовых мероприятий не в том, что люди хотят совершить акт политического волеизъявления; на самом деле они испытывают тревогу и таким образом – собираясь, общаясь – изживают, минимизируют ее. В этом смысле тусовки интеллигенции ничем не отличаются от митингов: то и другое – пир во время чумы.
В развитых странах, и европейских, и особенно в США, чтобы предупредить подобные ситуации, существуют своего рода предохранительные клапаны: между людьми, оказавшимися «на обочине», есть целый институт социальных работников, которые помогают им «вписываться» в общество. Ночлежные дома, биржи труда, языковые курсы – все это работает на то, чтобы человек не чувствовал себя беспомощным, брошенным, покинутым. В России все это, по сути, находится в зачаточном состоянии.
И в действие приходят такие психологические механизмы, как уже известный нам регресс: это происходит и на макроуровне. Люди с особенной силой обращаются к прошлому в разных его видах. «Корни», в том числе национальные, религия, традиции становятся основой жизни. Интересно, что за несколько лет до распада Югославии, как мне рассказывали работники спецслужб, «стукачи» отказывались работать с людьми не своей национальности: в условиях повышенной опасности македонец доверял только македонцу, хорват хорвату, и так далее. Сходные признания я слышал от оператора знаменитого документального фильма «Легко ли быть молодым?»: парни-«афганцы» говорили, что в бою уверенно чувствуешь себя, когда тебя прикрывает солдат твоей национальности.
Отечественный феномен возрождения казачества во многом, полагаю, связан с упадком экономики, тревожным состоянием людей. Представьте себе: какой-нибудь директор завода, где выпускается новейшее оборудование, днем производственник, а вечером, после работы – казак. И исходя из последнего строит свои отношения с людьми. Чушь? Да нет, реальность.
Когда традиция этнографична, она, бесспорно, дополняет жизнь. Но если какая-нибудь, вполне «диванная» партия всерьез предлагает мазать ворота дегтем проштрафившимся девицам, то есть ищет в прошлом основную жизненную опору, этим людям можно только посочувствовать: они плохо адаптированы.
Традиции похожи на спасательные круги, как бы висящие на борту корабля: а вдруг выплывем, если что! Обратимся к проверенному опытом – и что-то сдвинется! Надо на всякий случай сходить в церковь: а вдруг поможет? – вот такая примерно логика приводит в храм атеистов или индифферентных в этом отношении людей, традиции – адаптационный механизм, который прежде был эффективным, работал. Постепенно он становится неадекватным, и отдельные люди начинают ломать традицию; вначале это вызывает возмущение, но постепенно становится нормой. Если же «взламывания» традиций не происходит, общество обречено. В истории тому масса примеров: вспомним хотя бы Древний Египет с обилием ритуалов и полной потерей адекватной реакции на окружающее…
Ломка устоявшихся представлений – небезболезненный процесс, и это тесно связано с понятием нормы. Вопрос о норме – один из сложнейших, он всегда открыт. Есть определение, что это некое среднеарифметическое общепринятой практики (крайности – не норма). Как над ним ни издеваются специалисты (потому что исходя из него надо, к примеру, кариес зубов считать нормой, хотя это болезнь), ничего лучшего нет. Один мой коллега на просьбу дать определение дурака полувсерьез ответил: «Всякий инакомыслящий». Иронии здесь не так много, поскольку для большого количества людей нормально то, что они делают сами, и странно то, что делают другие. У Станислава Лема есть предисловия к никогда не написанным книгам, где он блестяще спародировал такой подход: в частности, есть «предисловие в альбому порнографических снимков, сделанных в рентгеновских лучах». Логика такова: что сегодня неприлично – завтра может оказаться большой культурной ценностью; дабы сохранить наследие и соблюсти общественную нравственность, вниманию ценителей предлагаются хитросплетения скелетов.
Деталь, на которую хотелось бы обратить внимание: способность к адаптации усиливает чувство оптимизма (которое, кстати, может быть неосознанным). В конце эпохи Хрущева в Москве – и не только – появилось много нового: открывались школы с английским языком, издавались зарубежные писатели, не говоря о том, что строились квартиры, стабилизировались цены… Тогда сильно упала насильственная и корыстная преступность – грабежи, воровство, убийства, снизилось и количество самоубийств. Когда Хрущев принимал решение о сносе некоторых тюрем, он действовал и исходя из статистики. Может быть, поэтому крах реформ переживался так больно, что был одномоментным: «пражская весна», введение войск в Чехословакию в 68-м.
Постепенное изменение жизни к лучшему сменил застой, потом перестройка – вот уже десять лет почти ежедневно мы вынуждены адаптироваться к чему-то новому.
Понятно, что застой, как и революции, непродуктивен для общества. Оптимальное соотношение стабильного и нового для человека: когда он довольно плавно, будучи внутренне готовым, переживает наступающие изменения. Когда для того чтобы справиться с ними, есть ресурсы, силы, время. Когда он не раб обстоятельств, не поздно начать все сначала. Когда понимает, что во многом – хотя и не во всем – он хозяин своей судьбы. Это и дает ощущение гармонии.

«Модель универсального потребителя, заключенная в этом автоклаве, или, говоря по-нашему, в самозапиральнике, хочет неограниченно. Все мы, товарищи, при всем нашем уважении к нам, просто пули рядом с нею. Потому что она хочет таких вещей, о которых мы и понятия не имеем. И она не будет ждать милости от природы. Она возьмет от природы все, что ей нужно для полного счастья, то есть для удовлетворенности. Материально-магические силы сами извлекут из окружающей природы все ей необходимое. Счастье данной модели будет неописуемым. Она не будет знать ни голода, ни жажды, ни зубной боли, ни личных неприятностей. Все ее потребности будут мгновенно удовлетворяться по мере их возникновения.
– Простите, – вежливо сказал Эдик, – и все ее потребности будут материальными?
– Ну разумеется! – вскричал Выбегалло. – Духовные потребности разовьются в соответствии! Это будет исполин духа и корифей!
Я оглядел присутствующих. Многие были ошарашены. Корреспонденты отчаянно писали».
Аркадий Стругацкий, Борис Стругацкий. «Понедельник начинается в субботу».
ФАКТЫ
*********************************************************************************************
Карты для космотуристов
Американские и японские астрономы намереваются создать объемную карту Вселенной, которая позволит расширить представление о ее строении и эволюции. Карта будет включать около 100 миллионов галактик, удаленных от Земли на расстояние до 2,5 миллиарда световых лет. Вооружившись телескопами в горах американского штата Нью-Мексико, известнейшие ученые мира начнут наблюдения за небесными светилами уже в следующем году. На настоящий момент карты Вселенной включают около 70 тысяч галактик, а удаленность миров не превышает 500 миллионов световых лет, поэтому работа предстоит грандиозная. Проект планируют завершить к 2002 году, так что готовьтесь к картографической космореволюции! И загодя выбирайте маршруты.
«И уши у тебя холодные…»
Институт биологических исследований в Сан-Диего (США) ведет разработку термометра, определяющего температуру тела по его инфракрасному излучению. Наиболее точным индикатором температуры, по мнению ученых, является ухо, так как барабанная перепонка находится в непосредственной близости от гипоталамуса – своеобразного термостата. Новый термометр состоит из зонда, опускающегося при нажатии кнопки в ухо, термоэлектрических сенсоров, сигналы которых создают картинку инфракрасной энергии, и компьютера, преобразующего полученные данные в традиционную цифровую информацию о температуре тела. Причем сама процедура занимает всего несколько секунд, что позволит использовать прибор в больничных условиях при экстремальных ситуациях. Следует учесть и еще одно неоспоримое достоинство термометра – его фантастическую точность. Все эти преимущества нового прибора позволяют рассчитывать на его скорый серийный выпуск.
Чудо-печь готова наполовину
Неприятный запах, чад и дым, порой доносящиеся из кухни, свидетельствуют не только об испорченных продуктах, но и о скверном настроении хозяйки. Исключение человека из технологической цепочки – единственная гарантия бесперебойной работы любой системы. И эта гарантия найдена. При разработке новой микроволновой печи инженеры фирмы SHARP использовали принципы организации нервной системы и мозга человека. В результате печь, а вернее, ее компьютер самостоятельно оценивает качество продуктов, из которых предстоит готовить еду, а также определяет время их кулинарной обработки. Критерием служит не что иное, как влажность продуктов. Наверное, поэтому чудо-печь пока может готовит только из замороженных или жидких продуктов, влажность которых наиболее выражена. Но все еще впереди.
Подготовила Ольга ЮРЬЕВА
Жан-Мишель Ферре
ЦЕФЕИДА

Торазо осторожно вошел в комнату, и массивная стенная панель бесшумно скользнула на свое место за его спиной. Усевшись в изголовье постели Мюрелки, он включил запись. Все, что будет сказано здесь, необходимо тщательно зафиксировать и сохранить для архивов. Даже если Мюрелки свихнулся. Впрочем, Торазо в это не верил.
– Мюрелки!
Навигатор медленно открыл глаза. Он выглядел гораздо лучше, чем тогда, когда его доставили в госпиталь два дня назад. Его раны почти полностью зарубцевались, и даже левый глаз казался почти здоровым.
Он бледно улыбнулся Торазо.
– Никак, инквизиция пожаловала? – поинтересовался он.
– Совершенно верно, – сдержанно ответил Торазо. – Однако наша организация не собирается докучать вам. Мы вам верим.
Сомнение скользнуло по лицу Мюрелки, но спустя мгновение его взгляд просветлел.
– Господи, – наконец прошептал он, – надеюсь, что вы не шутите, офицер.
– Я не шучу. И кроме того, я не офицер.
– Кто же вы?
– Я сотрудник Службы космической картографии.
– А, понимаю… Было бы странно, если бы ваши люди не попытались сунуть нос в эту историю.
– Именно это мы и сделали, – сухо заметил Торазо.
– И все же вы верите мне?..
Сотрудник картографической службы посмотрел в окно, занимавшее почти всю стену. Далеко внизу простиралась к горизонту фиолетовая поверхность океана, покрытая морщинами волн, разбивавшихся фонтанами брызг о мозаичную стену набережной Шелдрон-порта. Жгучее летнее солнце Шелдрона пылало на гребне каждой волны, на каждом прозрачном камне, множество которых усеивало узкую полоску пляжа.
– Хотелось бы, чтобы вы тоже верили нам. Во всей этой истории важно не то, насколько правильно вы вели себя. Главное – это понять, что представляет собой планета Лиры.
Мюрелки тихонько присвистнул. Глубоко ввалившиеся глаза и резко бугрившиеся на лице скулы выдавали огромную усталость. Торазо подумал, что навигатор страдает не столько от физических, сколько от моральных мучений.
– Хорошо, господин инквизитор. Меня устраивает наш договор. Значит, вы хотите, чтобы я повторил свой рассказ?
– Я должен буду записать его.
Мюрелки закрыл глаза.
– Это случилось две недели назад, – начал он. – Наш корабль, который я пилотировал вместе со вторым членом экипажа, младшим навигатором Люшем, приблизился к планетной системе звезды РР-Лиры. Среди целого выводка планет, болтавшихся вокруг центрального светила, только одна представляла некоторый интерес. Ваша служба, господин инквизитор, уже побывала в этой системе, и по поводу планеты компьютер выдал: «Жизнь отсутствует. Богатые ресурсы».
Именно такую планету и искали мы с Люшем – без зверья, без надоедливых насекомых, но зато с большими залежами полезных ископаемых. Видите ли, мы с Люшем давно образовали небольшую, но дружную команду свободных навигаторов. Такая работа дает неплохую, прибыль – могу сказать вам, что сейчас на моем счету в Межзвездном банке находится довольно круглая сумма…
Так вот, мы с Люшем посадили корабль на эту самую планету… Как там ее? Кажется, РР-Лиры-VIII, как вы ее называете.
Атмосфера на поверхности оказалась пригодной для дыхания. Когда мы выбрались из корабля, меня поразило сходство окружавшего нас пейзажа с марсианской пустыней. Правда, небо над головой больше походило на земное. В общем, было очень холодно, но дышалось легко. Что касается окрестностей, то, насколько хватало глаз, простиралась волнистая равнина, покрытая небольшими дюнами из мелкого серого песка; впадины между дюнами были заняты миниатюрными озерцами или прудами; в их неподвижной воде четко отражались облака. Все это вы можете увидеть на снимках, которые сделал Люш… Точнее, могли бы увидеть, если бы свидетельства уцелели вместе с ним.
За те два часа, в течение которых мы находились на поверхности планеты, я почти закончил анализ песка. Должен признаться, состав песка оказался весьма сложным, что породило у нас определенные надежды. После этого Люш решил проанализировать состав воды – так, на всякий случай. Он взял довольно громоздкий прибор, я нагрузился склянками для проб, и мы направились к соседнему водоему.
Неожиданно нас ослепила сильная вспышка – я даже подумал, что в небе над нашей головой что-то взорвалось. Но это пробудилось солнце. Если до сих пор оно было желтовато-белым и ничем не отличалось от земного, то сейчас внезапно, без малейших предупреждений, ярко вспыхнуло, превратившись в огромную голубую звезду класса Веги или Денеба. Яростный поток света залил всю планету. Песок под нашими ногами почернел, над прудами заклубились испарения.
Мы почувствовали, что вот-вот зажаримся. Я помню, что Люш был немного дальше меня от корабля в тот момент, когда мы бросили все свое снаряжение и кинулись назад.
Пробежав несколько шагов, я услышал отчаянный крик Люша, обернулся… и оцепенел от изумления. Из луж и прудов во все стороны устремились пучки тонких гибких нитей. Извиваясь, словно змеи, они тут же переплетались, образуя что-то вроде розовых клубков или чудовищных лимфатических узлов, отвратительно пульсировавших, словно вывалившиеся из распоротого живота внутренности. Не успел я полностью осознать представшую моим взорам картину, как Люш взлетел высоко над землей, оказавшись в тисках обвившихся вокруг него нитей. Сокращаясь, они тянули Люша к пруду, тому самому, из которого мы хотели взять пробы воды для анализа.
Не знаю, что случилось со мной, но я дико заорал и как безумный кинулся к кораблю. Упругие тонкие нити-щупальца со всех сторон устремились ко мне; они хлестали меня по ногам, по лицу, пытались обвиться вокруг тела, обжигая при этом кожу, словно крапива.
Люш продолжал дико кричать; он замолчал только после того как я нырнул в открытый люк корабля, словно успокоился за мою судьбу. Что касается местности, то она превратилась во что-то ужасное. Окрестности, только что совершенно мертвые, буквально ожили. Из каждого водоема продолжали вытягиваться нити, извиваясь и переплетаясь, словно в яростной схватке. На них возникали большие розовые шары, пульсировавшие, сливавшиеся или распадавшиеся на части. Из песка к небу устремлялись стебли растений, которые тут же покрывались листвой и цветами. Цветы мгновенно распускались в слепящем свете солнца; в их чашечках копошились какие-то нелепые создания, которые явно не были насекомыми, и все это…
Через несколько минут я взлетел; голова у меня шла кругом, перед глазами все плыло в розовом тумане, как бывает при сильном опьянении. Последнее, что я успел разглядеть на обзорном экране рубки управления – это густая чаща коричневых стеблей, увенчанных уродливыми наростами, громоздившимися друг на друга, словно кто-то пытался построить из них Вавилонскую башню…
Мюрелки замолчал. Он упорно смотрел в окно на мирный пейзаж Шелдрона широко раскрытыми глазами, словно перед ним все еще мелькали жуткие картины ожившей планеты.
– Мюрелки, – после некоторого колебания обратился к нему Торазо, – знаете ли вы, что такое солнце РР-Лиры, с точки зрения астрофизики?
– Ну, это то, что называют цефеидой, верно?
– Правильно. Это звезда, уровень светимости которой может резко изменяться через определенные промежутки времени. Для РР-Лиры период колебаний составляет около 350 часов. Спокойная бледно-желтая звезда через каждые 350 часов вспыхивает, превращаясь в голубого монстра, затем через некоторое время снова успокаивается и возвращается в исходное состояние.
– Понимаю, – кивнул Мюрелки. – Именно это и произошло, когда мы находились на планете.
– Да, именно так все и случилось. – Торазо встал, выключив записывающее устройство. – Видите ли, для нас очень важен ваш рассказ, потому что вы с Люшем оказались первыми людьми, посетившими одну из планет звездной системы подобного типа. Можно сказать, что вам просто не повезло – вы могли улететь с планеты до начала вспышки, и с вами ничего не случилось бы… Видите ли, Мюрелки, мы хорошо понимаем, что свет – это сама жизнь. Когда на планету обрушились потоки яростного света РР-Лиры, жизнь на поверхности планеты мгновенно проснулась от летаргического оцепенения. Она пробудилась, чтобы просуществовать несколько часов, обеспечить продолжение рода и снова заснуть. Случайно получилось так, что наш разведывательный корабль побывал на планете во время периода низкой светимости звезды. Планета находилась в состоянии сна и была отнесена к классу безжизненных…
– Интересно, всегда ли просыпающаяся через небольшие промежутки времени жизнь одна и та же?
– Скорее всего, нет.
Мюрелки задумался.
– Впрочем, это неважно, – пробормотал он. – Главное, что Контрольная служба не захотела поверить, что я не убивал Люша…
– Теперь поверит. Кроме того, чтобы не повторялись подобные трагедии, службе придется сделать соответствующие выводы.
Навигатор уставился на картографа-инквизитора.
– Скажите, – медленно произнес он, – эта жизнь, которая то появляется, то погибает… Может ли случиться так, что однажды она уцелеет?
– Для этого, – ответил Торазо, – нужно, чтобы солнце РР-Лиры осталось в состоянии наибольшей светимости достаточно продолжительное время.
Мюрелки промолчал. Казалось, его охватило странное оцепенение.
Он уставился в окно остекленевшим взглядом и перестал реагировать на слова инспектора. Он не пошевелился даже тогда, когда тот ушел, попрощавшись и пожелав навигатору быстрейшего выздоровления.
* * *
Торазо передал свой рапорт Генеральному Штабу, а тот, в свою очередь, отправил его в Центр, на Землю. Потребовалось не больше месяца на то, чтобы выработать особое положение о планетных системах с цефеидами в качестве центрального светила. Согласно этому положению, всем кораблям запрещалось приближаться к звездам подобного типа; в окрестностях всех известных на данный момент цефеид были размещены радиомаяки, преграждавшие доступ к ним.
Однажды Торазо, находившийся на борту патрульного крейсера «Патрик-1», увидел мигающий огонек на одном из контрольных экранов. Он тут же вызвал пункт управления капитана.
– Придется отправиться к РР-Лиры, – проворчал тот. – Чей-то корабль пытается прорваться к звезде.
На протяжении трех суток «Патрик-1» набирал скорость, устремляясь для перехвата нарушителя к цефеиде. За это время она ни разу не вспыхнула, чтобы затмить своим светом все окрестные звезды.
Следя за нарушителем через иллюминатор, Торазо вспомнил о Мюрелки и его несчастном спутнике Люше. В его душе зародилось неясное подозрение, и он бросился к корабельным архивам, постоянно связанным с архивами Центральной базы, и на несколько часов закопался в них. Вскоре он выяснил, что Мюрелки, быстро поправившись, улетел с Шелдрона, чтобы продолжить уже в одиночку тяжелый труд изыскателя. В электронной памяти машины было зарегистрировано и то, что во время коротких посадок на Ахернаре-III и Люгдране-IX Мюрелки говорил что-то очень странное о космических богах и, кажется, даже сравнивал себя с ними.
Подозрения Торазо сначала перешли в уверенность, затем сменились страхом. Кинувшись к иллюминатору, он напряженно следил, как за толстым броневым стеклом быстро растет охристый полумесяц восьмой планеты РР-Лиры. Справа от зловещего серпа микроскопической искоркой поблескивал корабль-нарушитель. Он обогнул планету и сейчас направлялся в сторону центрального светила системы, заметно увеличивая скорость.
С тревожно бьющимся сердцем агент Службы космографии поспешил в рубку управления. Через несколько минут послышался голос. Это был Мюрелки.
– Приветствую вас, бдительные патрульные. На этот раз вы немного опоздали.
Торазо вышел на связь:
– Мюрелки! Мюрелки! Это я, Торазо! Помните Шелдрон? И наш разговор в больнице?