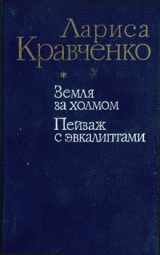
Текст книги "Пейзаж с эвкалиптами"
Автор книги: Лариса Кравченко
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 18 страниц)
4
Ночами океан гудел ровно и мощно. Сквозь сон она всем существом ощущала этот гул, и деревянные, высушенные зноем стенки флэта не заглушали, а наоборот, как бы концентрировали звук.
Она просыпалась среди ночи, ближе к утру, с мыслью, что нужно подняться и бежать на берег и увидеть, как сеянце встает из океана – розового и неповторимого… Но вчерашняя усталость и жар загоревшего тела сковывали ее по рукам и ногам, разбуженные рассветом пичуги, может быть, даже зеленые попугаи, которых полно здесь в округе, начинали верещать прямо над форточкой в кроне массивного, похожего на магнолию дерева, и она снова засыпала, словно проваливалась в небытие.
Утром, когда Лиза хлопала дверцей холодильника на кухне, лилась в душе вода и Гаррик, просовывая в дверь улыбающуюся голову, говорил очень правильно и старательно по-русски: «Лёля, пойдем купаться!», солнце уже победно стояло над головой, ослепительно светились пески, и океан, голубой и обманчиво невозмутимый по горизонту, сверкал зеркальными всплесками.
Гаррик был простужен из-за нее на этом осеннем море, но героически снимал шерстяные носки и, чихая, нырял в стоящую дыбом волну. Волна обрушивалась с грохотом на песок. Гаррик плавал далеко впереди, недоступный силе волны и коварству, а она отскакивала обратно на сушу – наполовину мокрая и наполовину в песке.
Потом, прямо так, не одеваясь, они шли в свой, третий от угла скалы, дворик, босиком по пружинистой, как палас, траве, где ночевала в тени длинных стрельчатых листьев их машина и машины соседей по флэту. Обязательно мыли уже высохшие ноги под краном, потому что не дай бог занести песок на хозяйские мягкие полы – от песка в них заводятся какие-то тропические букашки! Хозяйский столик на резных ножках Лиза застилала белой пластиковой скатертью, ставила мед (из Тасмании) и масло. Штампованные из пшеничной муки «штучки», как называл их Антоша, в чашке холодного молока и туда еще накрошен банан – оригинально, но съедобно! Лиза считала, что так и нужно кормить ее – специфическим, австралийским…
Потом Гаррик мыл на кухне щеткой посуду в раковине, полной мыльной воды, и оставался дома, простуженный, со своими книжками по архитектуре. А они с Лизой брали большой зонт, который втыкается ручкой в песок, острой, как стойка теодолита, и шли на пляж.
И можно было растянуться на горячем песке, под таким ровным сухим жаром, какого не бывает у нас на юге, лежать, слушать шум океана и смотреть в прозрачный изгиб волны, зеленой и разбивающейся в пенном величин.
Песок – сыпучий, как пыль, и следы на нем остаются отчетливые, как слепок (наверное, такой след от ноги Пятницы нашел некогда на своем острове Робинзон. Кстати, это было где-то по соседству в океане). А пляж почти пуст, вернее, он просто огромен и способен вместить половину человечества! Пройдет дочерна загорелая пожилая пара с собакой; молодая мама в бикини лежит под таким же зонтом с маленьким и не мешает ему лазить в волну; старички, сухощавые, сморщенные, словно их специально сушили на солнце, ловят удочками рыбу со скалы, похожей на парусник. День будний – дети в школе, студенты на лекциях. Белые птицы кружатся над океаном и садятся на его качающуюся поверхность отдохнуть.
И странно – нет почему-то у нее ощущения отдыха в этом синем и золотом дне, у подножия мыса Каррам бил, кудрявого от тропической зелени. Нет того полного отключения души, что приходит к нам у своего моря, на жесткой ялтинской гальке или на обском берегу, замусоренном выброшенными водой корягами. То ли от того, что вечно неспокоен мятущийся океан, и это передается ей непроизвольно, то ли потому, что до предела сжаты и расписаны эти ее пять дней у моря: с обеда приедет Андрей и повезет ее в горы, к водопадам или на тот призрачный мыс на границе Квинсленда и Нью Саут Уэльса… Или это просто – чужой берег?..
Андрея они нашли в первый же вечер по приезде, когда вещи были разложены, океан порядком потрепал се и заставил хлебнуть соленой воды для начала, а солнце ушло за горы и на пляже стало нечего делать.
Лиза собралась мигом, и ей тоже пришлось надевать парадное платье балахоном, чтобы не уронить Сибирь перед заграницей! Антоша остался дома смотреть «тиви», пока это его главная и единственная страсть. И Гаррик вывел машину из тихой заводи Каррамбина на артерию – к огням, движению и сверканию.
Андрей жил ближе к горам, в стороне от магистрали, и они долго блуждали в переулках, высвечивая из темноты куски травы у обочины и кусты, перистые, как пальмы. И спросить не у кого – все сидят взаперти, только номера, словно светлячки, на фасадах. А тротуаров здесь вообще нет – одна узкая проезжая часть и подъезды к гаражам. Зачем? Никто не ходит пешком, а по чужим лужайкам тем более не положено!
Захрустел под колесами белый гравий, звоночек брякнул в глубине дома. Дверь отворил крупный мужчина, седой и сутуловатый. Она стояла перед пим в освещенном холле с лесенкой из полированных досточек, убегающей наверх, и шкурками кенгуру, вместо половиков, смотрела на него и не узнавала. И он тоже смотрел и не узнавал, может быть, от внезапности появления?
– Неужели Лёлька Савчук! – крикнул он и заулыбался. И тут словно серая фотопленка стала проявляться на глазах у нее, и лицо проступало из глубины, знакомое, но забытое, и не было больше седины и всего налета лет…
…Она шла из института, а он стоял, облокотившись на забор своего палисадника, и смотрел, как она идет, и улыбался мальчишескими круглыми глазами. И он был, видимо, после смены в своем паровозном депо, потому что nç снял еще синей казенной куртки в пятнах, а она шла, сверкая двумя рядами медных пуговиц на тужурке и двумя золотыми значками на бархате воротника – скрещенные ключ и молот, в белых тапочках на резинке, в белой английской блузке. И юбка в складку колебалась вокруг колен ее, как кринолин. И вся полна была гордости от сознания своего студенчества и значительности от принадлежности к передовой молодежи мира. И своей молодостью. И той необъяснимой музыкой стихов, записанных и незаписанных, что бродили в ней постоянно, мешая сдавать зачеты по сопромату. И может быть, от стихов этих, присущих ей, как дыхание, она всегда летела, словно на вершок над землей, в своих белых спортивных тапочках, не успевая вглядеться в окружающих.
Он так и скажет ей потом в горах, но пути в «Нэйчурал бридж»: «Ты все ходила мимо – одна и с ребятами из ХПИ, а меня не видела…» Да нет, видела… Но она считала тогда, что любит Юрку…
Он жил тоже на улице Железнодорожной, только в казенных красных домах, постройки КВЖД, и, пробегая утром на лекции, она замечала иногда, как он помогает отцу в палисаднике или пьет чай с сестрой на веранде. А знакомы они не были, потому что кружились по разным орбитам, у нее – свой институт и ССМ, у него – клуб Узла, железная дорога, которая в те времена была уже Китайско-Чанчуньской.
А матери их встречались в политкружке местного отделения общества граждан СССР (были в Харбине такие районные организации) и даже забегали домой за солью, по соседству, но это ее просто не касалось – у взрослых свои дела.
– Мама, ты посмотри, кто это! Это же Лёлька с нашей улицы! – Он тянул ее за руку своей большой и шероховатой рукой куда-то ввысь по ступенькам. Лиза и Гаррик поднимались за ними в большую гостиную, довольные. И мама вынырнула сбоку из пластиковой кухни, как ни странно, почти не изменившаяся со времен «местного отделения»…
– Я никуда не отпущу ее сегодня! – гремел он. – Нам же надо поговорить! Мама, ты постелишь ей в большой рум! [12]12
Рум (англ.) – комната.
[Закрыть]Вы можете ехать к своему Антону, а завтра я доставлю ее вам, когда вы скажете! А еще лучше – я отвезу вас завтра в одно местечко, где в два часа дня один оркестрик играет русскую музыку. Такое вы нигде не увидите!
И они действительно поехали на другой день, и местечко это, по ту сторону границы штата Нью Саут Уэльс, оказалось гольф-клубом, современным дворцом среди благородной зелени травяного подстриженного ноля, где леди и джентльмены с видимой неторопливостью вдумчиво переходили с места на место, вооруженные набором клюшек и, иногда, складным стулом, замахи вались клюшкой по невидимому издалека мячику. А потом приходили отдыхать в свой стеклянный клуб, где было все для радости австралийца – в том числе зал с игральными автоматами и детская комната с голубым бассейном, дающая возможность родителям спокойно продаваться спортивной или азартной страсти.
Они поднялись в бар, где даже потолки были обтянуты синим мехом для комфорта, сверкали сквозь степы зеленые солнечные дали, а на утопленной в пол, скользкой, как каток, танцплощадке кружились в два часа дня странные пары. Вернее, это ей показалось странным – танцующие худые старички, с сухими негнущимися коленками, в шортах, и дамы, совсем столетние, однако в голубых платьях на сборочку, кокетливые из последних сил – для них это в порядке вещей, каждый веселится, как может!
Они сидели на возвышении за длинными столами – Андрей, Гаррик, Лиза, пили разные «дринки-оранджи» с кусочками льда, смотрели на «представление» сверху, а оркестр, о котором говорил Андрей, был еще выше – два человека, тоже очень старых, но в атласно-оранжевых рубахах стиля «цыганский барон», рьяно наигрывали на скрипке и аккордеоне вальс Штрауса и танго тридцатых годов, соответствующие молодости посетителей.
За этим же столом с ними сидела еще компания русских, и Андрей знакомил ее с ними, как «приехавшую из России». Господин Парасовченко с супругой, господин Вержинский и прочие… Они целовали ей руку со старомодной галантностью и спрашивали: «Ну, как у вас там?»; По что-то ей показалось в них непонятным, потому что они не были похожи на веселящихся старичков Австралии и на харбинскую эмиграцию тоже. Словно гости за чужим столом, они сидели своей обособленной кучкой, без радости, эти хорошо одетые, высушенные или одышкой страдающие мужчины, не по годам наряженные женщины. Словно им больше нечего было делать в воскресный день, как приехать сюда и ждать, когда забавный оркестрик исполнит «Очи черные»!..
В этом и был, в сущности, гвоздь программы: со своей скрипкой подходить к каждому столу, как купринский Сашка из Гамбринуса, спрашивать национальность сидящих и исполнять каждому свое – шотландцам, тем веселящимся старичкам с коленками, что-то их родное – «зажигательное», евреям – знаменитое «Семь сорок», англичанам – «типерерри», а русским, естественно,
«Ямщик, не гони лошадей,
Нам некуда больше спешить…»
И таким леденящим потянуло да нее здесь от этой старины, которую там, у себя дома, слушаешь, как милые романсы и только, но здесь, здесь это звучало по-другому, как осколки потерянного, и она очень остро ощутила это. Так слушали это они, сидящие за столом. И так слушал Андрей, хотя его никто не вынуждал терять это!
– Кто эти люди? – спросит она у него потом, в машине.
Те, кто не вернулся после плена, из Европы, и те, кто перебежал во время войны каким-то образом…
– Один из Ленинграда, один – инженер из Запорожья…
Сот оно как, оказывается. Ей стало неприятно, что Андрей с ними… Хотя какая разница, как ты отказался от своей страны. Важен результат – все за одним столом. И то, о чем они говорили почти всю предыдущую ночь, тоже не меняло ничего, перед этим конечным результатом…
Они проговорили с Андреем часов до трех утра, внизу, в той большой комнате рядом с гаражом, что в австралийских домах имеет смысл бильярдной или бара для гостей-мужчин, во всяком случае, помещение, где можно сидеть, не нарушая порядка верхних мягких комнат. Кирпичные стены оставлены в своем первозданном виде. Вертится на проигрывателе русская пластинка, русские книги стоят в шкафчике – Толстой и Есенин рядом с Солженицыным… Да, Солженицын при полном комплекте нью-йоркского издания. Всюду в домах она видела этот посев ненависти. У одних – просто, почему же не почитать, когда такой шум вокруг него, у других – как оправдание их пребывания за границей.
. – Ты пойми, ничего этого у пас сейчас нет! – говорила она.
– Я не верю! – горячился Андрей. – А что они сделали с Пашей?
Павел был старшим братом Андрея и служил в Асано. Но он не был корнетом, как Гордиенко или Бернинг, он был рядовым, забранным без спроса и желания, чистил коней в отряде на Второй Сунгари и терпел оплеухи своего и японского ефрейторов. И, может быть, его не забрали бы, как корнетов в сорок пятом, когда пришла Советская Армия, если бы не одно обстоятельство. Девушка, которую он не любил, потому что имел другую невесту, пошла в комендатуру и сообщила, что он якобы из тех, что ходили диверсантами «на ту сторону» при японцах. Действовала она из принципа женской ненависти – если не мне, то и по тебе! Время было такое, что этого стало достаточно. Только в пятьдесят шестом, когда половина Харбина уехала эшелонами на целину, кто-то написал им из Союза, что Павел умер где-то под Тайшетом… Отца уже не было в живых, а у них с матерью были готовы документы в Австралию.
– Я не прощу несправедливости! – фактически это и было единственным, что Андрей имел к Советской власти. И еще одного он не мог простить, по-видимому… Того, что случилось – с ним…
– Ты не знаешь, я же уходил в Союз в сорок седьмом, и меня вернули обратно! Помнишь, было такое поветрие – когда ушла Армия, стали уходить пешком на Родину через границу? Кто-то переходил, и мы больше ничего о них не знали, кого-то возвращали…
Да, она хорошо знала это, потому что так уходил Юрка, и его тоже вернули, и потом он рассказывал ей про сутки на советской земле, на погранзаставе, как он плакал от отчаяния, что не нужен родной земле, и как майор сказал ему на прощанье: «Иди и учись дальше. Нам нужны специалисты, и тогда ты придешь сюда. Непременно!» Но так было с Юркой, и он успел обернуться за зимние каникулы.
– Так вот, меня вернули. А пока я ходил туда и обратно, Седых выпер меня из института. Помнишь нашего директора? А что я тоже учился в ХПИ, не помнишь? Недолго, половину семестра. Ты уже носилась где-то в верхах – второкурсница, а я только поступил, когда выдался такой случай – уйти в Союз. Мы же не знали, что с Пашей. Думали, все выяснилось, и он просто где-то работает. У меня была мысль, что я найду его. А Седых вызвал меня в кабинет и выпер за пропуски лекций. Ему наплевать было, что я уходил не куда-нибудь, а на Родину! Потом отец меня к себе в депо устроил. И я уже не хотел ничего больше: и вашего Союза молодежи, и ехать туда, откуда меня выдворили однажды, тоже не хотел! Тем более, что, по милости Седых, я остался без образования.
– Ты думаешь, мне легко пришлось здесь? Ваши, из ХПИ, держались своей кучкой, вертелись сообща – друг друга вытягивали, рекомендовали. Поедешь в Сидней, увидишь – это же каста, «инженеры и жены инженеров»! А мы с мамой были практически одни. Мы жили в Мельбурне. Там зима гадкая, мы намерзлись, как собаки. Квартиры у них здесь, сама видишь, легонькие. Сняли флэтик. Хозяйка австралийка попалась вредная – все не так! Печка дымила, у мамы разыгрался ревматизм – куда ей работать! Хотя тут наши мамаши устраивались поначалу мыть посуду в ресторанах и уборщицами в больницах, я се не пустил. Меня вытянула деповская выучка. Я же там стал на все руки – и токарь и слесарь, хозяину это было выгодно. И так я батрачил у него в мастерской, года два, пока скопил денег и купил трак. Ты видела их – громадные, красные, на дорогах?
– Попробуй поездить на таких махинах! К концу дня у тебя ни спины, ни рук нет, а едешь и днем и ночью: быстрее обернешься – больше заработаешь! Я возил камень из карьеров. Это и опасно при здешних скоростях: не совладаешь с такой тяжестью на развороте, – никто не соберет. Ну, это все позади, Лёлька. Теперь у меня свой бизнес, и я ни от кого не завишу. Это главное!
«Свой бизнес», как она поняла, – флэты на побережье, большие и маленькие, вроде тех, что они сняли на неделю с Лизой и Гарриком. Можно ли жить на это, или есть что-то еще, – она не разбиралась. И можно ли жить этим?
– Да ладно, хватит моих дел, расскажи лучше про себя. Как вы осваивали целину?
И она рассказывала. Хотя очень трудно оказалось передать, если человек никогда этого не видел.
…Свинцовое по осени небо над Кулундой. Белые пятна солончаков по степи, окаймленные низенькой красноватой травкой. И беленые, как на Украине, глинобитные села под шапками из камыша. Тогда еще было так в Казанке, куда их привезли эшелоном. Она ездила туда снова, когда выходила из печати ее книжка стихов, и нужно было что-то проверить в себе. И она не узнала села под блестящими цинковыми кровлями и нового кирпичного клуба, взамен того, глиняного длинного сарая, где она смотрела свои, первые на родной земле кинофильмы, а с потолка, для тепла засыпанного половой, труха сыпалась на головы зрителей. (Когда они приходили домой с Сережкой, приходилось капитально вытрушивать шаль и шапку.) Но главное осталось неизменным – та старая березовая роща за МТС и хлеба, золотые и неохватные до горизонта. И хотя ей было безумно трудно тогда и боль-по – нарывала разбитая на комбайне рука, и холодно под свинцовым небом, ощущение беспредельности своего хлеба и этих берез вошло в нее там, на целине, и осталось на всю дальнейшую жизнь, как точка опоры. И как объяснить это Андрею, когда у него своего – этот зеленый клочок травы под домом и еще пусть десять таких клочков по побережью…
– Я всегда говорил здесь всем нашим: я уважаю Лёльку Савчук. Там она носилась со звездой на груди и писала стихи о Родине, и она поехала. Тут ходят некоторые – в Харбине кричали громче всех, а оказались здесь! Да я терпеть их не могу! И твоих из ХПИ, в частности. Я больше дружу с пленными, теми, что побоялись. Тут еще полно всяких, как вы называете, власовцев и бендеровцев. С этими я тебе не советую видеться – могут и оскорбить, и сказать что попало… Ладно, я тебя заговорил, у тебя уже глаза не смотрят!
Она сидела против него, за низким столом из пластика, и смотрела на него и думала: сам он, в сущности, простой русский мужик со своими все умеющими большими руками, вполне мог быть на месте где-нибудь у них на Сибсельмаше, а теперь, в возрасте, и на начальника цеха потянул бы. И было бы у него, как у всех, конечно: квартира с ковром на полу или стене (что понравится ему) и машина – вполне вероятно, а уж дача – обязательно! (Так она понимала его.) А по ночам, вместо русской музыки в пустой бильярдной – спал, тоски не зная, или смотрел футбол-хоккей по цветному телевизору, а по воскресеньям, вместо чужого гольф-клуба с «Очами черными», уезжал с такими же мужиками на Бердь, на рыбалку. Просто – жизнь… И это было бы то, для чего он создан, и нечего ему делать в этой Австралии!
И матери его тоже нечего делать на роскошном Голд-Косте! В Австралии, вообще, по соседству общаться не принято, а здесь – тем более, и уж мать-то вовсе одна в австралийской спальне, китайскими вязаными шторками от жгучего солнца завешанной. Ей бы сидеть сейчас на скамейке возле своего подъезда со сверстницами, и кто идет мимо – видеть и комментировать, и что в каждой квартире делается – быть в курсе.
Андрей выключил музыку («Клен ты мой опавший») и потушил свет. Сразу стали сиреневыми окна. Она пробежала потихоньку по коридору, чтобы не разбудить маму, в отведенную комнату.
Спала почему-то неспокойно, неловко притулившись на краешек кровати, огромной, как в кинофильме «Анжелика, маркиза ангелов». И проснулась, наверное, поздно, потому что солпце палило вовсю, Андрей успел съездить на «бич» искупаться, и нужно было торопиться – Гаррик и Лиза ждали их для продолжения воскресного дня.
По дороге в гольф-клуб Андреи завез их на сипни обрыв над океаном, где стоит мемориал капитану Куку, на границе штатов Квинсленд и Пью Саут Уэльс. Узкие белые плиты поставлены вертикально под углом друг к другу с указанием стран света, и на скользком от полировки постаменте нечто вроде компаса с медными частями и надписями. Свежий морской бриз раскачивал метелки чего-то игольчатого, что растет у нас на Зеленом Мысу в Батуми. Машины стояли стадами вдоль обрыва над аквамариновой глубиной, люди толкались вокруг мемориала, и было непонятно, они приехали отдать дань капитану Куку или просто потому, что но воскресеньям в штате Квинсленд запрещены спиртные напитки, а в Нью Саут Уэльс более покладистый премьер – пожалуйста!
Принято считать: капитан Кук сделал доброе дело, подарив Европе этот плавающий, как ковчег в океане, вечно зеленый материк – люди, живите и радуйтесь! Теплое море, белые пляжи, голубые горы… (Только аборигенов он как-то не принял во внимание…)
В горы Андрей повез ее однажды, когда она только-только растянулась с утра на песке в ожидании безмятежного дня. Отдых у моря не состоялся. Синяя машина рванулась мощно и понесла ее по серпантинным дорогам в вышину.
Откосы дорог – рыжая, как охра, земля. И корни, толстые, изогнутые в судорожном сплетении, держат дерево почти на весу, выползают на поверхность, словно им душно в этой сухой каменистой почве. Чем-то похоже на наш Крым к востоку от Алушты, только – эвкалипты…
Андрей остановил машину у кемпинга перед перевалом. И пока он ходил и брал что-то в баре, она не стала ждать его в аккуратном внутреннем дворике, где отливала искусственной синевой вода в бассейне и одна влюбленная пара сидела за столиком и кормила солеными орешками назойливых, черных, похожих на сорок, птиц, разгуливающих по песчаным дорожкам. («Кемпинг для молодоженов», – сказал Андрей.) Она вышла на волю, на бугорок.
И в просторном провале у ног ее – горы, горы ступенями уходили вниз к побережью, серо-зеленые вблизи и дымчато-голубые на расстоянии. И совсем рядом, только перейти асфальтовую полосу въезда, начинался буш – вытянутые ввысь, пепельные стволы эвкалиптов, телесно-светлая и гладкая на ощупь древесина и жухлые клочья коры, свисающей naît ритуальные лепты. Трава низкая и жесткая с сероватый налетом. Стройные леса, почти прозрачные понизу, в резком шорохе высокопоставленных крон, с кистями продолговатых листьев, без того запаха зелени и травы, без которого нет для нас леса! Теперь она поняла, почему австралийские горы, даже чуть отодвинутые, голубые: от неуловимого оттенка листвы. Словно, наглядевшись в синь океана, деревья впитали его окраску…
Хрустели в траве коряги, высохшие до серого цвета кости, ручеек, как ломтик стекла, лежал на оранжевом дне в ложбине («крик» – называют здесь такие ручейки-речки). Андрей шел от машины и махал ей: «Не ходи, смотри, наступишь на змею – тут у них хватает!..» Змея в природном состоянии ей увидеть не довелось. А чуть попозже, когда они запарковали машину на стоянке у «Нейчурал бридж» и шли к водопадам, нечто скользящее, с чешуей стального блеска и на четырех лапах, размером с собаку, деловито и как у себя дома пересекло площадку под колесами машин и пошло вверх по склону, заметая драконовым хвостом прошлогодние листья. Маленький динозавр – ничего себе!
Вниз, в узкий и влажный распадок уходили древесные ступеньки.
– Смотри, не поскользнись! – и впервые на этом континенте начала она погружаться в зеленый сумрак и душную сырость субтропиков. Густое сплетение растений и первобытный каменный хаос. Стволы, такие огромные, что корни их черпали влагу где-то в глубине ущелья, узлами лиан перетянутые, в зеленой мохнатости мха, да еще что-то ползучее, как плющ, спадало с них складками и перекидывалось на скалы, скользкие от сочившейся воды. Папоротники-деревья. Рядом с их знакомыми, но в десятки раз увеличенными ветками она чувствовала себя «Дюймовочкой». Многоствольные гиганты, с корневой системой в рост человека, похожей на чудовищное сухо-задние, на поверку оказывались элементарными фикусами, только в своем доисторическом обличии. Можно поверить, что Австралия – кусок райского сада, который бог по рассеянности забыл на земле!
Радостно и жутко было ей в этих недрах, где пахло прелью и тем неповторимым пряным настоем горных лесов, что памятен ей. Маньчжурские сопки – вначале («Помнишь?» – сказал Андрей). А потом Крым, Джуджидский водопад, дым от костра перед палаткой и грохот воды рядом в каньоне, туристское лето… Это уже разделяло их с Андреем – вся ее в России прожитая жизнь, о которой он не имел понятия…
И наконец то, ради чего они шли в эту преисподнюю – каменный свод, как мостовая арка (отсюда и название – «Природный мост»). Сверху в пролом земляной коры устремляется вместе с солнцем, белый в сумраке, столб воды и растекается подземным озером в пещере. Потом, дальше, он снова выбежит в распадок – поить деревья и травы, но здесь, в колдовском мире подземелья, была словно остановившаяся в каменной чаше темная и непрозрачная вода.
– Хочешь искупаться? – сказал Андрей. – Я всегда плаваю здесь, когда приезжаю. Пойдем, давай руку. – И она пошла за его рукой с камня на камень, по острым ребрам, осклизлым от подземной плесени, так легко, в своих японских туфлях на поролоне, в цветастой юбке и белой обтяжной майке, по здешней моде, словно опять стала молодой, как некогда…
Он сложил на камень полотенце и одежду. Ровная, плотная на вид вода расступилась, и пошли по ней серебром отсвечивающие складки. Вода была ему чуть выше груди. «Прыгай, не бойся, я тебя поймаю», – и она сползла осторожно на край последнего камня и, еще держась руками за его гребень, опустила ноги в воду, прохладную, но не остужающую, словно ее подогревало внутреннее тепло земли. Он протянул руки, и она скользнула в эти руки и в воду, как в колодец. Одно мгновение стояли они так рядом в воде, когда рукн его то ли поддерживали, то ли обнимали ее. Потом она отодвинулась и поплыла, раздвигая поверхность светлыми, почти светящимися в воде руками. По одного этого мгновения достаточно было увидеть: он смотрит на нее прежними, с улицы Железнодорожной, глазами.
А потом был день, ослепительный и теплый, когда он фотографировал ее через пропасть на каменном краю водопада.
Вода низвергалась с шумом, прозрачными струями, и вздрагивал камень, на котором она стояла, и ей казалось, что вот-вот ее снесет вниз, в тот провал, где они были с Андреем только что. А вокруг – утесы из белого камня, увенчанные сероствольной, голубоватой растительностью.
Обратно они спускались другой дорогой, и черная, как каменный горб, гора в сползающей мантии лесов, в глубине которой таилось чудо природы «Нэйчурал бридж», возникала на разворотах все дальше, и Австралия распахивалась зеленью долин и хребтов, пятнистых от пролысин возделанных полей, только не видно было, что там растет – бананы пли кукуруза?
Банановая лавочка самообслуживания попалась им на дороге – нечто вроде примитивной хижины с надписью «SELF», и лежали в ней под крышей бананы, желтые и изогнутые, как бумеранги, и хурма – золотистые терпкие плоды, сложенные горкой, как ядра. Цена – доллар 10 штук, и ни одного человека на протяжении этих гор, до ближайшей фермы. Андрей насыпал фруктов на заднее сиденье и накидал монет в жестяную первобытную копилку («Здесь вполовину дешевле!»).
Домики ферм – разные – простенькие дощатые, беленые или из желтого кирпича, не менее изысканные, чем на Голд-Косте, с пестрыми клумбами у порогов, появлялись, по ходу, на склонах, у края расчищенного поля или сбивались в кучу вдоль дороги. И здесь же ютилась школа. В тени пустого первого этажа, под сваями, сидели ребятишки с учительницей, спортивно-тоненькой и беловолосой. Ребятишек постарше вез навстречу им пестрый тупоносый автобус – домой, из городка покрупнее. И церквушка высовывалась где-нибудь с краю поселения, старинная со шпилем или совсем современная – одна острая крыша стоит краями на земле, только на красном фасаде вдавлен крест – а так и не поймешь, что это? Бригада ремонтников чистит дорогу. Агрегат, похожий на грейдер, и парень, управляющий им, коричневый от загара, и сухонькие старики в оранжевых жилетах и ковбойских шляпах перекидывают в сторону красную землю.
– Почему они такие старые и работают? У нас такие уже дома сидят.
– Они не старые – просто климат, и потом у нас пенсия – только в шестьдесят пять…
…И опять идут пейзажи сельской Австралии – мягкие увалы под синим сияющим небом, купы кудрявых Деревьев, среди яркой зелени пастбища, похожие на ветряные мельницы вертушки на вышках: – так у них здесь качают из глубины воду. и, конечно, изгороди. Вначале она просто не замечала их, видела только горы в лесах и красоту земли, такой привольной и благодарной…
Изгороди – колючая проволока на столбиках – умело прятались в придорожном кустарнике, пунктирными ниточками рассекали склоны от вершины до подножия на равные квадраты. А потом стала замечать. Практически ты не можешь остановить машину и войти в этот лес, чтобы увидеть небо в просвет веток, потому что лес этот – чужой. Каждый лес – чья-то частная собственность, и если войдешь в него без спросу, хозяин имеет право применить огнестрельное оружие, как к нарушителю собственности. Ты не можешь взобраться на каменный уступ этой горы, и стоять там, и видеть синеву хребтов с высоты, и испытывать чувство восторга, близкое к полету, потому что это – чужая гора! (Есть смотровые площадки в национальных парках – стой, опершись на перила, и фотографируй на здоровье, а здесь нет!)
– Разве ты не хотела бы иметь собственную гору – у нас это возможно, – сказал Андрей, и было непонятно, всерьез он спрашивает или подшучивает. Нет, не хотела бы! Слишком мало – одна-единственная собственная гора, в противовес всем лесам и горам ее страны, где она может бродить и лежать и собирать грибы и дышать ветрами на вершинах!
– Но ты всегда можешь попросить разрешения зайти на чужой участок. Обычно они не запрещают. Мы так и делаем, когда едем охотиться…
Ничего-то не понятно им здесь, и разъяснять бессмысленно! И странно, стоило увидеть ей эти изгороди и понять их смысл, прекрасная зелено-голубая Австралия словно поблекла в глазах ее – поделенная, разрезанная, перегороженная… только океан, пожалуй, нельзя перегородить и распродать по частям. Берега его – да, к сожалению, но сам он – вольный и всеобщий и, наверное, потому, немеркнущий.
Вечерами, когда тень от мыса Каррамбин накрывала пляж и сразу холодел песок, считалось, что с океаном на сегодня покончено и нужно ехать куда-либо ужинать пли развлекаться. Гаррик сменял мятые шорты на выходные, Лиза наводила красоту, и опять приходилось нырять в. машину и нестись, раскачиваясь на поворотах. Небо над материком на западе становилось циста расплавленного металла, и резко очерченной, почтя черной рисовалась на нем изломанная линия гор.
Иногда Лизе не хотелось ехать далеко, и они пробирались относительно тихой дорогой вдоль берега до рыбного магазина, где розовая морская тварь продавалась во всех сырых и вареных видах, под стеклом и во льдах, и остро пахло морем. Они покупали пакет маленьких красноватых, похожих на креветок, подводных жителей, с нежным белым мясом под роговой оболочкой. Гаррик заворачивал на ближайший мыс, где так же, как «У капитана Кука», был обрыв и камни, о которые разбивалась изумительной синевы волна и росли все эти странные деревья, словно ставшие на цыпочки, на вытянутых из земли корнях, колючие, остролистные и хвойно-развесистые. И почти всегда были столы и скамейки, в тени и на ветерке в самой обзорной точке мыса. Они сидели, лущили как семечки эту мелкоту, вместо ужина, она смотрела на океан, как он меняет расцветку к ночи – лиловеет, словно наливается темнотой, начинают зажигаться вогнутые дугой берега, а там, к северу – зарево встает над светящимися столбами «Серфэйс-парадайза».








