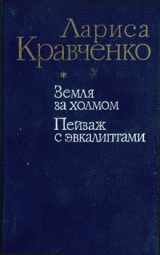
Текст книги "Пейзаж с эвкалиптами"
Автор книги: Лариса Кравченко
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 18 страниц)
Может быть, этим и объясняется стойкая «память Харбина» у них здесь, потому что была точка на карте, где «…молоды мы были и верили в себя», а совсем не исключительными особенностями данного города. И это могла быть любая другая страна – Гренландия – «память счастья» в нашем сознании наградит ее теми же качествами! И «память ожидания». А дальше – кто что выбрал, и как дошел, и что кому досталось – выше или ниже той точки отсчета – вот в чем секрет «памяти Харбина».
Как не любить, до отвращения, должны были этот самый Харбин, как «город изгнания», их отцы и деды, если «памятью счастья» для них стали колоколенка с картины Саврасова «Грачи прилетели», вишневые садочки Черниговщины и прочее, российское, окрасившее сильнейшим чувством Родины домашнее ее детство и, собственно говоря, запрограммировавшее в ней то, что принято называть патриотизмом. И как результат – дорога на целину… Значит, в этом и есть причина: кто и что выбрал, вернее, что кому вкладывалось сызмальства в родительском доме в сознание?.. И можно ли тогда вообще винить человека за выбор? А теперь, через годы, и говорить-то им, по существу, не о чем, что вспоминать? И впереди нет ничего – через пару дней она уедет, и уже никогда и ничего – до конца жизни – с Сашкой и Анечкой… И потому не нужно бы им сейчас никакой душевной размягченности. Но уж слишком теплым и вкрадчивым был канберровский ночной час!
Нечто от сказки «Спящая красавица» являла собой Канберра-Центр, застывшая в движении вплоть до понедельника, когда все опять должно зашевелиться – почти живые позы манекенов за плоскостями витрин, приостановленный поток тканей и даже неизбежный мусор торгового дня в урнах и на обочинах тротуаров, неубранный еще, но который непременно уберут к утру. А сейчас только полутемное пространство, в полосах света от проемов круговой аркады, где нешумно движется посторонняя этому городу толпа.
И сразу – льдистый отблеск, плитчатый квадрат «Гражданского сквера», площадь, как большая зала, степы которой – два взаимно повторенных в архитектуре корпуса, замкнутых в контуре и в прямых линиях, черно-ребристых и оранжевых от освещения, и фонтан промеж них – соответственно как язык рыжего пламени. Контрастом или, скорее, единственным обитателем этой светотеневой пустоты стоит на краю площади, почти на земле, без постамента, словно вырастая из низкой чаши, вытянутая женщина с крыльями из серо-зеленого камня, в поднятых руках – не факел, как у знаменитой «Свободы», а то ли цветок, то ли шестеренка. Греческий узел волос на затылке и упрямый наклон красивой головы. Этос, оказывается, – нечто мифологическое. В данном случае олицетворяет дух единения и верности нации – австралийской (так объяснили ей). Вот мы и добрались до сердце твоего, Австралия! И прощай одновременно, потому что не доступно ей – не разобраться, что вершится здесь, осененное крыльями Этос, и чья рука подпирает тебя надежнее – Лондона или Вашингтона? Потому что – что ты сама по себе: пока еще мирный материк в этом насыщенном атомом мире?
В «Мемориал Вар» Сашка повел их с утра пораньше, и вновь был день такой предельной ясности и синевы и осенней легкости дыхания, что одно это могло окрасить радостью путешествие.
Чуть повыше воды и чуть пониже горы, кудрявой и покато-зеленой у подошвы, размещалось здание, круглоголовое и напомнившее ей сфинкса – желтоватым и розовым песчаником и конфигурацией: назад вытянут корпус-спина, вперед вытянуты лапы-галереи, зажавшие внутренний дворик, где зеркальце бассейна и белый кубик мрамора в красных живых цветах – памятник павшим…
За что, собственно говоря, павших? Разве Австралия имела за свое существование хоть одну собственную войну, разве посягал кто-либо на ее землю и свободу? Нет, но не было, оказывается, военной кампании Англии или Америки, где бы не клали свои головы австралийские парни за чужие дела и из солидарности! И в этом тройственном союзе австралийский солдат считается лучшим по стойкости и выносливости. Еще бы – прирожденные пастухи-погонщики, стригали, земледельцы, круглый год, в жару и дождь к пескам и зарослям привыкшие, с чего бы им быть «слабачками»!? Да и зачем Британии губить собственных парней, когда есть в прошлом подчиненная, а потом дружественная Австралия?
Пройдя по прохладным и комфортабельным залам, вы убедитесь по батальным, в красках выполненным полотнам, сколько же было этих чужих боев, в брызгах и пене тонущих кораблей, самолетов, горящих свечкой над развалом окопов… И сколько экспонатов – от старых пушечек первой мировой до бомбардировщиков второго фронта Европы, и сколько униформ всех эпох – кепи и касок, тропических шлемов: Судан (1885 г.), Южная Африка – война с бурами (1899–1902 гг.), даже Боксерское восстание в знакомом Китае (надо же! – девятисотые годы), а еще – Корея, а еще Вьетнам, когда уже давно кончилась победой вторая мировая война, австралийские парни продолжали умирать ни за что ни про что в джунглях, прикрывая собой «тихих американцев».
Жутковато смотрится диорама: лагерь военнопленных, война с японцами в Малайзии. В бараках из бамбука, без воды и еды, лежат и сидят, в правдоподобном бессилии, тела в лохмотьях – так было! – уцелевшие после освобождения свидетельствуют! (Кстати, было бы освобождение, если бы не наша Армия, рванувшаяся по всему восточному фронту в одну ночь, в августе сорок пятого?)
И одна-единственная подводная лодка-камикадзэ прорвалась к Сиднейской гавани и запуталась в противолодочных заграждениях, не причинив городу особого вреда… Длинная, как сигара, и такая узенькая, что удивляешься, как мог помещаться в ней человек, даже будучи карликом! А там был, живой еще, японский парень, замурованный в железо насмерть… Страшно это, все-таки, бесчеловечностью сути своей. Лодка стоит безобидно на фоне зеленой прелести Канберры, и австралийские дети, не ведая страха, катаются на ее спине, как на доброй собаке. И, может быть, отразить это единственное вторжение удалось бы с меньшими потерями для Австралии?
Сашка выстроил их с Анечкой рядом и нацелил фотоаппарат на хвост лодки, расчлененный как рыбий плавник: «Ты помнишь, как нас гоняли, все школы, в «Модерн» на японскую кинохронику?»
Как же не помнить этого – ощущения головной боли, после полного дня, проведенного в темноте кинозала, и мелькание кадров, повторяющихся иногда, где японские солдаты в «кёвакайках» с назатыльниками тянут через чашу лиан пушечки, напрягаясь, с мокрыми от пота лицами. И как выходят навстречу победителям из захваченного Сингапура, с поднятыми руками англичане в коротких штанишках – теперь она знает их дальнейший путь: бамбуковые бараки и лохмотья на черных телах… А тогда, в четырнадцать лет, ничего знать не хотелось – только хорошо, что на сегодня отменили уроки! И все же скорей бы конец и – на воздух, домой, и есть сильно хочется – что эти граммы липкого гаолянового хлеба по карточкам – для растущего человечка!
И уж точно все они собраны в том давнишнем зале – те, которые теперь здесь, и те, которые теперь там, в России. Сидели, под шумок, как это стали называть в наши дни, «балдели» и даже придумать нельзя было, что кому в жизни уготовано…
Так как же все-таки? Уготовано или запрограммировано в социальных корнях сознания, случайность от воздействия внешних событий, свободный выбор, за который мы отвечаем? Как же, все-таки?
От мемориала к воде шли спуском прямым и широким, как парадный плац. Хрустел красноватый, как кирпичная крошка, песок, почетным караулом стояли вдоль пилоны ухоженной зелени. А дальше, дальше располагалась холмами и лужайками Канберра, вся растворенная в свете и синеве, столь мирная и зеленая, как пастбище, что этот тяжкий, насыщенный войнами, монумент не вписывался в нее и как бы противился окружающему. Живому…
Вровень с бордюром набережной стояла спокойно бесцветная вода, повторяя в перевернутом отражении все эти холмы и круглые шапки деревьев. А прямо, на той стороне, замыкая травяное поле эспланады, как вторая сторона медали, отсвечивал белизной Парламент – респектабельный, как дворцовый ансамбль.
Одна из немногих столиц мира, не объявлявшая войны, – не парадокс ли?
Чтобы покончить с темой «Австралия в войнах», нужно, наверное, рассказать, как, по возвращении в Брисбен, она будет с братом Гарриком на военном параде… Удивительна, не день Победы, a день гибели австралийского корпуса при высадке в Галлиполи, в первую мировую, стал для Австралии «военным днем»!
И будет Брисбен, снова жаркий, как возвращение к лету. Гаррик привезет ее в Сити пораньше, чтобы найти место, откуда лучше видно. И Брисбен будет уже не тот оголенно-пляжный, что вначале, по приезде ее, а пасхальный, праздничный, когда в неторопливом течении толпы много женщин в белом (но уже в шляпах и перчатках – по-осеннему), и много мужчин в белых кителях неизвестного ей рода войск. И вообще, как много оказалось форменного, военного образца, в явно не воинственной Австралии! Даже пресловутая Армия Спасения – наконец-то она увидела их (вернее, показал Гаррик): пожилые, благородного облика леди в серо-голубых, похожих на наши милицейские, мундирах, прямая юбка, туфли на низком каблуке, на сединах – кепи-котелок из фетра в такую жару! И при всех чинах и регалиях! Кажется белым от зноя камень ступеней и колонн (капители – лиственный коринфский ордер), ротонда круглая – беседка без крыши, стоит, завершая лестницу и ограждает, ело видный на солнце, почти неподвижный лепесток Вечного огня. Застыли рядом часовые: сине-белый мальчик – моряк и под защитным широкополым шлемом – пехотинец. И народ, цветы, дети…
Дамы-патронессы прикололи булавками на них с Гарриком синие лоскутки с серебряным штампом праздника в обмен на пожертвование в какой-то военный фонд.
– Теперь мы приобщились, – говорит Гаррик, с той свойственной ему интонацией юмора и добродушия одновременно. – Пошли вниз, скоро начнется!
Наконец-то они вдвоем с братом, так похожим на нее внешне, а выговориться и найти, в чем родственность их, – где тут: бег по кругу!
Они спускаются лестницей, не столь торжественной, как потемкинская в Одессе, но все же… к улице, носящей имя очередной из английских королев, где стоят и ждут у обочины тротуаров люди, не очень густо и не толпясь, вполне можно встать рядом. Кое-кто принес с собой скамеечки – для удобства и высоты обзора.
И вот идут. Те, кто уцелел, остался по счастливой случайности по эту сторону Канберрского мемориала.
Впереди везут бережно на открытом «додже» троих. И табличка с номером войсковой части. Три старика, ветераны первой из мировых войн – очевидцы Галлиполи, может быть. Ровесники Хемингуэя и его «Прощай, оружие!». В аккуратных старинных френчах, при галстуках. Старческие по-разному – суховато сморщенные, в коричневых пятнах, склеротично-одутловатые и ничего не выражающие, кроме довольства своей значимости в данный момент, лица.
И дальше, на машинах собственных и казенных (типа «газиков») – всё моложе, если можно сказать так о шестидесятилетних – тут уже солидные «боссы», на взлете деловой карьеры – превосходство и воля квадратных подбородков, а рядом – работяга, по-видимому, только выпустили на пенсию и усталость неистребимая где-то в глубине глаз и в складках кожи, и явно нет той уверенности в себе рядом со всемогущим соседом, однако – все равны они в этот день, перед народом Австралии – герои сороковых годов! Те, кто в небе над Европой, те, кто в бамбуковых зарослях, на пальмовых островах, как в мясорубке под самурайскими кривыми саблями… Хоть и «в чужом пиру», но все же на стороне справедливости, на нашей стороне…
А вот уже пошла не очень многочисленная Корея.
…Так средних лет мужички, ее ровесники, вполне упитанные, бодрые, типа Сашки и Славки Руденко… Это уже совсем близко, на ее памяти – как двигались мимо окон в Харбине поезда с китайскими добровольцами, как выступали они на митинге в городском саду – «Руки прочь!». Гора Моранбон, «Тетрадь, найденная в Сунчоне», «Янки – гоу хоум!». И как по Новогороднему клубу ходил парень, Вена Дементьев, приехавший оттуда, из командировки, с лицом, обезображенным напалмом. Эти уже на «той» стороне. И нет у нее к ним ничего, кроме любопытства, в лучшем случае…
Колонна последняя – вовсе молодежь, и так много, идут и идут вольным шагом, в хороших костюмах, согласно моде и сезону, элегантные и улыбчивые: Вьетнам! Что тут может быть, кроме злости и обиды – за них. Никто ведь не гнал, как она поняла, армия в Австралии – платная, добровольная. Значит, чем здесь ковыряться в земле, со всеми ее засухами и наводнениями, проще расстреливать с самолетов крестьян на рисовом поле, узкоглазеньких ребятишек! И сейчас, когда она стоит здесь с Гарриком, то же самое пытаются сделать другие – на вьетнамской границе.
Они идут. И, видимо, как режиссерское решение, при подобном зрелище и чтобы не очень удручить обывателя номерами воинских частей и малочисленностью остатка некоторых подразделений, чтобы не навести на мысли ненужные и, вместе с тем, поднять дух патриотизма и единства нации, в интервалах этих штатских ветеранов, идут сегодняшние, молодые и веселые ребята, почти танцующим строевым шагом, розовощекие на казенных армейских хлебах, армия – как временный выход из положения: не попал в университет, пока не нашел работы – там видно будет, а деньги идут – чем плохо? Строй цвета хаки, легонькие рубашки нараспашку, строй – белые, как снег, с головы до ног, моряки. «Вон идет наша единственная подводная лодка!» – объявляет со смешинкой в голосе Гаррик. Так это или не так? А если даже и так, как говорили ей, совсем незначительные собственные воинские силы и вся надежда, в случае чего, на верного друга – Пентагон! А вдруг да случится такое и захочет вчера еще дружественная армада мимоходом проглотить беззащитный материк, как зеленый кусок дыни? Как они отстоят свой дом, эти в общем-то мирные парни?
И чтобы еще красочней было зрелище, перед каждой группой войск, как заставка главы, идет обязательно шотландский оркестр. И здесь уже глаза разбегаются, и не думается ни о чем, а у нее в особенности, потому что такого она не видела. Эти юбочки в складку красно зелено-серо-коричневые, в клетку, над крепкими мужскими икрами. Эти яркие носки с кисточками и шапки с хвостами или перьями непонятно из чего, но впечатляющего, как фейерверки, и плащи-пледы, как трены, за спинами, с бахромой, уложенные наподобие римских тог, и даже красочнее. Музыка волынок, странноватая – визгливая и какая-то пастушеская, что ли. Ничего в ней не говорит о войне, и всем собравшимся здесь, под солнцем полудня, тоже не говорит, а просто о том зеленом островке, откуда волей или неволей приплыли сюда их предки… «Правь, Британия!»…
Со свистом над коридором улицы взмывает в небо треугольник самолетиков – пять или шесть, она не сосчитала. И все головы повернули и заулыбались, особенно дети!
– Это мы купили, не так давно, у Англии! – сказал Гаррик. – Видишь, как мы радуемся! – Ну что ж, дай бог, чтобы только зрелище!..
…Вырвался. Сашка вырвался. Только красная пыль – шлейфом за машиной. От всех своих обязательств, внешних и внутренних, связанных с этой поездкой – перед женой, перед гостьей, перед собой. Он сделал все, что смог, Сашка, даже больше, чем смог бы другой в столь краткий срок пребывания!
Даже в Парламент он пытался их провести (это свободно, здесь каждый имеет право присутствовать и слышать с определенных мест). Просто они не успели вчера вечером до закрытия, и пришлось удовлетвориться прогулкой «в тени развесистых дерев, над стрижкой бархатных газонов», вокруг «Белого дома»»
Даже на Монетный двор он сумел забросить их по пути от Мемориала! В толпе прочих туристов они прошли по коридору второго этажа, заглядывая вниз в стеклянные окошки, за которыми на дне двухсветного зала шел процесс превращения простых металлических кусочков в полноценную монету страны. Процесс происходил неторопливо, на небольших штамповочных аппаратах не последнего слова техники. Неторопливо ходили мужчины в серых халатах, текли струйкой серебристые кругляши, от окошка до окошка постепенно обретающие все свои знаки нарезки и шлифовки. Туристы смотрели, как на невиданное, и даже галдели по-своему, на своих языках, разное – японцы, европейцы, собственные граждане на «уик-энде». При выходе, в просторном, как вокзал, вестибюле, он накупит ей гору проспектов – про Канберру и красную книжечку из сафьяна, с золотым оттиснутым гербом, где внутри, вместо страниц – под пластиком все эти доллары в разную стоимость на память – сувенир: «Когда уедешь – вспомнишь!»
И здесь, когда он сказал так – уедешь, дошло до него внезапно, что она действительно уедет и скоро. И пройдет то обманчивое состояние, как сейчас, что они вместе, словно ничего не произошло и юность продолжается. Все кончится, и уже никогда, до конца дней – на разных материках! Только сейчас, видимо, дошло до него, как неотвратимость, потому что она увидела отчетливо, как отразилось это, словно растерянность, по лицу его, словно судорога пробежала, и как-то он застыл на мгновение с красненькой книжкой в руке… И может быть, что-то значила она для него когда-то подсознательно? Неспроста же он пытался поцеловать ее однажды у калитки, хотя она и любила его друга? Или просто как сестренка, что помогала ему пасти ненавистных коз и вместо него сидела с хворостинкой из ивы на груде камней у забора товарного двора? Камни были почти из благородного мрамора, завезенные сюда на погрузку и временно сваленные, да так и забытые в результате военных действий (Перл-Харбор). Камни поросли травой, и она любила девчонкой сидеть на них, воображая, что это развалины крепости – вечно она воображала что-то, Лёлька! Выручала его в немужском занятии стеречь «машек», а заодно рассказывала ему эти свои «воображения» – Ярославна на городской степе! Уже тогда ему было просто хорошо подле нее – вот в чем дело!
Л она тоже увидела его как бы впервые за все эти дни в Австралии, с лицом, искаженным изумлением потери, и подумала, словно в откровении и раскаянии того, что было содеяно с Сашкой, и не без ее участия, четверть века назад: может быть, не правы они были тогда, и она в частности, что отторгли его от себя, как подгнивший плод, и вышвырнули – уезжай! Хотя и пытались убеждать, но не слишком, больше клеймили позором. А нужно было побороться еще за него, потому что он был свой парень, Сашка, безусловно, и не отдавать его сюда – на «ту сторону», клубу «под двуглавым орлом» и в ланки отца Александра! Хоть и считает себя нейтральным «от их возни», как он выразился, все равно он – здесь! А мог быть там. И нашего «полку прибыло»! По они не умели тогда и не знали, что правильней, а главное, такая была установка – клеймить!
…Она почти не видела снов все эти шестьдесят дней в Австралии, просто сваливалась на ночь в усталости, как подкошенная, на очередной непривычно широкой кровати в очередном доме друзей, где ее принимали. Но в эту ночь ей приснится странное, словно она опять у Андрея на Голд-Косте на «барбекью», как это и было на деле, перед отъездом в Сидней…
Во дворе, на сложенной из камней открытой печурке, на железной решетке, шкворчало на открытом огне мясо. Большие овальные куски в окружении овощей, ярко-зеленого перца и кудрявых листьев чего-то местного, как капуста. Румянились, каплями жира истекали прямо на угли, пламя потрескивало, опадало и вздымалось, и все это виделось предельно реальным, как повторение пролитого, запах жареного и дымный дровяной дух над двором. А двор, от жары – белесый. И все были здесь, те, что в зале «Русского клуба» и еще многие, о которых она не вспоминала давно и не знала, где они – здесь или у них там, дома… Все они совсем не постаревшие, как в действительности, а такие, какими она знала их прежде, но по-сегодняшнему – с тарелками и вилками наготове, сновали под солнцем дворика в дом и обратно и ждали, пока кто-то грузный в белом фартуке по-поварски шевелил на огне мясо – австралийцами излюбленное «барбекью»… (Плохой сон, сказала бы ее харбинская бабушка: «Еда – беда, готовят тебе зло те, кого ты любишь».) И Сашка был здесь же, поуже по Сашка почему-то, а большой нес с заросшими шерстью глазами. Сидел подле нее на траве, и она все беспокоилась, как бывает навязчиво в сновидениях: как же она теперь повезет его – запрещено таможней вывозить из Австралии семена, плоды и животных! Как же она оставит его? Нелепость какая-то! А разбудит ее реальный Сашка, возникший из небытия на пороге дачной мансарды, где спала она ночь:
– Вставай, пойдем купаться до завтрака!
…А пока Сашка вырвался – имеет он, черт возьми, тоже право отдохнуть в свои нерабочие дни, тем более что идет свободное время иностранной пасхи и вся Австралия устремлена сейчас в горы или на пляжи – кто как может! (Карикатура в австралийской газете на пасхальные темы: Христос, сгорбленный под тяжестью креста, идет на Голгофу. И вынужден остановиться перед магистралью: сплошным потоком едут австралийцы к океану – лодки, доски на крышах машин, до Христа им нет дела, а он стоит и никак не перейдет на красный свет к своей Голгофе!)
Сашка гнал машину на дачу – на побережье, на пол-пути между Канберрой и Сиднеем, только хвост красной пыли за машиной, потому что он торопился успеть к ночи, и шел напрямик через горы по проселкам, уже не щадя машины и не думая ни о чем, кроме скорости, – добраться и лечь – дома…
Непогода окружала их и настигала, как вражеская рать. И потому, может быть, что, по существу, это была первая ее непогода на пятом материке, не считая сиднейского дождика, она воспринимала ее как явление, когда все привлекает – тучи, слоями лежащие над перевалом, серо-свинцовые над серой листвой, потерявшей без солнца свой голубой оттенок, и цвета свинца дорога, пока шел асфальт. А когда он окончился, – красная земля, сухая и жесткая, почти не оставлявшая узоров-следов от шин, но вслед им взлетающая пылевидным облаком, похожим издали на клуб дыма, подсвеченный пламенем. Сашка чертыхался, что теперь все забьет – не очистить, но гнал, старался не думать. И еще – успеть бы до непогоды: польет, совсем не выбраться, заскользит, как глина. Занесет на повороте и нет спасения – глухие места.
И они мчались то в сумрачном лесном туннеле, вплотную обступившем дорогу, то вновь вылетая под мрачное небо, переменчивое в движении туч и дальних сухих разрядов молний, похожих на мгновенный разрыв щели – небесная твердь, а за ней – огонь неугасаемый! И все это, вместе взятое, наполняло ее тревогой и восхищением.
Проволока колючая вдоль дороги, уже привычная, не мешала ей. Иногда прорывалась перекладиной шлагбаума, свертком с дороги вглубь – частное владение. Иногда на перекладине висела табличка – «продается земля», переводил Сашка. («Кто-то прогорел из фермеров. Трудно здесь – глухие места».) Иногда в глубине владения, за стволами эвкалиптов маячили постройки – жестяные, рифленые, тоже красновато-рыжего цвета – от пыли и от ржавчины. На роскошной черной машине (типа нашей «Чайки») возник внезапно в этом диком углу мужчина – руки на руле, лицо крупное, красновато-дубленое, губы плотные, с опущенными углами – мина превосходства, на голове шляпа фетровая, широкополая с загнутыми полями по-ковбойски. Хозяин едет к себе домой из города!
И как перепад – завершение мироздания: скалы на высоте, розовые и желтые, в пластах и трещинах, причудливо выветренные, как изваяния.
Передохнули на площадке, на ветерке. Машина поостыла, тоже розово-серая от пыли.
– Встань на камешек, я тебя сниму – последний кадр! Помнишь скалу в Маоэршани?..
Да, но сине-грифельную, в колком малиннике, в трещинах, как в древних письменах. И костер под выступом, как в пещере. Юркина белобрысая голова у нее на коленях. И верный друг Сашка рядом читает Симонова: «…мы так прочно расстались, что даже не страшно писать!» Вот и наворожили себе – «расставание, расстояние, не услышать и не помочь»… Как же не терпелось им вырваться, рвануться из тесной скорлупы Харбина, с его родственностью, дружбой и любовью, в подлинно взрослый мир новостроек, дорог, путешествий. Вот и вырвались – кто куда, на две стороны барьера… Пожалуй, недавно только пришло к ней открытие, что в ряду высших ценностей жизни на земле стоит та внутренняя связь отношений, бескорыстных, когда ни власти тела, ни деловой зависимости, что встречается в большинстве случаев в юности и, как исключительная редкость, – в зрелом возрасте. И потому ценная в особенности. То, что нельзя сделать, купить, организовать. Но можно потерять, и невосполнимо. Такое могло быть у них с Сашкой… Если бы – не на разных материках. А теперь будем писать, разве раз в год что-нибудь: «…Помнишь Пижонхаус?»
Пошел спуск с перевала, словно проваливаться они стали с гребня волны к подножию. Хребты, сизые, вогнутые, вытесняли грозное небо, нависали, сдвигались и заслоняли их от непогоды. А впереди уже просто ночь на побережье, мгла и ожерелья от городков – внизу и ближе, и по сторонам. «Сейчас поворот на Науру, и мы у себя!»
– Вымыться, выспаться, – думает вслух Анечка. – Надо позвонить маме, чтобы не волновалась, как мы доехали.
Глухая чернота поселка без огней: спят или заперты дома? Конец сезона, осень. И совсем рядом справа и низко, на уровне шоссе, просвечивая в темных стволах деревьев, шевелился, светлее ночи, чешуей посверкивая, океан.
Сашка затормозил у поребрика, у стеклянной, как и у пас там, на обратной стороне земли, телефонной будки, только здесь у них, прямо так у дороги, можно говорить по междугородному…
Она осталась в машине, а они вышли оба, она видела их лица за освещенным квадратом стекла, как на экране телевизора, видела, как шевелятся их губы, только слов она не слышала. Сашка приложил трубку к уху и что-то докладывал теще, смеясь, Анечка стояла близко, прижавшись к нему, и подсказывала – супруги… Вообще-то хорошо, что у Сашки, можно сказать, добрая жена…
Что же такое, что же такое настойчиво заставляет ее вспомнить эта стекляшка, освещенная внутри, чернота побережья и океан через дорогу?
Как она, уезжая сюда, звонила тому же Сашке, чтобы он встречал ее, в свой последний вечер на Голд-Косте… Она вышла с Андреем в такую же непросветную тьму из флэта Гаррика, где только что пили чай с тасманским медом, и по телевизору шла невесть какая серия «Анны Карениной» в английском отображении. «Тебе надо позвонить, пойдем, ты сама не сумеешь!» И вывел ее в ночь, и вел до будки под руку, чтобы она не оступилась в своих японских, на одном пальце, пляжных гета.
Песок был еще теплый и мягко пружинил, невидимый под ногами. Океан глухо гудел рядом, выделяясь из темноты только белыми усами пены. Так же близко они стояли в тесной телефонной будке, пока не переговорили. «Конечно, я встречу тебя, не волнуйся», кричал из пространства Сашкин голос. И тогда, после отбоя на линии, и сказал ей то главное Андрей, и на что она, растерявшись, не смогла ответить сразу, как подобает. Или не столько растерялась, сколько сама не знала ответ, положа руку на сердце?
А с утра была бухта Робинзона, как последнее доброе, что ей довелось испытать с Сашкой на том берегу. Точнее, сначала был Сашкин дом с мезонином (в прямом смысле), потому что типовой домик о двух этажах он поднял на сваи, и получилось нечто нестандартное, на каменных столбиках – избушка на курьих ножках, только в обрамлении австралийского буша. Участок за домом еще пуст – кусок горы и кучи щебня. Доски полов и лестниц оструганы до белизны. И ничего еще не покрашено. Оттого, может быть, особенно легко дышалось в доме этом, продуваемом воздухом океана.
– Если бы ты знала, как мы любим наш этот дом!.. Потому, наверное, что все сами – я и Саша, даже раствор – так дешевле, и Сашке так хотелось!
И, безусловно, дом был ближе обликом к той родной Сашкиной хибаре на скосе выемки железнодорожного полотна, на улице Железнодорожной, что еще из мандариновых ящиков слепил Сашкин отец – неудачник, офицер-беженец… И потому ближе к сердцу. И так легко было Сашке в нем, и Анечке, да и ей тоже, если бы она смогла пожить тут подольше. Собственно говоря, нужны ли человеку эти полированные полы, эти выставки фарфора по углам за дверцами шкафчиков? Самой счастливой за всю жизнь была она в беленой будочке на Обском побережье, но об этом – другой разговор…
До чая, который они пили запросто на кухне, из обычных пестреньких чашек и за простым столом под клетчатой скатеркой, отчего чай был значительно вкуснее, Сашка потащил ее купаться.
– Вставай, Лёль, – кричал он сквозь занавеску над дверью мезонина (настоящих дверей в этом доме еще не было). – И что тебе снилось на новом месте?
Сказать ему, что снилось «барбекью» и пес с заросшими глазами? Она стряхнула с себя это наваждение и заодно утреннюю зябкую сонливость:
– Побежали!..
Матово-молочной оказалась рассветная Австралия. Белые стволы эвкалиптов в белесой мгле стояли размытые и нереальные – деревья-привидения… Странная серая птица с узким хвостом и клювом раскачивалась на ветке против окна мезонина и сама с собой разговаривала скрипучим, иронично-хохочущим голосом – кукабарра! Наконец-то, удостоилась – местная особенность!
– Тебе повезло, – сказал Сашка, – не так просто услышать – ей нужен восход солнца!
…Кенгуру она кормила с руки с сестрой Наталией, по пути к ананасным плантациям, коалу – сонного и тепленького, как комок шерсти, мишку размером с кота, гладила в парке под «Старым Сиднеем» с Юлькой и ее австралийским сыном Петькой (коала терпел безропотно ласки, изгибал колесом мягкую дымчатую спинку, но при первом удобном случае старался улизнуть к себе на ствол, где можно спать на весу, обняв лапками материнское дерево. Новые приезжие стаскивали его на барьер и он снова терпел, пряча на груди смешную с кожаным носом мордашку). И черных лебедей она видела на том озере у Голубых гор, перегороженном проволокой с колышками – тоже частное владение! Лебеди плавали запросто, как утки, похожие издали на черные запятые. Говорят, их так много и чего-то они уничтожают, что их даже отстреливают – а вывозить, как ценность, на другие материки – хлопотно и невыгодно!
А последнего «зверя с герба» – страуса эму она увидит завтра в Мельбурнском заповеднике. Он подойдет к ней сам на прямых ногах, как шагающий экскаватор, большой и строгий, взглянет боковым желтым глазом прямо в глаза, но ей будет так смутно и плохо завтра – не до него, и он гордо отойдет, непонятый… Хорошо, что мы не можем знать, что ожидает нас завтра…
Бухтой Робинзона она назвала сама тот плоский бережок за необитаемость – золотой полумесяц песка и стенки отвесов, сыпучие, как бугры на милом ее обском побережье. И сосны, не совсем такие – ниже, ветвистее, но тоже в переменчивом трепете хвои. Твердые ребра корней выступали на тропинке, по которой сбегала она босиком к морю, ступней чувствуя древесную гладкость их – результат дождей и штормов, и шершавость опавших игл, бурых и слежавшихся в плотный ворс. И эта контрастность тепла, сохраненного хвойным настилом и охлажденного с ночи песка, была преддверием вступления ее в океан. Ровный, налитый в бухту, словно жидкое стекло, почти плотный на ощупь, когда она раздвигала руками воду цвета синего купороса. Вода сообщала невесомость, и это бы го почти парением над глубиной, восхитительным, как радость бытия.








