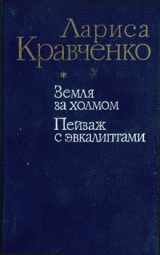
Текст книги "Пейзаж с эвкалиптами"
Автор книги: Лариса Кравченко
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 18 страниц)
4
– Я покажу тебе то, что ты еще не видела, – Сидней-порт. Сегодня воскресенье, и там пусто, но все равно тебе должно быть интересно.
Огромная, стального цвета машина Руденко идет ровно и мощно, и все в облике ее – добротность и кожаная солидность сидений, весь встроенный комфорт, вплоть до бара, изобличает сущность хозяина ее, мужчины.
Лежат на руле руки, крепкие, чуть поросшие рыжеватым волосом, свободные от коротких рукавов спортивной вязанки, крупная шея выдается из расстегнутого на молнии ворота – возмужал Славка, ничего не скажешь! Плотно упираются в машинные рычаги ноги, выше колен открытые воздуху, согласно климату и моде – несомненно, прочно стоит на ногах этот человек, которого она хорошо знала молодым и совсем не знает теперь… Или то, что заложено в нас, неизменно? И кто чем станет, можно увидеть заранее – только приглядеться хорошенько?
Шуршит вполголоса в машине мелодия – русская народная. («Ты знаешь, я люблю это. И у меня неплохое собрание кассет».) И все-таки, не вяжутся между собой «Коробейники» и то, что плывет мимо, – все серое. Причалы и степы без окон (склады) в заклепках, словно борта дреноутов. И подъездные пути, вдавленные в асфальт. И все выметено, почти под пылесос – ни мусоринки, ни ящика. И ни души, естественно, – день нерабочий! Только черно-полосатая труба океанского судна, что торчит рядом за рифлеными крышами, подтверждает, что это – порт и море…
Сколько портов она видела на своем веку, начиная с того давнего, Дальнинского, куда они ездили с девчонками, на преддипломную практику в пятьдесят первом? И тогда был город у моря, странной судьбы, построенный русскими, отданный японцам при падении Порт-Артура и снова русскими восстанавливаемый – для Народного Китая… Цвели в причудливых японских парках глицинии – сиреневым дымом на гнутых лианах стволов. Зелеными горбами обступали рейд воспетые сопки Маньчжурии. Трава шелестела в бурых проломах форта «Кондратенко», сохраненного японцами, как мемориал победы и поражения. И по-братски лежали на военном кладбище под каменным мозаичным крестом и под звездными обелисками русские солдаты двух эпох боев за город. И был порт – Дальний, весь сверкающий синеной Тихого океана.
Катер беленький, в солнечных брызгах, вез их через залив по утрам на практику в Ганьчинцзы, где самая передовая, самая совершенная по тем временам угольная эстакада! Совсем молоденький белобрысенький командированный инженер в белом служебном кителе водил их, девчонок из Политехнического, по ажурным пролетам и объяснял, как работается сейчас в порту совместно советским и китайским специалистам! И как все прекрасно было в ту практику и то начало лета, потому что это было преддверием дела, ради которого она жила и училась – приносить пользу Родине! Правда, вначале здесь, в Народном Китае… И все кипело и двигалось в том Дальнинском порту – черной лоснящейся массой сыпался уголь в недра пароходов, доставлявших сюда из Страны Советов то, что нужно для народной власти, – машины, медикаменты. Вот как оно было тогда.
А где был в ту пору Руденко? Уже защитился и работал в Китайской строительной фирме, как большинство ребят из Политехнического, мотался по командировкам – Пекин, Чанчунь и был женат на той девчонке из их класса. И уже предал Машу. И уже понял, что не может без нее, и тогда стал предавать обеих… И есть ли связь в натуре человека между двумя предательствами – женщины и Родины?
Или нельзя применять это жестокое слово к Славке? Он просто повернул. Как в русских былинах, перед камнем на развилке дорог: «направо пойдешь – голову сложишь, налево пойдешь – коня потеряешь». Собственно говоря, все они стояли перед таким камнем на распутье в пятидесятые годы. И Славка повернул, согласно складу семьи – своей и той девочки, что стала женой его из семейных соображений… Все логично, если несколько раньше, ради этого он отказался от Маши…
…Машу она видела последний раз в том эшелоне, что вез их через границу на целину. Когда красные «телячьи» теплушки замирали у перронов сибирских станций, почти легендарных станций «Зима», «Петровский завод», и на солнечный песок платформ выпрыгивала из вагонов вся масса «маньчжурских» переселенцев в оборчатых платьях по моде пятидесятых годов, в махровых, китайского производства, цветастых майках, ошеломляющая для работников вокзалов, а вокзальных буфетов – тем более, когда, усвоив путевой опыт, Лёлька неслась с чайником к кипятилке, тут и встречались они с Машей, в очереди. Или, разминувшись на ходу около почтовых отделений, – все тогда писали и телеграфировали, кто назад по ходу эшелона, оставшимся в Харбине близким, кто вперед: Маша ехала с матерью, и ее должны были встречать под Иркутском еще никогда не виденные тетки. Машинист давал гудок, состав дергался, и все опрометью кидались к вагонам – где уж тут было говорить о прошлых девичьих настроениях! Стерто, словно резинкой с бумажного листа, и впереди – чистый лист и все заново, так тогда думалось! Такой и запомнилась ей Маша, бегущей за двинувшимся эшелоном, – длинные ноги в белых спортивных тапочках, развевающаяся юбка в сборку из сине-каймовой дабы. Угловатость движения и порывистость, и беззащитность – от близорукости, может быть… Вся, какая есть – в жизни и в любви.
…И теперь, сидя рядом в машине с Руденко, она ждала, что он станет спрашивать ее о Маше (если смотреть правде в глаза, не ее лично – Лёльку Савчук встречают они здесь с такой теплотой и вниманием, жили же они без нее четверть века и не ощущали отсутствия, а некий символ, прибывший оттуда, где у каждого почти остались оборванные нити судеб). Но он не спрашивало Маше. Он говорил о том, о чем и положено мужчине, – о деле.
Кем он работает, применительно к нашей должностной сетке? Выше прораба и ниже начальника строительства. Где-то посередине. Потому, что у него в распоряжении машины и люди – молодые парни-инженеры, и вся мера ответственности.
– Если у тебя есть время, я могу свезти тебя и показать, какие мы строим мощные гидросооружения!
Да, ему нравится то, что он делает. И ничего другого он не хотел бы, ему это по нраву – темп и возможность принимать решения. Или искать сообща с ребятами. У него подобрались толковые ребята. Австралийцы. И с ними можно работать. Когда что-то не удается, он говорит им – ищите, иногда получается неплохой результат. Нечто оригинальное технически. Да, ему просто интересно строить. Для города. А значит, и для людей. И это дает ему удовлетворение. Он согласен строить в любой стране, если это устроит его как инженера. Но никто не заставит его делать то, что он не захочет! И потому, он полагает, не смог бы работать у них, в Союзе («Говорят, у вас – надо, и вы делаете!»). Он не привык так…
А она подумала про себя, что он просто не знает, просто обманывает себя в чем-то. Она примерила его мысленно (как недавно Андрея на Голд-Косте), к тому, в чем жила сама: светопреставлению (по внешней видимости) стройплощадок, с нагромождением серобетонных труб для коммуникаций в неуклюжей толчее панелевозов, качанием кранов, похожих на топ жирафов, и остроконечными, как карандаши, сваями, входящими под ударами в болотистый или мерзлотный грунт, с грязевыми потопами в разрытых котлованах, горами вывороченной земли, в свете прожекторов и морозном мареве ночного монтажа, когда поджимают сроки, и благодатным теп лом бригадных вагончиков, – со всем этим, из чего вырастают, как из скорлупы, новые кварталы. И Славка органически вписался во все это – своим голосом руководящим, за селекторным пультом и даже шапкой золотисто-ондатровой, по сибирскому образцу, над синеглазым, хотя и отяжелевшим лицом. И может быть, для всего этого он и создан был, если бы не повернул?
– У нас свои проблемы. Ты думаешь, легко строить в городе, когда вокруг каждый участок – частная собственность! И нет закона заставить уступить его фирме, если нужно проложить трассу! А мы не имеем права нанести владельцу ущерба – трещину в стене или в фундаменте – за все платит фирма! Знаешь, находятся хитрецы, что не прочь получить с фирмы за ложный ущерб, и мне приходится, как эксперту, решать – могло это или не могло быть? Я представляю фирму. И мне за это платят, чтобы я шевелил мозгами! А как же иначе?
На конце Георг-стрит она и прежде видела высотный корпус, весь обшитый доверху щитами типа опалубки. Что это? Идет облицовка фасада, оказывается. Работают внутри. Нельзя, чтобы хоть капля раствора упала на костюм прохожего. Он может потребовать от фирмы возмещения!
– А теперь смотри – самый дорогой квартал Сиднея. Семьи с капиталом и дорогостоящие женщины. Такого ты не увидишь у себя там… Да, конечно, только мельком, в итальянском фильме, может быть…
Улочки кривые, тупиковые, ветвящиеся и горбатящиеся, круто идущие на спуск и такие тесные, что машина Руденко не может развернуться в них и почтительно пятится. В конце улочки – решетка сада, низкая, но недоступная непричастным, перистые листья растений и ступени нарочито натурального камня вверх на террасу, где плющ и розы и еще нечто австралийское, цветущее красными стрелами. Дома в разных уровнях, повторяя рельеф гористого мыса, парадной лестницей идут к морю – белые с балюстрадами и полукружиями окон, карнизами и пилястрами (девятнадцатый век) – добротность и изысканность, под старину. А может быть и подлинная старина – то, что может позволить себе большое состояние? И ступени вниз – к собственной пристани, где волна качает закрепленные на буях яхты и лодки, как пики-мачты без парусов, и чехлы из яркого пластика – целая флотилия наготове. Кусок личной воды в большой Сиднейской бухте – это тоже стоит денег.
– Ну как? – спрашивает Руденко. – Здорово, правда?
В общем-то, да, только для нее это – кадр из телепередачи «Клуб путешественников», и только, никаких эмоций, красивое, но чужое. А для них здесь, для Славки – может быть, та вершина, к которой человек ползет всю жизнь и доползет вряд ли – из числа приехавших из Харбина, во всяком случае… Холм – «капитолий», где живут миллионеры и, мягко говоря, «куртизанки». Не та компания!
И на фоне этого далеко не вершителем показался ей Славка, такой деятельный и сильный мужчина. Слетел он в ее глазах со своих иностранно-строительных высот и стал совсем прежним, что кружил по доброте душевной в вальсе на школьных вечерах девчушек из их класса по очереди, с разрешения невесты, такой же девчушки.
– Хочешь передохнуть? Тут есть маленький парк поблизости.
На подъем вела дорожка асфальтовая, полированная от влаги – прошел дождик, мелкий и теплый. Руденко держал ее под руку, она могла запросто слететь на своих парадных каблуках. Срезанная, слоеная, песочного цвета, скала шла справа, заслоняя порт и море до поворота. И вдруг – совсем крохотный зеленый пятачок возле самой воды, темные, штормами наклоненные стволы деревьев и камни – бурые валуны, замшелые и скользкие после дождя и отлива. Запах мокрой травы и тишина, каждый всплеск слышен, словно это остров необитаемый… Был тот краткий миг суток, когда день уже, по существу, кончился, а вечер только занимался, еле ощутимая тень легла на все видимое – бухту, сизую, взрыхленную невысокой волной, размытые расстоянием голубоватые столбы Сити и почти прозрачную арку моста.
Постоять бы тихо в садике этом с Руденко и поговорить: есть им о чем, целая жизнь прогрохотала после того школьного вальса. И, может быть, несправедлива она к нему: не для того только, чтоб разузнать, возит он ее по этому городу. И его тоже связывает с нею нечто чистое – пора отрочества, когда полна благородного мужества медь духового оркестра, и взлет на повороте плиссированного фартучка, и косёнки с праздничным бантом – прекрасны, независимо от всего того, что творится во внешнем взрослом мире (страшноватый быт японской оккупации). Когда ничто и ничем еще не замутнено – позднее наступит расчетливость, мужская страсть, компромисс. И Маша – позднее… – то, что заставит тогдашнюю Лёльку негодовать и рвать себя надвое между подружками из одного класса и одного райкома!
…Осень, начало четвертого курса. И год сорок девятый, тот самый исторический – создания Организации, когда неопределенность и пустоту вспышкой взорвала Цель: «Мы – нужны! Мы – должны! Мы – будем!»
Все помыслы в этом большом, словно взлет над мелочью женских терзаний. Так – у Лёльки. И год основания КНР, когда красные фонари и красные полотнища в желтой метели октябрьской листвы, и от этого еще значительней кажется жизнь – свидетель и участник Истории! И еще – осень, пора свадеб, для тех, у кого есть еще нечто прекрасное, никакой истории неподвластное…
И то, что Руденко женится, нисколько не удивляло и не волновало ее, потому что это было известно ей с девятого класса. И, хотя подсознательно привлекал он к себе чуточку, такой добрый, большой и синеглазый, высокое звание «жениха» ставило его вне досягаемости. И она ничего не знала о Маше. Вернее, с Машей они кружились рядом во всем этом потоке новизны – стенгазет, заседаний Оргсектора, и даже можно было назвать это дружбой, но, оказалось, не до конца – в женской откровенности! И когда Маша вызвала ее с последней лекции, постучав ногтем в стеклянную дверь аудитории, она подумала: срочное что-то для райкома – бежать или писать «Молнию». И не сразу поняла, что просто Маше плохо, и ей нужен кто-то живой рядом, иначе она задохнется от горя!
Где-то они ходили – только листья хрустели под ногами в круглом скверике на Садовой и по той, единственной в городе, березовой улице Центральной, белоствольной и оранжевой, до Большого проспекта и обратно. И она водила Машу, обняв за плечи, и не мешала ей говорить, потому что так той было легче, наверное. Им было тепло, даже душно в форменных тужурках – случается такое в начале октября. А потом, по-видимому, наступил вечер, потому что красные отсветы штаба Восьмой армии на проспекте стали падать им на руки и лица – молодая республика еще не сняла своих праздничных фонарей!
Вначале Маша ни о чем не догадывалась… И даже то, что на первых лекциях не было сегодня Славки, не насторожило ее – ну, мало ли что, простыл или проспал… Бывает с парнями. Тем более что вчера, расставаясь, он сказал ей, вечером будет занят – дела семейные. И все у них было вчера, как всегда, и даже лучше, давно им так хорошо не было. Ей, Лёльке, не понять этого, потому что она еще девчонка, но пусть она поверит ей, Маше, что так бывает, когда кажется, способен умереть от полноты того, что происходит с тобой. И это у них так – с первого курса…
И только когда она заметила, что половина мальчишек с утра почему-то «при параде» – в тужурках, галстуках и белых сорочках, порядком измятых, как бывало после ночи на балу, когда нельзя вернуться домой среди ночи (комендантский час, только успеваешь проводить утром девушку и прямо на лекции), и как-то необычно вели себя эти мальчишки: не рассказывали взахлеб о вчерашнем, а прятали глаза от нее, словно сламывает их дремота, никогда такого прежде не бывало, – она спросила напрямик одного из них, где они это гуляли, и Алик Агафонов сказал при всеобщем молчании с нагловатой значительностью: разве она не знает, вчера была свадьба Руденко. (Почему – Алик, она понимает: было дело, она съездила ему по физиономии.)
Маша не смогла больше оставаться в аудитории – одна среди полутора десятков парней, все знавших об этой свадьбе и скрывших от нее из жалости, может быть, или из злорадства. А. прежде она просто их не ощущала – только Славка! И тогда она выбежала и вызвала Лёльку.
Самое страшное во всем этом то, что он смог! Днем быть таким любящим, когда на вечер, на определенный час, уже были заказаны машины, черные, свадебные, и цветы – белые продолговатые лилии для невесты. Наглаженный торжественный костюм ждал его дома, чтобы облачиться и ехать в церковь и стоять там на паперти с глуповато-напыщенным видом (как всегда у женихов почему-то), и ждать, когда та выйдет из машины – кажущаяся чуть повыше и стройнее, чем обычно, в строгом белом наряде с опущенной на глаза короткой фатой – отчего становится загадочным ординарное и не очень красивое ее лицо…
Где сейчас та девочка? Да здесь, в Сиднее! Замужем за украинцем из Европы («Как вы называете их – «бендеровцы», кажется?») и совсем выпала из круга «инженеры и жены инженеров» – своя компания, и он не видит ее. Сыновьям он дал все, что положено, – один кончает университет, такой же здоровый, уже австралиец, в отца, другой женат, работает в Новой Зеландии. А жить вместе они все равно, даже здесь, не смогли.
И странно, впервые теперь, в том крохотном парке, смотрит она на него, тогдашнего, иными глазами. Ну сколько ему тогда было на четвертом курсе – двадцать два от силы, даже младше, чем ее теперешний ребенок – Димка. Можно ли требовать в том возрасте, в том мире с крепко заложенным взглядом: ценность – семья, даже если это нелюбимая девочка под фатой и порочное – все то. что вне брака, и вообще не имеет значения – каждый мужчина проходит через это по молодости, можно ли было требовать от него верного выхода из довлеющих обстоятельств? Или в такие мгновения способностью предать и определяется человек? А если самому ему было плохо и гадко в тот день свадьбы? Никто не скажет теперь. Четыре года оставалось еще до того, когда рухнут в одну пасхальную ночь все родительские каноны, затрещат по швам, как кораблики, семьи – поступай, как хочешь! И кто знает, не предай он свою любовь, – быть ему, вместе с Машей, в эшелоне, идущем на Целину. А там, как следствие, могли быть тоже мощные гидросооружения, только – Братск, Дивногорск. Или тот же БАМ, где сейчас Маша. Совсем иное бытие и, следовательно, – сознание. От каких, оказывается, неприметных поворотов зависит судьба человеческая! И если бы, правда, стоял перед каждым камень при дороге «направо пойдешь – себя потеряешь»!..
– Ты обещал свозить меня на обрыв?
– Сейчас будет тебе обрыв, что надо! А потом на Кинг-кросс! На мой взгляд, это позанимательней!
Толстые, квадратные в обхвате брусья барьера ограждали пространство по кромке земли и воздуха. «Чтоб не кончали с жизнью влюбленные», – сказал Славка. (Шутка? Или доля здешней действительности?) Жуткой до перехвата дыхания была черно-синяя пустота под ногами, где глухо ворочалась кипящая прорва воды. Непроницаемая, как чернила, тугими валами перекатывалась через обрушенные глыбы, ноздреватые и слоистые, как все побережье. И сам обрыв, желто-коричневый, напором воды выщербленный, в выступах и изваяниях, словно портал собора, верхней своей плитой, карнизом висел в вышине, и что там творится у основания его в преисподней, разглядеть невозможно. Только грохот и белые ошметки пены, отлетающие с силой назад и ввысь… («Когда шторм, здесь невозможно стоять – сметет!»)
И океан, который она видела впервые под таким углом высоты, был здесь не тот: блещущий на Голд-Косте и фиордами не зажатый, как на Кловелли-бич. Под пасмурным, почти сиреневым небом из конца в конец раскачивалась островерхими гребнями мощная густая синева со стальным отливом изломов поверхности.
Влажный ветер шел от океана, из глубины и прижимал к ногам легкое платье. Руки ее лежали на дереве бруса, отполированного чужими, прошедшими до нее ладонями, и такое ощущение восторга, равнозначного полету, охватило ее неожиданно над этой вечной синевой, какого она не испытывала, пожалуй, со времен юности. Так же стояла она на верхушке сопки над Трехречьем, и голубые неисчислимые гребни волнами уходили от ее подошв на запад в сторону границы. Но тогда впереди было все будущее – и Родина. А теперь иное: обрыв этот – край земли, куда двигалась она в ходе путешествия и предыдущей жизни, может быть… И хотя географически он не является той южной оконечностью Австралии, за которой уже нет ничего, кроме ледяного океана и Антарктики (ей доведется еще побывать там, на мысе Филлип из грифельно-черных сыпучих скал, куда, говорят, приплывают с полюса погостить пингвины. Но то будет совсем иной настрой души, в яркий день, хотя и тронутый полярным холодком, пестрый от туристской толчеи у таких же брусчатых перил ограждения, и ощущения края земли тогда не возникнет), именно этот сиднейский обрыв станет для нее той внутренней точкой пути, за которой по существу уже начинается возвращение…
Да и отсюда, если стать вполоборота к юго-востоку, по прямой линии рукой подать до Антарктики! И мимо этих обрывистых стен в ворота порта заходят на свою, возможно, последнюю большую стоянку корабли антарктических экспедиций, и советской в том числе. Никогда так далеко не заезжала она от своей земли…
Океан наливался темнотой – к ночи или к непогоде. А Руденко стоял рядом и не мешал ей молчать и думать. Видимо, он считал это состояние в порядке вещей, и, кроме того, он давно знал ее как возвышенную натуру! Кстати, вечер идет к концу, а он так и не спросил о Маше. Что это – мужская забывчивость? Или боязнь растревожить душу? Наблюдала она такое среди русских в Австралии: «Зачем нам тробл [17]17
Тробл (искажен, англ.) – беспокойство, забота.
[Закрыть]?!»
Если оглянуться назад с высоты тонкого перешейка, на котором они стояли, соединяющего материк с тем крайним выступом суши, что подковой замыкал горловину порта, можно было увидеть город в уже загорающихся огнях – словно корзину со звездами.
Оранжевая полоса заката подсвечивала небо далеко, по грани неизвестных возвышенностей. А город ниже был накрыт мягкой чернотой, только блестело отраженным светом розоватое русло Порта-Джексон, там в глубине где-то переходящего в Паррамато-ривер.
Они прошли еще немного вверх и вниз по ступеням вдоль почти невидимого обрыва и стали спускаться к этому городу и к этим огням, зелеными и красными россыпями отмечающими очертания берега, магистралей и повисших в воздухе зданий Сити. На Кинг-кросс!
Что это такое, по существу? Писатель Даниил Гранин посвятил этому главу в книге «Месяц вверх ногами». Явление – в этом что-то есть? Или, говоря примитивно, улица ночных увеселений, куда выплескивается все то, что в дневной жизни сжато внешней благопристойностью? Улица сродни той, из Западной Европы, по которой идут герои бондаревского «Берега», с выставленным за витринами на продажу всем тем, что составляет сокровенность женщины и вообще – человека?.. Где под невинным на взгляд подвальчиком кинотеатра таится мерзость и даже кровь преступления?
– Мы не будем выходить из машины. Достаточно будет с тебя посмотреть, и – мимо! (Будь на ее месте кто-нибудь из ребят, что учились со Славкой и гуляли на его свадьбе, конечно, ввел бы он его в «тайны Кинг-кросс»! Но она все-таки женщина, и он печется о ее нравственности.)
Что можно увидеть из окна машины, которая движется в потоке других машин, правда, довольно медленно, по улице, не очень широкой и не столь освещенной, как хотелось бы предположить, если это знаменитая Кинг-кросс! Только нижний этаж зданий, верх которых размыт мраком, светится пестротой пронизывающих надписей, смысла которых она не понимает, квадратами стекол магазинов, торгующих всю ночь ресторанчиков. И вдоль всего этого переливается толпа, так же плохо различимая в переменчивых бликах света. Но что-то она разглядела, конечно. Мужской состав, в большинстве, разных возрастов, и почему-то много, как показалось ей, китайцев, словно это Сингапур, а не Сидней! И явно туристские компании – благонравного вида пожилые мужчины со своими седыми леди. Из Англии, может быть? Нельзя быть в Австралии и не повидать! И странных парней на перекрестке, в пятне света, рассмотрела она: над волосатой распахнутой грудью, над обтянутым мужским торсом – девичье-белокурая, до пояса заплетенная коса – как понимать это? Такого не увидишь днем, в деловом Сиднее. И конечно – женщины! Сами по себе, как нимфы ночи, присутствовали здесь. Одна почему-то запомнилась ей – не броско одетая – в юбочке расклешенной и спортивного покроя блузке, на тонких каблучках босоножек, мелкие черты совсем молодого лица в обрамлении свободных светлых волос, стояла она у стены в такой нарочито-небрежной и, вместе с тем, вызывающей позе, опершись о косяк, что почти не допускал сомнений смысл ее пребывания здесь. Профессия или просто распутство? Скорее всего – первое. Чувство озноба вызывало это зрелище почему-то. Читать об этом, что где-то «у них там» – в порядке вещей – одно, а видеть своими глазами – другое. Любовь, расцененная на деньги по прейскуранту, – от этой девчонки на панели до того белого особняка, в розах над Сиднейской бухтой.
И в довершение всего – неширокая площадь. Обступившие ее старые здания – узковатые окна, затененные, выпуклые фасады. А в центре – как гигантская жар-птица – фонтан, светящийся желтым пламенем, колесо, вертящееся в воздухе и разбрызгивающее золотые брызги на все это нешумное, но беспрестанное движение Кинг-кросса. Как иллюзорность того, что происходит здесь: включат свет, и спектакль окончится. Говорят, днем Кинг-кросс – не примечательная и даже серая в обыденности улица…
И только в последний час этого дня, когда они сидели с Руденко в низком типа «кабачок» темноватом, пропахшем пряными запахами китайской кухни зале клуба «Мандарин», он спросил о Маше.
И здесь, на липком пластике ничем не покрытого стола и плечом к плечу с посторонними, на чужих языках говорящими людьми, он стал записывать адрес: Иркутская область… И так далее. В кожаную с нерусским алфавитом книжицу…
– Когда будешь в Сиднее, попроси, чтобы тебя свозили на Истершоу, – сказал дядя Максим, провожая ее на автовокзале в Брисбене. – Истершоу – по-нашему пасхальная ярмарка – бывает только раз в год и выставляет все, чем сильна и богата Австралия.
На Истершоу ее повезла Юлька. Кто, кроме нее, маленькой, свободной от службы женщины, мог позволить себе такое – катать кого-то по городу в рабочий день!
И вообще, буквально с неба слетела к ней Юлька, вернее с той красной лестницы в «Русском клубе», у подножия которого она стояла, брошенная Сашкой на произвол судьбы. (Мальчик из детства уже подвез ее на своей машине из церкви и ретировался, а Сашка зацепился где-то по пути между папертью и клубом и еще не прибыл.) В конце красной и ворсистой от ковра лестницы виден был стол, сидела комиссия, и каждый, кто поднимался, расписывался, клал деньги и только тогда входил. А она стояла у подножия и не знала, как быть, потому что ни одного доллара у нее не было в руках, окутанных пышными рукавами платья. И вообще она не знала, на каких условиях вез ее сюда Сашка! Чувство неловкости и беспомощности начинало захлестывать ее, хотя она и делала вид, что просто ждет кого-то. А те, кто проходили мимо, не узнавали ее, и она их не узнавала. Это позднее, в зале, словно спадет временная пелена… В эту гнусную минуту и слетела к ней Юлька с высоты – девчонка, с которой они никогда не дружили прежде, потому что Юлька была младше на класс и на курс, но которую она знала, конечно, потому что нельзя было не знать друг друга в том замкнутом круге Харбина.
– Лёлька! Откуда ты здесь? И почему ты стоишь? Сашка тебя бросил – это так на него похоже! Мне говорили – ты у них остановилась! Пойдем! – И она повлекла ее наверх, по пути бросив на стол две двадцатидолларовые бумажки – цена пребывания, оказывается! Только в этот момент, по законам комедийного жанра, вынырнул и взлетел вдогонку им Сашка, нагруженный коробками с тортами.
– Юлька уже про» ела тебя? Пу и прекрасно, – и тем самым как бы передал ее с рук на руки…
…Истершоу. Если рассматривать конструктивно, – огороженное пространство где-то в черте города, начиненное павильонами разной степени долговечности – от крытых рифленым железом, как пакгаузы, серых корпусов до, всеми красками и флагами расцвеченной, вертушки карусели. Как явление, – это праздник. Австралийцы вообще любят развлечения. Можно подумать, для того только работает, и нелегко, отец семейства, чтобы дать возможность домашним своим, с детьми вот так безудержно толкаться в одержимо-пестрой толпе, тратить деньги на разную дребедень, вроде подарочных мешков со свистульками, бумажными кепочками фирмы «Истершоу», шариками, смешными крокодилами и прочим, непонятного назначения.
– Дети это любят, – говорит Юлька. И младший Юлькин ребенок Пит, или Петька, упитанный и розовый, как все австралийские дети, просто верещит от восторга, натянув на себя страшнющую маску с бородой и огромными ушами зеленого цвета, а старшая девочка, такая тоненькая и сдержанная по-английски за столом дома, упорно тянет их в угол площадки, где в мутноватом дневном небе вертятся, как протуберанцы, «чертовы колеса» различных конструкций. И когда ее, такую благонравную, привязывают цепями к какой-то адской решетке и она, под безумные ритмы современности, взмывает ввысь, так что волосы становятся дыбом и выше колен задирается платьишко, лицо ее становится вдохновенным, как у Жанны д’Арк!
Толпа плотная, жарко дышащая плывет мимо всех этих бесчисленных киосков, будочек, прилавков с горками наваленной бумажно-тряпочной пестроты, мимо надписей и указателей – не так-то просто сориентироваться в ярмарочном городке! И в этой толпе не видят друг друга, как в лесу – от свободно обнимающихся парочек, обтянутых расписными по животу и спине майками (их можно здесь же отштамповать в соседнем павильоне – любой рисунок на выбор и натянуть на себя горяченькими, и почему-то с вымазанными черными лицами; «Так смешнее», – поясняет, уже привычная к такому, Юлька), до толстяков преклонного возраста с голыми коленками, щелкающими фотокамерами и чего-то жующими непринужденно. А можно и здесь же, в толчее, сидя на врытых в землю чурбачках и скамьях за дощатыми столами, перекусить всем тем, что продается в окружности, – пышно-кремовым мороженым или горячими многослойными, не влезающими в рот бутербродами из овощей и мяса, если не хочешь зайти в капитальный ресторанчик с кораблями капитана Кука на деревянных деталях интерьера, где те же плоские куски «стэйков», только поданные на больших тарелках с перцем, картофелем и брюссельской капустой.
А то, из чего происходят эти самые «стэйки» и что, по существу, составляет главную славу Австралии, мычит и хрюкает в тех длинных, как пакгаузы, корпусах. «Надо посмотреть», – тянет Юлька. «Оно» стоит на чистых подстилках из соломы, каждое в своем личном отсеке, – выхоленные и вымытые, громадных размеров розовые свиноматки, а над головами их висят знаки премирования типа грамот и медалей, овцы-бараны, такие курчавые, словно их завивал парикмахер, с крутыми рогами, с шелковистой шерстью до земли, в складках жира, словно ожерельях – такие значительные, словно сознающие себя одним из китов, на которых держится Австралия. И можно увидеть, как стригут рекордисток-овец рекордсмены-стригали (за отдельную входную плату). На помост в похожем на кинотеатр зале выходит парень, тоже кудрявый, могучего сложения, как с рекламной картинки, и выводят ему такого мохнатого завитого барана, плохо подвижного от груза, который тог несет на себе. Включаются электроножницы – минута, и буквально вынимается из вороха меха похожее на голого ребенка беспомощное существо с жалобной, продолговатой мордочкой. А то, что осталось от него – косматое руно, предъявляется зрителям нерушимым как единая шкура – в этом и есть талант стригаля. Австралия – мешок с шерстью – как сказали ей – восемь овец на каждого жителя и коров тоже восемь, кажется! И буренки, пятнистые, с грустными глазами, выходят, как актрисы, на подмостки и позволяют демонстрировать на себе достижения техники доения – карусельную установку, которая вертит их, и бегущее через прозрачные флаконы молоко – нектар жизни.








