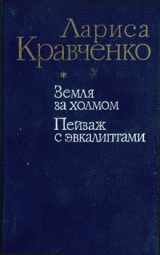
Текст книги "Пейзаж с эвкалиптами"
Автор книги: Лариса Кравченко
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 18 страниц)
И под утро, когда рассвело, мутноватая зелень пригнутых трав, вдоль полотна – роса на них или просто эффект освещения – непонятно. Бурый сыпучий срез выемки; дорожные рабочие на отсыпке гравия – согнутые серые тени; ржавого железа домик обходчика на расстоянии протянутой руки, и на веранде его – куча босых коричнево-смуглых ребятишек, машущих поезду, – штрихи жизни, которой она уже не постигнет.
Другая Австралия…
Неуловимо, по мере хода поезда на север, менялось что-то в мире природы, как бывает у нас, когда свернет поезд после Армавира к Туапсе, к побережью. Уплотнялась и наливалась соком листва, сгущались кроны, пальмы-фикусы стали выходить на дорогу со своими мясисто-стрельчатыми, лапчатыми побегами, и сам воздух влажно-душноватый, и люди на станциях – опять обнаженность коленок и плеч, платья на веревочках: почти забылось о таком в пуританско-осеннем Сиднее. И домики, домики, в памяти канувшие на две недели, из беленьких, косо набитых досточек, на столбиках как на столиках поставленные, продуваемые, с верандами…
Брисбен. Удивительно, но уже нечто «родственное» ощутила она в себе при виде их, как приближение к дому. Потому только, что там ждут ее – своя кровь?
Теперь, когда это приближение к людям, что ждут ее, стало реальным и вопросом пары часов, не больше, нельзя уже было изгонять из себя и прятать под сознание встречу с Андреем, которая также придвигалась к ней неотвратимо. И пора было дать ответ.
– Подумай, – сказал Андрей в радиусе той освещенной телефонной будки у кромки океана. – Я не тороплю тебя, ты просто подумай, пока будешь ездить там пр своим, из ХПИ… Ну что ты теряешь? Ты же сама говорила, что выработала стаж, как это надо у вас для пенсии, и можешь не работать, и посидеть спокойно два-три года в семье, и так делают женщины в твоем возрасте. И если ты могла бы сделать так, живя у себя там, при обеспечении, разумеется, то почему тебе просто не пожить это время здесь? Визу можно продлять до четырех, лет. И при этом ты ничего не теряешь – возвращения и пенсии. А может, не так это и надо тебе? Жизнь покажет. Ты же сама говорила: сын вот-вот женится. И ты не будешь нужна там. С невестками не живут ни у нас, ни у вас, как я слышу. Молодежь – сама для себя. Ради чего же ты упускаешь собственный шанс? Я ничего не утверждаю, но ведь, может, и получится у нас с тобой… Я не хочу говорить тебе разных «любил», – ты не поверишь, через столько лет, и будешь права. Просто – мы взрослые, и мы можем попытаться. И мы не в том возрасте, чтобы терять то, что встретилось…
Что она испытала тогда от услышанного? Изумление? Или внутренне и втайне от себя готова была к этому после купания в подземном озере «Нэйчурал бридж»? Нет наверное женщины на земле, что восприняла бы равнодушно предложение руки, даже от человека, прежде не любимого, даже за четыре года до пенсии… И какая из них скажет сразу «нет», не оставив себе запаса времени, как лазейки, на размышление, а вернее, чтобы просто продлить в себе чудо ощущения «женщины, которая нужна)? (Разве что в категорично-оголтелом возрасте юности…) И можно укрыться еще за соображениями человечности: сказать нет – оскорбить человека. Может быть потом, как-нибудь, все само собой…
И она не сказала. И в таком возвышенном женском настроении вернулась с ним из темноты в яркость и уют вечернею флэта Гаррика, где к тому времени, очень красивая, но похожая на креолку Лина Каренина говорила, рыдая с английским акцентом: «Алексэй!» похожему на приказчика – сапогами и припомаженным зачесом – Вронскому. А Левин ходил почему-то в распоясанной рубахе и босой, как Лев Толстой на картине Репина, и все это на фоне типично английских парковых пейзажей. Телевизор гремел, океан гудел, все были поглощены страданиями Анны, и никто не заметил необычного состояния этой далеко не молодой пары, просто допустить не могли подобного!..
Вот почему с таким задумчивым, созерцательным настроем ехала она в ночном автобусе через Австралию, следя за поворотами голубого пика горы, куда возил ее Андрей, и мимо бара, где ели они сэндвичи с горчицей, – думала о нем и не думала…
И вот почему – дом Юльки, что лег как бы на одну чашку весов, «что могла бы она иметь, если бы»… Безотносительно политической стороны вопроса.
И не потому ли, как один из пунктов размышления к ответу, врезалась ей в мысли та женщина безвестная, на балконе еврейского дома в Мельбурне – пойти некуда и сказать некому? Или каждое свидание в Сиднее было непроизвольно, тоже пунктом размышления к ответу?
Брисбенский вокзал, который видела впервые, показался ей серым, грязноватым и далеко не комфортабельным, как товарная станция в Харбине… На бетонном полу перрона уже стояли снова все транспортабельные родственники ее, как вначале в Брисбенском аэропорту, и ждали остановки вагонов. Видимо, махать и бежать за вагонами, как у нас, здесь не принято. Ну что же, почти дома…
– Письма были!? – первое, что спросила она Гаррика в машине. – Как у меня там Ребенок? Все живы? – И только тогда перешла к информации о путешествии.
Часть третья
Пасха в Южном полушарии
1
Последняя глава. Что еще не дожито, не увидено, не сказано?
Страстная неделя в Брисбене. В Серафимовской церкви, в переулке за домом тетушек, лежит «плащаница» – цветами обложенный, шелком вышитый Христос, пахнет ладаном и горьковатой гарью свечек. Женщины разных возрастов, в шарфах и в платочках «по-русски» (положено – с покрытой головой) подходят и прикладываются, крестятся в прохладной пустоте.
А за окошком все еще раскаленный до белизны асфальт, и магистраль гудит рядом мельканием пестрых машин. И именно это – солнце и движение, так кажется ей, причина раздражения или усталости, что давит ее, охватывает в тиски, вырваться бы, только как – пока конкретно не думается… И подсознательно еще возникает: как у пас там? Скоро майские праздники, надо мыть после зимы окна, а она – здесь… Снег уже сошел и идут дожди. В чем там бегает на лекции ее Ребенок? Надо выстирать плащ, а она – здесь! Скоро сессия – запустит без нее зачеты, и поворчать некому – она здесь!
Она, эта женщина, приезжая из России, в десять часов утра стоит в прохладной полутьме Серафимовской церкви между двух тетушек (тетя Лида – большая, добрая, мягкая, пепельно-седая, и тетя Валерия – величественная, как Екатерина II, сиреневая стрижка, балахон смелых тонов, крупные серьги, крупные бусы) и в очередной раз решает для себя проблему меры поступков своих в этом мире: не обидеть тетушек и не уронить собственной сути в угоду обстоятельств. Одна с непокрытой головой, вопреки окружению. И не может сделать того, что ждут от псе тетушки, – тоже подойти и приложиться губами к «плащанице»!
Пасха в Южном полушарии (иностранная идет еще, русская – на подходе). Плавятся на жаре шоколадные яйца и зайцы. Чуть-чуть схлынул праздничный покупной ажиотаж, но в плотной толчее все еще не подойти к прилавкам – подарки, подарки (так принято здесь) в прозрачных пакетах, в коробках с бантами. В самой круговерти при входе в «Вулворот» стоит, тесно прижавшись, пара – оба длинные, в штаны из вельвета затянутые, светловолосые, только у девушки грива подлиннее – до пояса, и целуются долго и невозмутимо, словно они одни в лесу, а толпа обтекает их, не реагируя, словно это просто цветущее дерево! (Пасхальный ритуал или принцип – жить, кому как нравится!)
Лиза и тетя Жени мечутся на своих машинах в поисках лучшего творога: праздничный стол – о, это вершина, престиж и плацдарм соревнования! И она вместе с ними сходит в бесконечные продуктовые подвальчики, слепящие от яркости света и броскости красок – этикеток, тюбиков, банок, сквозь стекло просвечивающих плодов земли, превращенных заманчиво в массы неизвестного назначения, – не прочитав, не уяснишь! Правда, кое-что и в натуральном виде лоснится розовым жиром, тончайшими лепестками нарезаемое по указанию покупателя! И запах, запах, характерный для чужой еды, который она различает уже, преследует ее всюду – необъяснимый, приторно сладковатый: кокосового масла или специй, неизвестных ей. Или вовсе без запаха – стерильно-сливочная белизна, отвешенная в шуршащий пергамент для тети Жени! Натурального бы, с коровьим духом, молочка, и пить, не задумываясь, сколько это стоит…
В доме дяди Максима моют все, вплоть до потолка, и пылесосят кремовые полы. В кухне, не такой модерновой, как у брата Гаррика, но все же вполне оборудованной, на большом центральном столе сооружается но маньчжурским рецептам торт «Микадо» и австралийский «а-ля Павлов», сочиненный и поднесенный в честь приезда русского балета – нечто растекаемое, воздушное, в зеленой мякоти папайи на поверхности. А рядом, в саду, дозревает тоже тропический фрукт, на голом, похожем на пальму, стволе – грушевидный, размером с тыкву, крокодилового цвета («Как жаль, ты уедешь и не попробуешь!»). И солнце, солнце безжалостно сушит решетки из мелких досточек, так, что краска шелушится под рукою.
В доме Гаррика срочно вставляют зеркало в ванной комнате. И выстилается кирпичом дорожка – будут гости, австралийцы и родственники. И опять все расписано наперед по часам, получается – пасха, каким бы она ни была главным праздником, отнимает остаток дней ее в Австралии… Оглядеть бы последним взглядом океан. И посидеть на песке где-нибудь – попрощаться… Или просто с книжкой полежать на траве, под тем же деревом. Что за книги обнаружила она напоследок в компасе Наталии! Цветаева, Булгаков…
– В каком платье ты пойдешь к заутрене? Мы приготовили тебе длинное розовое, у нас так принято – к заутрене в длинных платьях!
Милые тетушки! Они помнили и любили ее еще в те времена, когда малышом годовалым она висела на руках у них смешным человечком и махала им вслед ладошкой в минуту отхода их поезда Харбин – Дайрен (чтобы потом, пароходом – в Австралию), и оттого сегодняшняя их нежность к ней и забота без интервала времени и разделенности. Правда, в глубине души она подозревает, что устали они порядком от ее «светской» жизни. Придут с визитом к пасхальному столу такие же старожилы из Вулгангабла, а тут – ее чемоданы недопакованные, вещи купленные и дареные, даже Юлькина шкура кенгуру проветривается на солнышке на перилах – перед дорогой! Никакого порядка в доме!
– Хочешь, я возьму еще дни на работе, – говорит Гаррик, – и свезу тебя в центр Австралии. Ты нигде больше не увидишь такого!
Как ни манит это ее – уникальная красная пустыня, расщепленный, прокаленный камень цвета драконьей крови (Королевский каньон), оранжевые дюны (па первом плане – верблюд), а главное – огромнейший в мире монолит, страшноватый в своей складчатой обтекаемости, словно освежеванная туша (ритуальный алтарь аборигенов), как ни сознает она, что это единственный ее шанс увидеть неповторенный в мире ландшафт – остывшее горнило мироздания, как ни готова она, вопреки дикой усталости рвануться и туда еще, чтобы увезти с собой Австралию в полном комплекте, не разумом даже, а внутренним ощущением она знает, что надо уезжать.
– Ладно, Гаррик, в следующий раз… – хотя отлично понимает, что следующего раза не будет…
Да еще странный конфликт с дядей Алексеем… Нечто непонятное ей произошло, пробежало промеж них – «расконтачило», как сказал бы ее Ребенок. Короче говоря, он прекратил с ней всякие родственные отношения. Выражалось это в том, что они с тетей Жени перестали приезжать к тетушкам в дни, когда она сидела дома, мягко, но было отменено приглашение к ним в дом на пасху, и в последний ее австралийский час в аэропорту будут налицо все родственники плюс Андрей, кроме дяди Алексея…
Она просто удивилась вначале, отчего это и что происходит? И выясняла у тетушек. Тетя Лида отмалчивалась. Тетя Валерия, с присущей ей прямотой, заявила:
– Зачем ему причинять себе тробл?
И опять-таки, она не поняла тогда.
Позднее, сопоставив дни и события, найдет точку отчуждения, и это вовсе изумит ее: настолько не совпадает с ее понятием родственных отношений!
Дело в том, что он взял на себя миссию снабдить ее обратным билетом, и в один из дней на страстной неделе они отправились втроем, с тетей Жени, в Сити, в компанию «Квонтас», где и был забронирован (как она считала) билет на самолет, еще перед отлетом из Москвы.
Бесшумно и сами но себе раздвинулись стеклянные двери. Мягкий голубой пол лег им под ноги, и в окружении красочных и глянцевых проспектов, с летящим, как язычок пламени, краспым кенгуру, они подошли к одной из нескольких похожих на кинозвезд девушек за компьютерами, что должны были подтвердить подлинность ее билета. Девушки были в одинаковых, фирменных цветов, элегантных пестреньких блузках, пластмассовый ярлычок на груди, где фамилия, фото и еще чте то опознавательное. Их девушка, тоненькая, изящно пошевелила длинными и прекрасными, как произведение искусства, пальцами по клавишам, что-то побежало там на экране зелеными светящимися строчками, и чере:; минуту, при переводе дяди Алексея, она узнала, что мест на тот рейс нет и билета у нее тоже – соответственно, а как там получилось в Москве, что ей записали это в пухлую, заграничную, похожую на чековую книжку Аэрофлота, они не знают.
Нужно было отойти в сторонку, сесть в мягкие кресла и ждать, пока та девушка выяснит, что сможет для них сделать на ближайшие рейсы компании (поскольку да билет уплачено, и все права на ее стороне).
Так и нужно было сделать, наверное, тихо отойти и ждать, так они и сделали, в общем-то… И тут именно она новела себя неправильно. Сидя рядом с дядей Алексеем на низком диванчике, она начала говорить и, по-видимому, громче, чем принято у них здесь, и к тому же на своем, не принятом здесь, русском языке, и с той горячностью возмущения, что совершенно естественна при подобных ситуациях у нас, там: как это так, да она же заказывала за два месяца заранее, и что за порядок?
Короче говоря, она забыла, что не у себя дома и что это – не родной Тюменский аэропорт, где билась она тщетно к стойке регистрации, сквозь одетые в дубленки, как в кольчуги, спины парней-нефтяников – летит очередная вахта, и билетом своим с командировочным удостоверением потрясала в протянутой руке, и самый громкий ее голос («У меня завтра совещание в горисполкоме!.») тонул, как жалкий писк, в слаженном могучем хоре этих мужиков, знающих себе цену при деле государственной значимости: Тюменьнефтегаз, трубопровод Уренгой – Ужгород. И когда, наконец, девушка с крылышками из жести на синем меховом пальто – стюардесса или диспетчер, сжалившись и с акробатической точностью, выхватила, ее билет через головы орущих парией и закричала ей, в свою очередь: «Быстрей на посадку!», и она побежала, вся мокрая и раскосматившаяся, с капюшоном, съехавшим на ухо, к тем заветным дверям, где подхватило ее потоком – шел рейс на Ханты-Мансийск, разве думала она, что не так вела себя?
А через. пару часов сидения в холодном и темноватом самолетике вдруг выплыл внизу из морозной мглы белый лебедь – Тобольский кремль на белом берегу Иртыша – обрывы и башни – как единое снежное чудо, и солнце, пунцовое на закате дня, как во времена последней битвы Ермака с Кучумом, нависло над всем этим, старожилом здешних мест, и над ней – на плоском оледенелом пятачке аэропорта, где приземлились они для нее одной, как оказалось! Для нее, вернее ради утверждения ее проекта, собирались назавтра запятые, безусловно, люди. Ей надо было лететь. Все правильно и естественно – в ее мире!
А здесь, получалось, все что-то не так она делала, не понимая того. И Сашка шипел на нее, как змей, в Сиднее, когда заходили они в абсолютно пустой, по ее понятию, автобус: «Скажи сорри! Ты задела эту даму!» Да никого она не задела, боже мой, она даже близко к ней не прикоснулась! Сашка замучил ее этим: «У нас так не принято», но при всех ее зарубежных промахах, в самом главном где-то они оставались друг для друга прежними. Или тут она тоже обманывала себя?
…Дядя Алексей и тетя Жени сидели рядом с ней и молчали. Он как-то странно пожевывал губами, она – с застывшей улыбкой, словно происходящее не имело к ней отношения.
Довольно скоро их пригласили к барьеру, к компьютеру, и все устроилось, не совсем прекрасно, но вполне терпимо, с остановкой на сутки в Сингапуре (вот для чего – посольство в Канберре и сингапурская виза), но с дядей Алексеем на этом международные отношения закончились.
Действительно, чего ради ему причинять себе беспокойство души, потому что, несомненно, он искренне страдал из-за нее в тех креслах респектабельней компании «Квонтас»! Во всяком случае, он сделал для нее все, что мог. И пусть дальше с ней занимается сестра Наталия! Возможно, в этой позиции утвердила его тетя Жени? Или сами тетушки?
И в пятницу на страстной неделе она едет в машине Наталии в горькой растерянности, и весь путь до университета твердит: «Как же так? В любом конфликте с «компанией» дядя Алексей – родная кровь, должен быть на ее стороне» (так она понимала). Потемки чужой психологии…
Впервые, за два месяца кружения, уже не смутным состоянием тягости, а вполне конкретно ощущает она желание перенестись, исчезнуть отсюда – домой, к устойчивости и определенности… А нужно собрать себя воедино, потому что едет она в Квинслендский университет на давно намеченную встречу – кафедра русского языка… И это – достаточно важное дело в глазах ее, как представителя своей страны, чтобы распылять себя на нечто семейное!
– Не стоит принимать близко к сердцу, – говорит Наталия. – Дядя Алексей такой человек, и мы его знаем. Я полагаю, тебе лучше подумать сейчас, о чем ты станешь говорить со студентами.
Собственно говоря, Наталия была тем первым человеком из родственников, кого увидела она в аэропорту, когда «боинг» тяжело сел на землю и в прохладный от кондиционеров салоп дохнуло сухим жаром Брисбена.
В зале аэропорта она, еще изолированная от встречающих, что цветной и неразличимой толпой мелькали на расстоянии за решетчатой дверью, подкатила свою тележку с чемоданами к стойке таможенного досмотра… И тут начались первые ее неприятности за границей!
Чиновник в серой сорочке с галстуком, чисто выбритый, чисто вымытыми руками выбирал из ее чемодана все многочисленные ложки и матрешки – сувениры в русском стиле, что везла она, и раскладывал на столе к изумлению прочих чиновников и свободно проходящих пассажиров. И она не поняла, какие претензии к ней у таможенной службы и к тем безобидным деревяшкам? И уже начала тихо впадать в отчаяние, что ее почему-то не пускают на эту гостеприимную землю. И тут, прорвав чиновничьи кордоны, к ней за решетку ворвалась Наталия.
Они никогда не виделись прежде, но это могла быть только она, не столько фамильным сходством черт, сколько той деловитой уверенностью в себе, что свойственна, пожалуй, женщинам работающим на всех материках, и что дается непроизвольно независимостью их от мужчины.
И все это подчеркивалось спортивностью низких туфель, сумкой на ремешке, холщовой отглаженностью юбки. Прямое крыло волос набок спадало на щеку – портрет сестры Наталии. Резкость и порыв, только лицо оставалось округлым, женственным, как бы защищенным модными темными очками. И этот контраст внешнего облика и лица и составлял, пожалуй, необъяснимый эффект обаяния…
Инцидент с таможней вскоре был прояснен: оказалось, им пришло в голову, что под видом матрешек она ввозит в их страну наркотики (действительно, очень удобно – в полом нутре!), тем более что прибыла она самолетом из Сингапура, который славятся этим черным делом.
Наталия твердила им что-то долго и убедительно, с применением слова «Moskow», и, наконец, они сдались, разрешив, из почтения к Москве, не вскрывать ее деревянную символику.
…Возникли уже, на подъезде, кварталы цветами ухоженных коттеджей (профессорского состава) и сплошные поля-стоянки машин (студенческого состава) всех марок в блеске стекла на солнце, ждущих хозяев с лекций.
И в виду массивной, как пилон, квадратной башни главного входа, где реет над парапетом государственный звездный флаг, а в шипе дверей выбита надпись-девиз: «GREAT IS TRUTH AND MIGHTY ABOVE ALL THINGS» – «Велика истина, и превыше всех вещей», как перевела Наталия, стали отходить от нее ненужные мелочи бытия и восстанавливаться тот внутренний климат души, что обычно сопутствовал в ней Делу.
Она была уже здесь с Наталией в те первые ее дни душевного растворения и радости, между поездкой на ананасные плантации и золотым побережьем Голд-Коста, в ослепительно яркий день, и три главных цвета остались составляющими в ее памяти: почти безоблачной синевы, густой зелени газонов и розовых, с сероватым отливом стен из местного туфа. И еще остались – атмосферой молодости. Потому, может быть, и свидание в Сиднее с такой лёгкостью перенесло ее в собственный ХПИ? Университет – как подготовка восприятия…
На плоских, отбеленных солнцем ступенях – движения лиц и одежд оливковой смуглости Индонезии и Океании, белокурости, с удлиненным овалом лица – потомков Британии, не говоря уже о всеевропейской смеси народов – дети «новых австралийцев», и русских в тем числе; пестрота тканей – от джинсовой жесткости и синевы до расписных жатых ситцев Таиланда и Сингапура; обнаженная хрупкость плеч и возмужалая стройность ног – игроков и пловцов спортивных команд университета; мягкая поступь кроссовок и деревянный стук сабо, сандалий на одном пальце, а иногда и босая девичья ступня с королевским величием нисходит из-под пестрого, в пол, сарафана. И в том же круглом внутреннем дворе университета, где ждала она условленного часа, на плотном стриженом ворсе травы, как на ковре, лежала, сидела, читала, занималась и просто спала вся эта молодость, непринужденно, цветастыми кучками на солнцепеке и в пятнистой тени отдельных развесистых и декоративно-круглых крон деревьев. Розовым строем шла вкруг двора аркада – резной, теплый на ощупь камень, над каждым пролетом глядит из степы голова – основоположники университета, и в каждой – нечто от Фауста: в докторской шапочке, в аскетичной сухости черт, в лукавой мудрости маски-изваяния…
В аудитории русского языка, куда привела ее Наталия, стеклянные кабинки, как соты, с аппаратурой и пульт управления – длинный профессорский стол. Наталия нажимает клавишу и задает вопрос в микрофон, и там, в звукозащищенной среде, девочка или мальчик отвечает серьезно старательно и на том абсолютном, но не натуральном русском, что порождают тексты иностранных разговорников: «Скажите, Петров сейчас у себя в комнате?» – «Нет, Петров ушел в столовую. В комнате Иванов…»
И все-таки это – русский язык! И он драгоценен здесь, за бог весть сколько километров от России, на оборотной стороне земли! И потому еще, что он – не в доме русского перебежчика, где ему положено быть и где доживает он, уродуясь все более с каждым поколением, а сам но себе, изучаемый с предельным уважением, которое доступно этим девочкам и мальчикам не нашего мира. Потому, что они выбрали его как специальность. «Приему именно?» – спросит она позднее некоторых из них. «Чтобы иметь возможность читать русскую литературу», «Чтобы работать в Компаниях, ведущих дела с Россией», «Потому, что просто меня интересует ваша страна»…
Не надо заблуждаться, что среди этих, теперешних таких милых и юных, старательно ломающих от рожденья сложившуюся жесткость губ на мягкость славянской артикуляции, не будет таких, что употребят эти знания во вред ее стране, – таков настоящий раздел мира, мы и они, к сожалению… Но будут и те, кто, при знании языка, сами смогут проникнуть за изгородь лжи и понять и взвесить, на чьей стороне правда… А это уже – много…
В.кабинке у студентки плакал ребенок, и та ничего не могла сделать с пим, и разрывалась между мукой материнства. и вопросами лектора, и отвечать не могла – сбивалась, и слезы впутывались в нелепые фразы про Петрова и Иванова. Наталия пошла и взяла у нее ребенка. И так и сидели они втроем у лекторского пульта, и это крохотное рыжеватенькое англо-австралийское существо, как бутон, выглядывающее из белых младенческих трикотажей, сразу замолкло и по-деловому таращилось голубой оловянностью глазок на пестрые кнопочки, па. двух незнакомок. И Наталия, задавая свои вопросы, одновременно нянчила его, и баюкала, с той исконно русской бабьей сноровкой, что удивительно было наблюдать в руках женщины, родившейся вдали от России, кроме того, не имевшей своих детей. Как же глубоко заложена в нас наша народность, проявляясь через поколения, та самая, что мудро подметил Лев Николаевич Толстой в своей «графинюшке» Наташе Ростовой…
Студентку-маму и студента-папу, абсолютно рыжего, до золотых крапинок, протянувшего длинные ноги по-домашнему на траве, они увидят с Наталией снова, после встречи, на покатом и ярко-зеленом склоне к озеру, в черте университетского городка. Папа с мамой дружелюбно покивают Наталии, малолетний «бутон» будет занят, сосредоточенно пытаясь встать на четвереньки, на свою отечественную траву, по которой предстояло ему ходить…
Как прошла встреча? Как и следовало, на международном уровне. Они собрались в комнате деканата, где шкафы но степам и расписания лекций, как во всех деканатах мира, только здесь на английском языке. Плотный, похожий жизнелюбием на Кола Брюньона, профессор, худые, научного вида очкарики-лекторы помоложе, отличающиеся от кадров нашего Академгородка только голыми загорелыми коленками. И десятка два этой молодости, тонкорукой и даже босоногой, в девичьем варианте, и с мальчишеским выражением самоуверенности выбранного пути – у сильной половины рода человеческого.
Стараясь укротить привычный темп речи и подбирая более простые слова, она говорила сама о своей Сибири, и Обском море, и городе науки в сосновом бору, все, что принято и что нужно говорить в таких случаях, и отвечала на их медленно и правильно сформулированные вопросы – о том же. И что было главным во всем этом для пик, по-видимому, – не всегда понятная, но все же живая русская речь. И то, о чем она говорила, для них – как вести с иной планеты. А для нее? Впервые за два месяца в Австралии она просто была сама собой. И могла говорить по-своему, без сноски: как это воспримут очередные хозяева дома – с их сложностью эмигрантских амбиций? Здесь была она человеком своей страны, и пока она говорила, никто не поднялся и не хлопнул дверью, как та дама в «Русском клубе» из газетки «Единение»!
Университет на зеленых холмах, в излучине реки Брисбен, зеленый городок-государство остывал от палящего дня в приглушенных тенях, в красноватом освещении заката. Краснотой насыщались, тепло излучали прогретые за день плиты аркад и колонны, как стволы дерев, бросали на траву косые полосы. И гул городка затихал, вернее смещался к тем зданиям общежитий и студенческим центрам, где книжные лавочки в пестроте суперобложек, и бюро путешествий с проспектами и картами. «Паши бушмены, – скажет Наталия про двух симпатичных девушек, гладко-русоволосых и румяных, одинаковых, как двойняшки. – В каникулы ходят пешком но лесам Австралии – у них здесь так…» А у нас не так разве – по местам боевой славы, по старым церквушкам Суздаля? С чего начинается Родина?
Наталия говорила о своих делах с женщиной из турцентра, а она стояла и смотрела на гирлянды всего для спорта. Над прилавком – алая манка, на спине смешная картинка – парень с девушкой верхом на рогатом буйволе и текст: нечто па тему сессии – университетский юмор… Привезти такую Димке, тот будет доволен, дурачок – «фирма»!
И внезапным пронзением сквозь всю эту прелесть мощенных плитами двориков, плакучесть прозрачных ивовых веток, вечернюю мирность ландшафтов, почти деревенских, под тающим небом у вод, в дыхании стриженых трав увидится ей не очень изысканный сквер против НЭТИ. Только что выметен на субботнике мусор зимы, но живописность бумажек застряла еще кое-где в густоте голых кустов, подсохшая к маю земля пуста, во вот-вот проклюнется первым пушком весны. На лучевых дорожках, вдоль литых чугунных оград, сидят на монументальных скамейках девчонки во всей современной элегантности, красоте и рослости сибирячек, ждут, влюбляются, утопают в книжках, а мимо идет, по-журавлиному переступая мокрые выбоины асфальта, ее Ребенок, голову задрал высоко, не от зазнайства, как может показаться – от предельной стеснительности, и не видит никого – не пришло еще время любить, быть может? Или, наоборот, своим переполнен, что она знает о нем? А солнце мягким теплом заливает фасад, светлый от силикатного кирпича…
Так больно ей станет вдруг от того видения, до перехвата дыхания…
– Что с тобой? – спросит ее Наталия, уже в машине. – Ты просто устала, я понимаю тебя. На пасхальной неделе я свезу тебя на Красные скалы. Там – тихо. Ты полежишь, и мне нужно поработать.
Наталия, вот кто останется с ней рядом на финишной прямой пробега по Австралии. За две недели до истечения срока ее загранвизы.
Бам! Не очень решительно ударил в темноте колокол на Серафимовской церкви. Заутреня.
Тетушки в церковь не идут, это тяжело им по возрасту. Они накроют стол на двоих и будут разговляться, отвечая на телефонные звонки: «Христос воскресе!» – «Воистину воскресе!»
Наталия заедет за лей в половине двенадцатого, и надо успеть отдохнуть и переодеться во все пасхальное. От дли иного платья удалось отказаться. Она идет к заутрене в. том палевом, прозрачном, от «Малуфа», что покупали тетушки. И они на этом успокоились.
Звонил с Голд-Коста Андрей. Он был занят – красил свои бизнесовые «флэты», и приедет прямо к заутрене, и там они встретятся, а потом, все вместе – к столу, к дяде Максиму…
…Бам! Через дорогу, по ту сторону магистрали, ударило на соборе, в провале ночного города. Странно не вяжется этот звук – голос российских, колоколе к с влажным хлопаньем листьев фикуса в саду у тетушек, крупных, и мясистых, как ладони, и со всей этой ночью, по-тропически черной и жаркой, как. остывающая духовка, в сладковатых запахах гудрона, бензина и эвкалипта.
Как не похожа эта на те пасхальные ночи в Северном полушарии, что были в начале ее жизни безотносительно к «вере в бога» – просто праздник семьи и весны. Совсем давно, когда после страстной недели наконец-то засветится дом крахмальным полотном и красной лампадкой в комнате бабушки и, глядя на зеркально-глубокое от темноты окно, только и ждешь этого первого удара на колокольне, чтобы идти подле взрослых, осторожно ступая башмачком по невидимой и корявой улице Желез подорожной, и белый кружевной, шарф – на маме, в потемках, как нерастаявший снег… Зябкая свежесть апрельской, ночи проникает в тебя, и оттого ли легкость особая в походке и дыхании, или так уж прекрасна невыразимо эта ночь, высокой синевой в. чистых холодноватых звездах!








