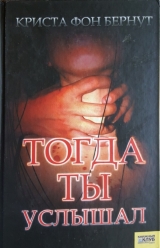
Текст книги "Тогда ты услышал"
Автор книги: Криста фон Бернут
Жанры:
Криминальные детективы
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 20 страниц)
11
Убийства, как правило, совершают знакомые, и убийства, как правило, совершают мужчины. Каждый патрульный полицейский постигает это на первом году работы. Об этом даже не нужно говорить. После определенного количества дел это становится понятным даже самому тупому.
Впервые Мона задумалась над тем, как чувствует себя полицейский, когда арестовывает человека того же пола, что и он, который избил свою жену до смерти или до полусмерти. Что он чувствует при этом? Задумывается ли о собственной склонности к насилию? Или просто делает свое дело, как будто это его вообще не касается?
А как насчет нее? Думает ли она о жертвах? О женщинах, которые не бросают своих склонных к насилию мужей, или бросают только тогда, когда у них появляется хоть какая-то перспектива. Нет, не думает. Тогда ей пришлось бы заявить, что эти жертвы – идиотки, а ей этого не хочется. Это ни к чему хорошему не приведет.
Но что бы делала она сама в таком случае, если бы, предположим, любила своего мужа? Пока ее не били, но обижали по-другому, и очень даже часто. И как правило, из этого она либо не делала никаких выводов, либо делала, но слишком поздно. Когда душевные раны уже были нанесены и нужна была целая вечность, чтобы они зарубцевались.
Антон утверждает, что у мужчины есть два варианта совместной жизни с женщиной: насилие или отступление.
Мужчины не любят зависеть от женщин, говорит Антон. Когда они чувствуют себя зависимыми, это делает их агрессивными. Но мужчины, как думает Мона, странным образом не испытывают проблем с тем, что могут впасть в зависимость от других вещей или людей. Например, от работы, от шефа и, в первую очередь, от собственных представлений, что это значит – быть мужчиной. И если присмотреться к кому-нибудь, например, к Фишеру, то становится понятно, что он по-прежнему так же упрям, как и много лет назад.
– Что для тебя значит быть мужчиной?
– Э?..
– Ты меня очень хорошо понял.
Вечер, они едут по Доннерсбергскому мосту по направлению к автобану, ведущему на Зальцбург. Теперь за рулем сидит Фишер. На его лице не такое отсутствующее выражение, как обычно, когда Мона находится поблизости, но это вполне может быть следствием мягкого красноватого света задних фар машин, едущих впереди.
– Странный вопрос.
– Несмотря ни на что, я хочу получить на него ответ. И прямо сейчас. – Мона говорила негромко и, тем не менее, почувствовала, как изменилось состояние Фишера. Он бросил на нее короткий взгляд. Потом поглубже опустился на сиденье, положил левый локоть на край окна и небрежно взялся за руль правой рукой. Не хватало только, чтобы он нажал на газ – в вечерней пробке это может плохо закончиться.
– Спасибо, – сказала Мона. – Думаю, я поняла.
Именно Даннер формировал и вдохновлял их сообщество. Он один. Сейчас, когда его не было с ними, они особенно отчетливо понимали это. Преподаватель по социологии, которого они называли Козлом за дурацкий мекающий смех, в меру сил пытался занять место Даннера. Конечно же, это у него не получалось. И они давали ему это понять. Нападая на него все вместе, они ощущали былое единство.
Но вообще-то группа распалась. Ее ядро, то есть Стробо, Сабина, Марко и Петер уже ходили к нему домой, в деревню, но хранили это в строжайшем секрете. Остальные четверо членов кружка больше не знали, что им друг с другом делать: их гнева, вызванного тем, что они не принадлежат к костяку группы, было недостаточно, чтобы развить у них чувство солидарности. Они догадывались, что их очень ловко провели.
Но в одном они были единодушны, и это даже не обсуждалось: Берит Шнайдер – предательница и ее нужно наказать.
Поэтому Берит находила свое имя на исцарапанных партах: Berit is a whore. Asshole Berit[12]12
Берит – шлюха. Задница Берит (англ.).
[Закрыть]. Иди на х…, Берит.
На площадке для курения, самом важном месте для встреч и контактов в послеобеденное время, она обычно стоит одна между группок учеников. Как будто презрение их кружка заразно и распространилось на остальных учеников. Никто не разговаривает с ней, никто не задается вопросом: «Почему?», а ей так хочется объяснить кому-то. Всего лишь неделю ей приходится выносить это всеобщее неприятие ее персоны, а ей уже кажется, что больше она не выдержит.
Вчера она звонила родителям, лежа в постели и прижимая к мокрой от слез щеке мобилку. Ее родители живут в Берлине, у отца есть подруга, которая теперь разводится, а у матери – любовник, который еще учится. К счастью, дом в Райникендорфе настолько велик, что там можно легко затеряться. У обоих родителей есть телефоны, поэтому Берит обычно звонит им по очереди: сначала маме, потом отцу. Мать покупает и ремонтирует недвижимость – целые дома или по нескольку квартир сразу, а потом продает отдельные квартиры. Обычно она рассказывает ей о рабочих, которые ничего не соображают, или о властях, которые ей мешают, или о финансовом управлении и дурацком налоге на прибыль от спекулятивных сделок.
Отец руководит небольшой фирмой, выпускающей детали для телевизоров, дела у него идут неважно. Правда, он получил наследство и поэтому не слишком переживает из-за проблем своего предприятия, однако работает он практически круглые сутки. Когда он разговаривает с Берит по телефону, речь идет, как правило, о любовнике ее матери, который ее просто использует.
– Твоя подруга, кажется, делает то же самое с тобой, – говорит в таких случаях Берит.
Ей кажется, что отец выглядит старым и непривлекательным, поэтому ее удивляет, что есть женщины, которые находятся рядом с ним не с корыстными целями. Тем не менее она его любит, потому что он веселый и легко может ее рассмешить.
Но когда она, плача, призналась родителям по телефону, что хочет домой, и лучше всего прямо сейчас, большого воодушевления с их стороны она не ощутила.
– Мышка, не преувеличивай. Все уладится. (Это мама.)
– Сокровище мое, ну не в начале же года! Подожди хотя бы до конца семестра. (Это отец.)
Мама:
– Они сейчас все слишком взволнованы, поэтому слегка перегибают палку. Вот увидишь, через пару недель они все забудут.
Отец:
– У тебя там намного больше возможностей. Здесь тебя пришлось бы отдать в частную школу, а у них нужно ждать начала года.
– Я же могу опять пойти в государственную школу.
– Ты с ума сошла, детка? Там столько иностранцев! Ты там ничему не научишься.
Берит плакала и всхлипывала, пока мама не пообещала ей на Рождество новый дорогой шерстяной топик от Гуччи, который она видела в бутике на Фридрихштрассе («Ну прямо как специально для тебя!»). Отец пообещал ей любой маленький автомобильчик, если она продержится хотя бы до конца учебного года.
До конца учебного года. Даже подумать страшно.
– Берит.
Так давно это было, когда кто-то звал ее по имени, что Берит сначала решила, будто ей послышалось. Вот до чего она дошла. Всего неделя, как она поняла, каково это – быть нелюбимой, и вот уже не может доверять собственным чувствам. Но ее действительно кто-то звал. Она обернулась.
Стробо сбежал по лестнице главного корпуса, подбежал к ней. Сердце ее учащенно забилось. Стробо не сказал ей ни слова с того дня, как она выдала Даннера полиции. Она попыталась улыбнуться, но Стробо избегал смотреть ей в лицо. Если бы она чувствовала себя лучше, то заметила бы, что он смущен, но в ее теперешнем состоянии она видела только неприятие. Улыбка застыла на ее лице, и она невольно выпрямилась, как будто ожидая нападения.
– Даннер хочет тебя увидеть, – оказавшись перед ней, сказал Стробо, глядя в какую-то точку справа от ее лица; он зябко поводил плечами и переступал с ноги на ногу.
– Что?
– Да. Он простил тебя за это.
– Ага.
Даннеру нечего ей прощать. Скорее, он должен перед ней извиниться – перед всеми ними, потому что он использовал их. Потому что так оно и было. Нет этому оправданий.
Но было очень тяжело оттолкнуть протянутую руку. Ей стало тоскливо, снова хотелось принадлежать этому миру. Более всего она скучала по Стробо, по его рукам и губам.
– У меня совесть чиста, – сказала она. – Я чувствую себя мерзко потому, что вы ко мне вот так относитесь, но я абсолютно не жалею о том, что сделала.
– Даннер знает это. Он принимает твою позицию. Он считает, что ты очень мужественная. Ты противопоставила себя группе. Одна.
Теперь Стробо посмотрел на ее – так сказать, с разрешения Учителя – по-иному, почти уважительно.
Вот это типичный Даннер. Делает всегда то, чего от него никто не ожидает. Это его неудержимое желание быть оригинальным любой ценой. Берит не верит ни слову из того, что говорит Стробо. Это все спектакль, и она просто-напросто не понимает, как Стробо, которого она считает умным парнем, попался на эту удочку. Кажется, они ослепли и оглохли. Все ведь должны чувствовать, что в Даннере все ненастоящее – все его чувства, все реакции. Но другие не видели того, что видела она. Они не знали, что он исключительно работает на публику, этакий выскочка-гуру.
Она помнит день после той жуткой лунной ночи в Тельфсе, когда группа куривших, как испуганные дети, сидели перед хижиной, утомленные бессонной ночью, раздавленные тошнотой и растревоженной совестью. В хижине Даннер общался с австрийским полицейским, в то время как остальные сотрудники прочесывали окрестности в поисках пропавшей Саскии. Вспомнилось, как Петер спросил: «И что нам теперь делать?» – таким тоном, как будто уже совершенно точно знал ответ. И поскольку Берит кое-что предчувствовала, то быстро и резко ответила: «Что делать? Ничего!»
– Что значит «ничего»? Мы же должны как-то прореагировать!
– На что ты собираешься реагировать? Мы ничего не знаем о жене Даннера, мы ничего не видели, ничего не слышали…
– Мы должны сказать ему.
– Что, идиот ты этакий! Что мы накурились до бесчувствия? Чтобы он нас заложил? И чтобы мы все вылетели?
– Нет. Он ни за что нас не заложит. Если мы скажем ему, это будет доказательством доверия.
– Доказательством доверия в чем? И вообще: к чему все это? Что это даст? Не нам, а ему, потому что мы будем в его руках.
– Я не понимаю, что с тобой происходит, Берит. У тебя, если речь заходит о Даннере, начинается паранойя. Это нездорово.
– А ты помешан на том, чтобы постоянно доказывать свою преданность. Это нездорово.
Но настоять на своей точке зрения она не смогла. Остальные были на стороне Петера: прямо сходили с ума, так им хотелось признаться во всем Михаэлю Даннеру, чтобы получить отпущение грехов у его святости. Именно так потом все и произошло. Он великодушно все им простил. А потом очень ловко подвел их к тому, чтобы они солгали ради него. Ему даже удалось заставить их поверить в то, что это была их идея.
– Знаете, проблема в том, что, с одной стороны, ваше доверие делает мне честь, а с другой стороны, вы ставите меня в жуткое положение. Если я вас заложу, вас выгонят из школы. Если я вас не заложу, то я не выполню тем самым свои обязанности.
А какое у него было при этом лицо! Этот заботливо нахмуренный лоб. Эти театрально взъерошенные волосы!
– И прежде всего, что мы скажем полиции? Им я тоже должен бы рассказать о вашем поведении, и в этом случае вы получите предупреждение о нарушении закона об использовании наркотических средств.
Как они все с бледными от страха лицами смотрели ему в рот! Как ловко он переложил на них ответственность!
– Должен признаться, что я в полной растерянности. Сейчас я сделаю очень несвойственную учителю вещь. Я попрошу у вас совета. Как бы вы поступили на моем месте?
Конечно, никто ничего не сказал. Это была часть его стратегии. Возникла длинная мучительная пауза, а Даннер тем временем с жутко серьезным выражением лица смотрел на них, на всех по очереди, как будто видел в первый раз. Потом уронил голову на руки: просто воплощение безнадежного отчаяния! Хотя Берит чувствовала себя так же отвратительно, как и остальные из их группы, она невольно предвкушала то, что должно было произойти. Что-то он задумал, она это чувствовала.
– К сожалению, я должен спросить вас еще кое о чем, и прошу стопроцентно честного ответа.
Все прислушались. Замолчали.
– Я хочу знать, не заметили ли вы, как моя жена вышла из хижины.
Полицейские спрашивали то же самое. Все сказали «нет». Даннер тоже. Поиски все еще продолжались. Подключили вертолеты, людей из горной спасательной службы, чтобы они в случае чего смогли быстро помочь Саскии Даннер.
Все отрицательно покачали головами. Никто ничего не заметил, никто. Даннер улыбнулся, он почему-то казался успокоившимся. Его ученики. Его кружок. Конечно же, они сказали бы, если бы видели что-то. Было бы нечестно даже думать иначе.
– Люди, я не хочу вас в это впутывать. Вы молоды, у вас все еще впереди. Я не знаю, что мне теперь делать.
И тут Петер взял слово. Бледный как мел, но решительный.
– Никто из нас ничего не слышал и не видел. Мы сидели до четырех утра в кухне, пили и общались. Мы – Стробо, Марко, Сабина, Берит и я. И ты, Михаэль. Мы пили, общались, не смотрели на часы. Мы ничего не заметили.
Наступило ледяное молчание. Берит почувствовала, как кожа у нее на голове съежилась и волосы в прямом смысле слова встали торчком. Теперь она знала, что Даннер так все и задумал, и знала также почему. Но она не сказала ни слова. Петер предложил Даннеру сделку, и если Даннер на это пойдет, то ясно одно: с Саскией Даннер что-то произошло. Или Даннер предполагает, что могло что-то произойти и боится, что его обвинят в случившемся.
Даннер снова уронил голову на руки, как будто глубоко задумался. И снова случай помог ему. В эту минуту вошел сотрудник полиции и начал допрашивать группу. Петер солгал первым. Глядя прямо в лицо полицейскому.
– Мы сидели здесь все вместе до четырех утра. Никто из нас ничего не слышал. Но тут был дым коромыслом.
– Это правда?
Полицейский обернулся к Даннеру. Даннер кивнул. И у всех словно камень с души упал. Они не вылетят из школы. Не будет даже выговора, вообще никаких последствий. Они прорвались.
Впрочем, как и Даннер. Но тогда они не хотели об этом думать.
Берит и Стробо медленно шли вниз по покатой деревенской улице. Берит по-прежнему не покидало чувство, что она совершает ошибку. Даннер – ловец душ. Она для него – не более чем вызов, потому что она открыто противопоставила себя ему. Она его не волнует как личность.
Но неделя без общения – это еще хуже.
И все же у нее было чувство, что она дает себя одурачить. Нехорошо действовать против собственных правил, даже если они ошибочны. В это она твердо верила. Что вообще-то очень странно, потому что родители не старались привить ей какие-то принципы, чем страшно гордились. Безо всякой моральной чепухи, как говорил отец своим друзьям. Единственное, чему должна была научиться Берит, – это считаться с потребностями других людей. Очень прагматичная цель воспитания. Не нужно переживать по поводу моральных устоев. Но всегда возникает потребность именно в том, чего нет.
– Даннер избивал свою жену. Я видела в окно.
Стробо уже знает об этом. Она говорила ему и остальным еще до товарищеского похода, даже еще на летних каникулах. Но ни на кого это известие не произвело особого впечатления. Петер сказал, что его родители частенько дерутся, пока кто-то из них не начнет кидаться тарелками. А потом они замечательно ладят. Но тут было все не так, настаивала Берит. Даннер избивал свою жену по всем правилам искусства. Она не защищалась, даже не кричала. Она позволяла делать это с собой, как будто это происходило уже в тысячный раз. Как будто она к этому привыкла.
– Если кто-то так поступает, в его байки просто перестаешь верить, – заявила Берит.
В ее голосе звучала мольба, совершенно неосознанно. А осознавала она отчаянное желание быть понятой, для нее было важно, чтобы кто-то согласился с ней. Постепенно она сама себе стала смешной. Может же быть, что остальные знают больше, чем она. Возможно, она просто выставляет себя на посмешище своими сомнениями.
– Даннер говорил с нами об этом, – сказал Стробо. Вокруг его рта образовывались маленькие облачка пара, когда он говорил. – Он сам страшно страдал в этой ситуации.
– Он? А как, простите, насчет его жены?
Суббота, и вся деревня будто вымерла. Слышно только их дыхание и скрип снега под подошвами. Ни души на улице, ни единой машины, ничего. В аккуратно отремонтированных домиках на торговой улице, украшенных luftmalerei, будто кто-то забаррикадировался. Ровно в двенадцать здесь закрываются магазины, и жители прячутся по домам, как будто ждут, что вот-вот случится какое-нибудь стихийное бедствие. Только весной и по выходным они выползают из своих норок, чтобы поить туристов кофе, кормить мороженым, пирожками и стричь купюры.
Хотя Берит уже три года проводит здесь все время, кроме каникул, она практически ничего не знает о людях, которые живут за территорией школы. Контакты между двумя мирами практически отсутствуют. Девушки, которые встречаются с парнями из деревни, больше не переступают порог школы. Просто потому, что так не делают. Потому что это не круто – водиться с типами, которые в свое свободное время не знают ничего лучшего, кроме как гонять на мотоцикле.
– Ты не даешь ему ни единого шанса, – сказал Стробо.
Они повернули за угол и очутились на улице, ведущей к пляжу. На первом этаже одной из покрашенных в бело-желтый цвет вилл живет Даннер. Второй этаж он сдал глуховатому старику.
– А что ты там вообще делала? – спросил Стробо.
– Когда?
– Когда ты… видела тогда Даннера.
– Гуляла.
– В саду у Даннера?
Берит набрала в легкие как можно больше воздуха.
– Это было вечером, около десяти. Я была на озере, а потом проходила мимо его дома. И тогда я услышала стук. Я заглянула в окно комнаты, но ничего не увидела, потому что шторы были задернуты. Но я знала, что там кто-то есть, видно было, как кто-то двигался, потому что свет был включен.
– И ты просто вошла или как?
– Калитка в сад была открыта. Мы у Даннера были много раз – почему бы мне и не зайти? Кроме того, там все время раздавался какой-то стук.
Берит замолчала, потому что они подошли к калитке, ведущей в сад Даннера. Стробо мог легко прекратить разговор, нажав на кнопку звонка. Но он этого не сделал. Вместо этого он оперся спиной на проволочную сетку и скрестил руки на груди.
– Стук. А потом? – Он все еще не смотрел ей в глаза.
– Ну, я вошла, пошла к окну. Шторы были не до конца задвинуты. Я заглянула в щелку.
Берит стала дрожать. Уже начинало темнеть. Декабрьский холод забирался под ее пальто и два свитера, которые она надела один поверх другого. Лицо Стробо было бледным и неподвижным, как маска. Она не знала, стоило ли продолжать. Не испортит ли она окончательно отношения с ним?
– А потом?
Его голос был похож на шепот, как будто он не мог признаться себе и ей, что все-таки хочет это знать.
Дрожь уже достигла ее губ, уже тряслось все ее тело, как будто ее бил озноб.
– Она лежала на полу. Ноги подтянула к подбородку, голову спрятала в руки, как… Не знаю… Как ежик, который выставляет колючки – что-то такое. Только вот у нее не было колючек. Он как сумасшедший колотил ее кулаками по спине. Долго. А лицо у него было такое, как будто… как будто он не совсем в себе.
– Почему ты ничего не сделала? Ты же могла… позвонить, или еще что-нибудь. Хоть что-то.
Она не сделала ничего. Постояв, может быть, минуту, она пошла обратно через сад, не спуская глаз со щелки между занавесками. Потом, всю дорогу до школы, она бежала. И прошли дни, прежде чем у нее возникла реакция на увиденное. Просто не была известна модель поведения при таких ситуациях. Когда кто-то умирает, нужно плакать, если кто-то злится на тебя, нужно защищаться. Но что делать, если человека, которого прежде почитал, застаешь за столь отвратительным занятием?
И поэтому – теперь она это понимает – никто не захотел ей поверить. Потому что если бы ей поверили, пришлось бы не только признать, что они восхищались человеком, который провозглашал то, чем сам не жил. Пришлось бы что-то делать. Что-то. Поэтому самым простым решением было просто закрыть глаза на то, чего просто не должно было случиться. Только она не смогла. Она это видела.
Но она тоже ничего не предприняла.
Стробо медленно оттолкнулся от сетки, как будто в замедленной съемке. Он так же медленно повернулся к Берит и крепко обнял ее.
Потом нажал на кнопку звонка.
12
По воскресеньям, так сказали Фишеру ученики, распорядок дня был совершенно другим. Завтракали в этот день с восьми до десяти, а если хотелось, можно было взять с собой в комнату булочки, плетенки, масло, колбасу и варенье. После беспокойной ночи Фишер вошел в столовую около девяти. По приказанию Моны он поселился не в отеле «Цур Пост», как она, а в комнате одного из учеников, который по причине болезни пока что жил у родителей. Комната площадью самое большее пятнадцать квадратных метров, мебели мало, – в общем, как в монашеской келье. Лучшее, что здесь было – это стереоустановка с двумя колонками величиной почти в человеческий рост, да еще компьютер с плоским монитором. Это притом, что в школе есть компьютерный класс, даже с выходом в Интернет. В шкафу висели дорогие шмотки для отдыха и спорта, а рядом два костюма «Прада» и – невероятно, но факт – смокинг.
Кровать, опять же, была староватой, а матрац – слишком мягким. Комплект постельного белья из черного сатина Фишер нашел в комоде.
Вот как, оказывается, живут детки богатых родителей! Впрочем, именно так он себе это и представлял. На шаткой полочке, между растрепанными учебниками и тетрадями, он нашел альбом с фотографиями. Катание на лыжах в Морице, летние каникулы на винограднике Марты. Живут в свое удовольствие, без всяких финансовых затруднений. Паренек, который живет в этой комнате, может получить любую профессию – какую захочет. Он может учиться десятки лет или зависать в барах, он может основать свое предприятие, которое не обязательно будет приносить прибыль, или стать художником и не продать ни одной картины за всю жизнь. Он может спать с любой девушкой, которая ему понравится, или купить себе роскошную проститутку, знающую такие трюки, которые ему, Фишеру, и не снились.
Не пойдет это Фишеру на пользу – сидеть тут. Это испортит его характер. Сделает его завистливым. Но пока он не станет противиться планам Зайлер, потому что нет никакого смысла плыть против течения. Теперь начальство за Зайлер.
Фишер почувствовал себя нехорошо, садясь за пустой стол в пустой столовой. На столе было полно крошек и чашек из-под кофе с коричневыми ободками по краям. Он встал, увидев в углу комнаты что-то вроде буфета. Там он нашел кофе и чай в огромных термосах.
Вообще-то он должен был вступить в контакт с учениками из кружка Даннера. Хотя он не видит в таком задании никакого смысла, потому что они уже рассказали все, что знали. Как несовершеннолетним свидетелям им пообещали не наказывать их, но запротоколировали все их показания. Вряд ли у него что-то выйдет.
А с другой стороны, этого никогда не знаешь наверняка.
– Почему они отпустили его?
Мона пожала плечами. Она еще не видела ректора в таком гневе. Раньше он производил на нее впечатление флегматика, который приспособился к обстоятельствам. Ей снова бросилось в глаза, как запущен его кабинет, как непрезентабельно он выглядел для такой дорогой частной школы.
Ректор меряет комнату большими шагами. На нем вытянувшиеся на коленках бежевые вельветовые брюки и серо-коричневый твидовый пиджак. Странно: ученики одеты по последней моде, а учителя – чуть ли не бедно. Как будто они ни в коем случае не хотят произвести впечатления, будто собираются тягаться с неравным конкурентом.
– Сначала его со страшным шумом арестовывают, а потом все делают вид, что ничего не было. Я не понимаю этого.
– Так решил судья, занимающийся проверкой законности содержания под стражей. Нет доказательств. Мотив неясен. Если бы других убийств не было…
– Что? Как прикажете это понимать? – Ректор остановился за своим столом и впился в Мону взглядом.
– Если бы Саския Даннер была единственной убитой, было бы намного проще. Даннер ее избивал, только Даннеру, возможно, было выгодно, чтобы она умерла. Но для других убийств у него просто нет мотива. Даже косвенных улик против него нет. А судя по всему, между этими убийствами есть связь.
– Но у Даннера все равно нет алиби!
– Без обоснованных подозрений ему оно и не нужно. Так же как и вам.
– Но подозрения есть!
– Судья, занимающийся проверкой законности содержания под стражей, так не считает. Иногда такие вопросы оставляют исключительно на его усмотрение.
– Может быть, он убил остальных только затем, чтобы замести следы?
– Исключено. Никто не будет так утруждать себя.
Что это с ним? Почему он так разволновался?
– Вы… Вы отстранили Даннера от работы?
– Конечно! А что мы должны были делать? Теперь он сидит дома, у нас нет замечательного преподавателя французского, и никто не знает, что делать дальше.
– Если бы он был виновен, то все происходящее имело бы хоть какой-то смысл, да?
– Тогда все, по крайней мере, прояснилось бы. Но теперь карьера Даннера окончательно испорчена, уже только благодаря этой истории с его женой. В принципе, работать в школе он больше не может. Вы представляете, каково это? После такого скандала его не возьмут ни в одну школу. А пенсия? Ему ведь едва за сорок.
– М-да, – буркнула Мона. – Вот что бывает, когда тайное становится явным.
Но она невольно вспомнила о своем участке. О верховном комиссаре, к примеру, которого быстро повысили, после того как одна сотрудница заявила на него, обвинив в сексуальных домогательствах. Не всегда все заканчивается неприятностями, когда всплывают такие вещи.
Ректор сел за письменный стол и уронил голову на руки. У него редкие седые волосы, которые кажутся слегка жирными. Вот что еще бросилось Моне в глаза: постоянно находясь в окружении молодежи, он не выглядел моложе. Скорее, наоборот.
– Вам в целом нравится ваша работа? – спросила она, сама не зная, зачем.
– В данный момент нет, как вы, вероятно, догадываетесь.
– Я не имею в виду сейчас, я имею в виду вообще. В принципе.
– Я понял.
Это был просто спонтанный вопрос. Может быть, слишком личный и к делу отношения не имеющий.
Но, к ее удивлению, он ответил.
– Плохо, что этих детей уже нельзя воспитать. Они испорчены.
– Испорчены? Но не все же!
– Нет, не все. Большинство – нет. Но все равно таких хватает.
– А почему? Потому что у них слишком много денег?
– Тут дело не только в деньгах. В возможностях. Множество шансов. Когда постоянно есть выбор, становишься неуемным. Нужно быть очень стойким духовно, чтобы выдержать богатство.
– Это справедливо и для бедности тоже, – сердито сказала Мона.
Дошло. Ректор внезапно посмотрел на Мону так, как будто видел ее в первый раз. Хотел что-то сказать, но промолчал.
Наконец все же заговорил.
– Вы, конечно же, правы. Бедность и богатство – это крайности. Всегда легче находиться посерединке. Зарабатывать достаточно денег, чтобы иметь возможность удовлетворить основные потребности, но не все. Когда не остается неисполненных желаний, это развращает, и тут никакое воспитание не поможет. Я имею в виду, какие качества развивать? Больше скромности, может? Здесь нет ни одного восемнадцатилетнего, у кого бы не было собственного кабриолета. Некоторые ездят на выходные в Милан, чтобы купить новые шмотки. Смешно в такой ситуации пытаться привить им какие-то нормы морали.
– Поэтому вы просто наблюдаете за этим.
– Да, конечно. А что бы сделали вы?
– Не знаю, – ответила Мона. Разговор начал ей надоедать. Зачем ей проблемы живущих в роскоши? – Мне кажется, по сравнению с другими школами здесь рай.
Ректор взял в руки ластик и стал задумчиво мять его в руках.
– Н-да, конечно. Тяжелых случаев с наркотиками у нас в школе нет, это уже радует. Но большинство старшеклассников уже принимали участие в кокаиновой вечеринке. К счастью, обычно это бывает на каникулах.
– Ну да.
– Эта история с наркотиками в школах началась в семидесятых годах. Тогда была другая мораль, использовались другие методы и средства, чтобы дисциплинировать учеников. Теперь некоторые родители сами принимают кокаин. Я к тому, что какой же это пример для молодежи!
– Согласна с вами.
– Мы больше не можем контролировать учеников. Они высмеивают нас, когда мы пытаемся это делать. Причиной является множество возможностей. Слишком много возможностей и слишком мало требовательности к себе – это ослабляет дух. Необходимость созидает. Отсутствие ее порождает хаос.
Конни и Роберт были мертвы, так что совершенно нормально, что они приснились ей. Они пришли к ней в длинных одеяниях, похожих на нечто среднее между облачением ангелов и одежду хиппи. Их волосы снова были длинными и волнистыми, как тогда. «Вы невероятно красивы», – сказала она им, но тут налетел ветер, вырвал у нее слова изо рта и разметал их. Пейзаж стал текучим и розовым, потом появился серый асфальт, какой-то сиропообразной консистенции. Ноги вязли.
Ты наш цветок Востока.
Она радостно улыбнулась, как не улыбалась уже давно. Все снова вернулось! Старые добрые времена вернулись, и счастье заполонило ее всю, как тогда, когда она думала, что с ней ничего плохого больше не случится, потому что она была любимой и желанной. И внезапно перед ней возник пляж. Пляж, звезды, море. Она снова была там, где все началось. Красивое и ужасное.
Мы любим тебя.
О да, все было так чудесно!
Я вас тоже люблю.
Конни и Роберт улыбнулись и кивнули. Она могла им и не говорить, они и так все знали, они знали все о ней. Она попыталась подойти к ним. Но песок был такой мелкий, что ее ноги тонули в нем, и она продвигалась вперед очень медленно, с большим трудом.
Ты должна помочь нам.
Этого я и хочу. Но как?
Помоги нам перебраться в мир иной. Приведи остальных. И приходи сама.
Нет! Оставайтесь со мной. Не уходите! Я не хочу. Останьтесь, пожалуйста!
Что-то вернуло ее в реальность, куда она не хотела возвращаться. Что-то тянуло ее за ноги. Ветер. Она открыла глаза. Под ней – холодный бетон, над ней – оранжевая плитка. У ее ног стоит на коленях лысый мужик со спутанной седой бородой и пытается стащить с нее джинсы. Его брюки закатаны до колен.
Реальность оказалась болезненной. Она крикнула:
– Отвали, свинья!
Мужик отпустил ее и отполз, что-то злобно бормоча. Она поспешно встала, подтянула джинсы, затвердевшие от грязи. Она сидела на пустой станции метро, дело шло к полуночи, но все это было уже не важно. Она не знала, сколько дней и недель она жила на улице, потому что в ее вселенной это не имело значения. Она должна была выполнить некую миссию, и у нее на это было мало времени. Это было важно. Мир вокруг нее снова исчез, съежился до крохотной светящейся точки в огромном туннеле. Голоса, опять контролировавшие ее, сказали ей, что делать. Ей нужно было пройти через этот туннель, и не важно, куда он ее приведет, и при этом она не должна заблудиться, вот и все. Тогда все будет хорошо.








