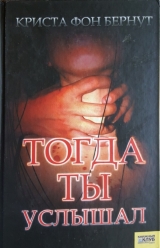
Текст книги "Тогда ты услышал"
Автор книги: Криста фон Бернут
Жанры:
Криминальные детективы
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 20 страниц)
– Да. – Опять слезы, катящиеся из-под закрытых век.
Мона решила проигнорировать их.
– Извините, но мы должны задавать подобные вопросы.
– Что? – Карла Амондсен взяла себя в руки.
Мона подала ей платок. Невольно вспомнилась Карин Столовски. Сцена практически идентична той. Мужчины заставляют женщин плакать. Так или иначе.
– Вы хотели уйти от мужа. Давно вы так решили и почему?
И снова Карла Амондсен начала всхлипывать.
– Вы поняли мой вопрос?
– Да. – Она высморкалась.
– Итак, давно ли и почему?
– Я решилась на это примерно две недели назад. Из-за другого мужчины.
– Вашего врача? – вставил Штрассер, и Мона с удивлением увидела, что Карла Амондсен улыбнулась сквозь слезы.
– Йозеф! С чего вы взяли?
Штрассер тоже улыбнулся. Карла Амондсен казалась ему привлекательной, это очевидно. И она это заметила, и ей это было приятно. В ее положении никто и думать не мог о флирте. Но с другой стороны, настроение у нее улучшилось.
– Если вы влюбились в другого мужчину, это ваше личное дело, – по-отечески, успокаивающе сказал Штрассер. – Если это никак не связано с нашим делом, можете не говорить.
Ее лицо снова посерьезнело, но глаза на этот раз остались сухими. Спустя некоторое время она произнесла:
– Меня не было рядом, когда я была нужна Роберту.
– Что вы имеете в виду? – спросила Мона.
– Если бы я была рядом, Роберт поехал бы на работу на машине, а не на трамвае. Тогда этого не случилось бы.
Оба удивленно посмотрели на нее.
– Откуда вы знаете? – спросил Штрассер.
Снова у Карлы Амондсен изменилось выражение лица. Теперь оно стало печальным. Есть люди, которые выглядят лучше всего, когда чем-то опечалены. Карла Амондсен принадлежала к их числу.
– Знаю, и все. В тот вечер шел сильный дождь, а Роберт ненавидит, когда сыро. Объяснить это трудно… Я думаю, что он хотел себя наказать или что-то в этом роде.
Штрассер наклонился вперед и легонько дотронулся до ее руки, лежавшей поверх одеяла.
– Вы считаете, что он хотел себя наказать за то, что не сумел быть вам хорошим мужем?
Она как будто с облегчением улыбнулась – радуясь, что ее поняли.
– Да. Именно так. Это было для него очень характерно.
– В тот день вы разговаривали с ним по телефону?
– Нет, за день до этого. Я беспокоилась за него. – Она замолчала.
– Вы думали, он мог что-то с собой сделать?
Она кивнула.
– Он говорил что-то в этом роде? Или намекал?
– Нет. Я… Я просто очень была ему нужна. Он часто говорил это раньше. Раньше, когда все еще было хорошо. Он всегда был таким… беспомощным.
– И вы не выдержали? – Штрассер говорил как психоаналитик, и Мона почувствовала что-то вроде зависти.
Она никогда не смогла бы так. Он был таким чутким и всегда говорил вовремя и к месту.
– Да, в общем-то, – сказала Карла Амондсен. – Я такой человек, которого время от времени нужно просто оставлять в покое. Мне нужен мужчина, который может за себя постоять. Который не зависит от меня. Который силен сам по себе.
И в этот момент Мона почувствовала, что эта женщина что-то умалчивает.
Она хотела вмешаться, но Штрассер уже задал следующий вопрос, относящийся к вечеру, когда было совершено преступление, и касающийся алиби Карлы Амондсен. В момент совершения преступления она была с двумя подругами в кино. В процессе этого диалога Мона забыла, о чем хотела спросить: был ли другой мужчина единственной причиной развода.
– Мне кажется, так мы далеко не продвинемся. – Штрассер говорил с полным ртом.
После допроса Карлы Амондсен он уговорил Мону пойти с ним вместе ужинать, и вот теперь они сидели в неуютной пустой пиццерии с обшитыми деревом стенами и цветными стеклами в окнах. Штрассер ел пиццу «Ломбарда», Мона – салат «Ницца» с уксусом.
– Вы этим никогда не наедитесь, – сказал Штрассер.
– Конечно же наемся.
Мона не любила разговаривать за едой. По-настоящему она могла концентрироваться только на одной вещи, а если начинала говорить, аппетит пропадал.
– Что вы думаете об этой Амондсен?
Мона положила вилку на край тарелки.
– Не знаю. Я думаю, она нам не помощник.
– Этого я не понимаю. Они же были женаты. Почему она знает так мало о собственном муже?
Очевидно, Штрассер принадлежит к тому типу людей, которым обязательно нужно разговаривать за едой.
– Что вы имеете в виду?
– Я имею в виду то время, которое он провел в интернате. Четыре года. Это же должно было как-то изменить его.
– Ну и?
– А она вообще ничего не знает. Или почти ничего. «Мой муж практически не говорил о времени, проведенном в Иссинге». Этого я не понимаю.
Мона задумалась.
– Может быть, Амондсен принадлежал к тому типу мужчин, которые не любят рассказывать о себе. Вы своей жене обо всем рассказываете?
– Не обо всем. Но о таких важных вещах – да.
– Может быть, это не было для него таким уж важным. Может ведь быть такое, правда? Возможно, он просто вычеркнул те годы из памяти.
– Четыре года, между пятнадцатью и девятнадцатью? Это же время полового созревания, тогда… э… соки бурлят, и это…
– Запоминается на всю жизнь.
– Именно. – Штрассер усмехнулся и, очевидно, был готов оставить эту тему.
Мона улыбнулась. Хоть он и много говорил, а она еще не съела практически ничего, кроме тунца и четвертинки яйца. Но он – коллега, с которым ей было легко общаться. Все-таки какое-то разнообразие.
10
Они спали в пещере на берегу. Иногда ночью приходил деревенский полицейский с фонариком и на ломаном английском полушутливо предупреждал, что им следует поискать себе для ночлега другое место. Потом он опять уходил, и все оставалось по-прежнему. В первые дни она боялась, что он вернется с подкреплением, чтобы арестовать их, может быть, даже чтобы выслать, но он всегда приходил один. Они привыкли к его посещениям. Когда они видели в полутьме под бесчисленными звездами свет его фонарика, складывали вещи, доставали литровую бутылку красного вина и приглашали его присоединиться к ним. Общались они при этом очень доброжелательно, было просто здорово. Полицейский всегда отказывался, но они замечали, что начинают ему нравиться.
Спустя три недели им уже казалось, что они всегда жили на пляже под обрывом. Каникулы превратились в будни, но чудо не исчезало, а обогащалось опытом. Они теперь знали, что действительно можно жить так, как жили они. «Полная редукция потребностей» – говорил Саймон. Без балласта, без обязанностей, практически без имущества. Каждое утро они завтракали в небольшом баре на другом конце пляжа. Там подавали маленькие сладкие булочки и «галао» – португальский кофе с молоком, которого им было всегда мало. У хозяйки была четырнадцатилетняя дочка, которая краснела, когда с ней заигрывали.
Каждый третий день они оставляли свой рай и поднимались по крутому серпантину к парковке, где стояла их машина, плавясь на солнце. Перед глазами танцевали радужные круги, когда они открывали машину и им навстречу ударяла волна духоты. Требовалось, по меньшей мере, пять минут, чтобы температура внутри нормализовалась и можно было сесть на сиденье из кожзаменителя, не боясь обжечься. Потом они ехали по узкой улице в Карвоэйро. Они направлялись к заправке на восточной окраине, где был душ с холодной водой и небольшой продуктовый магазин, в котором они покупали белый хлеб, сыр, салями, шоколад и вино. И еще – тонкие сигареты без фильтра такой марки, которую они никак не могли запомнить.
В течение дня пляж был полностью в распоряжении португальских туристов, а ночью – принадлежал им. А еще – небо, мириады звезд, бесчисленное количество метеоритов, которые в это время, в августе, падали практически каждую минуту. Позднее им стало казаться, что они всегда ночевали под открытым небом. Пещера была едва ли больше, чем средних размеров спальня, а их было шестеро. Но, тем не менее, они никогда не ссорились, и, как им потом представлялось, никто не повышал голос.
Конечно, в то время наркотики играли свою роль. Гашиш делал их миролюбивыми, веселыми и голодными. ЛСД расширял сознание и утончал чувство красоты, окружавшей их, а густое красное вино предотвращало нервные припадки. Но наркотики не были определяющими, они только усиливали то, что уже существовало, – всеобщую симпатию. Они любили друг друга, они принимали друг друга, ощущали сочетание различных характеров и индивидуальных предпочтений не как угрозу, а как обогащение.
Как же могло случиться, что их крепкая дружба, их нерушимая симпатия иссякла, как будто ее никогда и не было?
У детектива-криминалиста Бергхаммера под глазами темные круги, как у всех в комнате для совещаний, но его голос дрожит от переполнявшей детектива энергии. Убийства – это вещь нехорошая, и никто не хочет, чтобы они происходили. Это с одной стороны. А с другой стороны, если бы не они, то комиссии по расследованию убийств остались бы без работы. Да, Бергхаммер уже говорил журналистам: при сенсационных происшествиях самое интересное – это поиск. Уже потому, что он высвобождает массу позитивной энергии. Вдруг все становилось возможным, это было справедливо даже для обычно негибкого чиновничьего аппарата. Находились деньги на дорогие генетические массовые исследования, Земельное и Федеральное ведомства уголовной полиции привлекали первоклассных экспертов, а о недостатке кадров больше никто не упоминал.
И никогда коллектив не работал лучше, чем в какой-нибудь нестандартной ситуации. Все интриги и внутренняя борьба за власть отходили на задний план ради достижения общей цели; отделы, которые прежде враждовали между собой, внезапно начинали эффективно сотрудничать, информацией обменивались абсолютно беспрепятственно, она практически нигде не задерживалась. И к тому же для многих было неимоверным удовлетворением видеть себя практически каждый день в газетах или на местных телеканалах. Об этом Бергхаммер не говорил, но все знали, как он любит вести пресс-конференции и иногда ходит на ток-шоу, и не только для того, чтобы стало ясно: полиция и СМИ – вовсе не давние враги.
– Я хочу, чтобы ты поехала в этот Иссинг, – заявил Бергхаммер, и все посмотрели на Мону.
– Как глава Первой комиссии по расследованию убийств я должна координировать работу группы здесь, – попыталась возразить Мона, при этом понимая, что это всего лишь нежелание отступить без боя.
Бергхаммеру не противоречат. Но, по крайней мере, ей нужно знать, что означает его распоряжение: понижение или повышение. Забыл ли он о ее должности (что равнозначно понижению – да еще перед всеми коллегами и сотрудниками).
– Ты проделала действительно хорошую работу в Иссинге, – сказал Бергхаммер, и в комнате послышался тихий гул голосов. – Я хочу, чтобы ты продолжила расследование на месте. В помощники я назначаю тебе Ганса Фишера, если он тебе подходит.
– Конечно, – отозвалась Мона.
Это была первая похвала от вышестоящего лица с тех самых пор, как ее повысили. Это могло означать в своем роде прорыв. Даже можно было смириться с присутствием Фишера с его неприятными манерами. Взгляд ее упал на недоуменно уставившегося на нее Армбрюстера, который еще десять дней назад очернил Мону перед Крюгером, и она улыбнулась ему прямо в лицо.
Ректор не отрываясь смотрел на игравших в хоккей – сборную из учеников девятого, десятого и одиннадцатого классов. Они тренировались перед предстоящей в субботу игрой с Нойбойерном. Холодно, срывается первый снег. На игроках леггинсы, шорты, свитера с логотипом Иссинга. Лица покраснели, волосы прилипли ко лбам. Кроме их пыхтения слышен только топот ног по прорезиненному тартановому покрытию и сухое щелканье клюшек. Учитель физкультуры выкрикивает короткие команды.
– Давайте пройдемся немного, – предложил Михаэль Даннер, стоявший рядом с ректором.
Ректор взглянул на Даннера, на его волнистые светлые волосы, классический мужественный профиль с длинным прямым носом и тонкими губами и проклял свою нерешительность. Вообще-то Даннеру нельзя было находиться здесь, даже если он невиновен. Ведь никуда не деться от того ужасного факта, что он склонил своих учеников ко лжи. Не говоря уже об истории с его женой.
– Как хочешь, – сказал он, хотя ему все же необходимо было как-то дистанцироваться от Даннера, особенно в присутствии учеников.
– Я полагаю, что меня временно отстранили от должности, – произнес Даннер как бы между прочим, когда они шли по направлению к лесу.
– Конечно же, так и есть.
Застегивая пальто на все пуговицы и поправляя шарф, ректор задумался, стоит ли передавать Даннеру разговор с Рози Тессен, говорить, что она вообще не собирается оплачивать ему адвоката. Даже частично. Тогда он острее осознает всю сложность своего положения, не сомневаясь: здесь его никто не поддержит.
– Все еще не закончилось, да? Я имею в виду, с полицией.
– Нет, – признался Даннер. – Наверное, нет.
– То есть, они продолжают собирать против тебя улики?
– У них нет другого подозреваемого. В этом-то и проблема. Против меня у них недостаточно улик, чтобы содержать меня под стражей, но нет других подозреваемых, никого, кто знал бы всех убитых. Нет, он, конечно, есть, – он коротко и горько усмехнулся, – но вот они не знают, кто это может быть.
– Я даже не хочу у тебя спрашивать, ты ли это был…
– Ну почему же! – воскликнул Даннер и внезапно остановился.
Воздухе был свеж и прозрачен и его глаза казались темнее, а черты лица – резче, чем обычно. Возможно, даже за короткое время пребывания под стражей он похудел.
Внезапно он схватил ректора за плечи и впился в него в буквальном смысле горящим взглядом. Никогда еще они не были друг к другу так близко, как сейчас.
– Я хочу, чтобы ты меня спросил. Боже ты мой, спроси меня, пожалуйста! Все ходят вокруг да около. А ты можешь меня спросить. Я уже не так чувствителен. Они выбили это из меня.
Ректор увидел пару веснушек возле его носа, ресницы, необычно длинные для мужчины, – то, что замечаешь в женщине, в которую влюблен. Он отстранился. Только теперь он понял, насколько симпатизировал Даннеру. И тем тяжелее было разочарование. Теперь многое разрушено – и неважно, что даст дальнейшее расследование.
– Ну хорошо, – безразличным тоном сказал он. – Это был ты?
Даннер слабо улыбнулся и опустил руки, как будто испытал облегчение.
– Нет. Честно, действительно нет. Тех двоих – Штайера и Амондсена – я уже долгие годы не видел.
– Ты избивал Саскию, – вырвалось у ректора не только от возмущения. Он чувствовал угрызения совести.
– Ох, Боже мой, Томас! Это только наше с Саскией, это было… Я не знаю. Она сама выбрала роль жертвы.
– Это отвратительно, нездорово – то, что ты говоришь. Ты бы послушал себя со стороны.
– Никто не может понять этого, никто не знает наших отношений. Никто, даже ты, и это неудивительно.
Нет таких отношений, которые оправдывают насилие. Ректору это казалось настолько банальным, что он решил промолчать. Они пошли быстрее и вскоре оказались возле еловой рощицы, окаймлявшей часть озера. Довольно ухабистая дорога, с выступавшими корнями, вела к купальне, принадлежавшей интернату, закрытой почти круглый год из соображений безопасности. Необходим был учитель, который взялся бы наблюдать за непослушными учениками, и пока такого не удалось найти. Слишком близко к Альпам, и купаться можно только в августе – холодно. А в августе – летние каникулы.
– И что же было такого особенного в ваших отношениях? Настолько особенного, что ты… – Он не смог это выговорить.
Перед его глазами стали возникать картинки, большинство, наверное, из виденного по телевизору: женщины со спутанными волосами и безумными взглядами, в порванных блузках, слишком сексуально выглядящие для невинных жертв. Он попытался представить себе в этой роли порядочную неприметную Саскию, постоянно носившую одни и те же длинные свитера коричневого и бежевого цвета, и у него, конечно же, ничего не вышло. Даннер – сумасшедший, поэтому бил ее? Тоже не выходило.
Ветви над ними зашумели от легкого холодного северного ветра.
– Я любил ее, – сказал Даннер, помолчав. – Она была такой мягкой, такой понимающей, такой умной. Она одна понимала меня.
– Я сомневаюсь в этом.
Тем временем они шли, почти бежали по веткам и камням, и Даннер взглянул на ректора сбоку.
– Это правда. Я не знаю, как это объяснить, но я попытаюсь, потому что мне очень важно, чтобы хотя бы ты понял меня.
Но ректор смотрел только вперед. Отмежеваться. Нужно отмежеваться от всего этого. Даннер кажется милым и достойным понимания как никогда. Но если это не так? Может быть, он всего лишь одаренный актер, который снимает маску, только когда падает занавес?
– Слушай, честно говоря, можешь не стараться. Я просто не хочу тебя слушать. Мы с тобой всегда друг друга хорошо понимали. Ты был первоклассным преподавателем. Твои ученики боготворили тебя. Ты не просто держал их под контролем, ты был для них примером. – Ректор шел все быстрее, отталкивая влажные ветки. Один раз споткнулся о корень, торчавший из-под земли, как огромная вена. Даннер едва поспевал за ним. – Это же ты пел песню о силе желания договориться, о понимании без насилия, именно ты!
– И что? – Даннер пыхтел у него за спиной. – Это что, неправда?
– Это было лживо! Ты даже с собственной женой не мог договориться без насилия!
– Да, у меня не вышло. Но это не значит, что я не хотел. Я хотел. Я был в отчаянии, когда не получилось.
– Это же чушь. Если бы ты действительно хотел, ты нашел бы возможность.
– Извини, но ты совершенно не понимаешь.
– Нет, видимо, не понимаю. И, пожалуй, вовсе не хочу понимать. Это вообще-то твоя проблема, не моя. Ты должен с этим справиться, а не я. Я должен подумать о том, как я объясню это родителям, ученикам.
Они подошли к купальне. Была видна всего лишь деревянная дверь, которая вела, очевидно, в высокий тростник.
– У тебя есть с собой ключ? – спросил Даннер.
Ректор нехотя кивнул, все еще негодующий. Собственно говоря, он с удовольствием оставил бы Даннера здесь одного. С другой стороны, ему казалось, что он должен с ним поговорить. Он вынул большую связку ключей из кармана пальто и открыл примитивный навесной замок. Они прошли по мосткам через камыши до конца, прямо к месту, где обычно загорали. Отсюда хорошо было видно все тихое серое озеро.
Даннер сел на доски и закурил сигарету.
– Давай, Томас, – сказал он и похлопал по мосткам рядом с собой.
Ректор поколебался, потом присел рядом с ним. Странно, но у него было такое чувство, как будто за последний час он узнал о Даннере больше, чем за предыдущие десять лет. Например, он внезапно понял, почему ученики – как воск в его руках. Даннер очень хорошо выглядел, он красноречив, оригинален и самоуверен. Выдает философские теории о жизни и любви и бесстыдно, обладая хорошей фантазией, пользуется плодами трудов великих умов. Но дело не только в этом. Отвратительно то, что он воспринимает восторженное отношение к себе как само собой разумеющееся.
– Если муж бьет жену, он ее потом убивает? – спросила Мона.
– Не обязательно, – удивленно ответил полицейский-психолог.
– Это я тоже знаю. Я имею в виду, при каких обстоятельствах он это может сделать?
– Чтобы ответить на этот вопрос, нужно иметь намного больше информации о ситуации в семье. Насилие – это многофакторный феномен.
– Что?
– Не будьте так упрямы. Многие факторы играют роль, когда речь идет о насилии в конкретной семье.
– Насилие в семье – это когда муж бьет жену?
– Послушайте, коллега, вы же опытный человек. Вы же знаете, что это слишком упрощенный взгляд.
Мона кивнула. Опять она прет как паровоз. Нужно ей стать более гибкой. Как Штрассер. Этот всего добьется от человека, относясь к нему с пониманием, не давя на него, не навязывая собственные выводы.
– О’кей, начнем сначала. Итак, что это вообще за люди – те, которые бьют своих жен?
– Вообще? Хорошо: речь идет о фрустрационной толерантности. У одних порог толерантности выше, у других ниже. Что вы делаете, если у вас фрустрация?
– Я?
– Да, вы. Ваш шеф раскритиковал вас в пух и прах, и вы приходите домой и видите, что ваш супруг даже со стола после завтрака не убрал. Как вы отреагируете?
– Бить супруга я точно не буду.
– Конечно нет, он же как минимум в два раза сильнее вас. У вас есть дети?
– Да.
– Сколько?
– Сын.
– Если ваша фрустрационная толерантность перегружена, вы попытаетесь ударить сына. Правда?
– Это за уши притянуто.
– В таком случае ваш порог толерантности очень высок. Да?
– Не знаю. Нормальный, наверное.
– Видите ли, так ответил бы каждый. Каждому его чувства и реакции кажутся нормальными, потому что других он не знает. Именно поэтому очень сложно лечить тех, кто бьет других людей. Потому что им кажется это нормальным. Тяжелые обстоятельства, шеф-дурак, несчастное детство, а особенно жена, которая постоянно вас провоцирует. И если ничего не помогает, всегда есть вариант непонятной потери памяти. Этакое ничего-не-помню-все-сразу-так-навалилось-потеря-памяти.
– А если это правда? Вы ведь не можете заглянуть им внутрь.
– Конечно, это возможно, при психопатической симптоматике. Но среднестатистический драчун ведь не сумасшедший. Большинство из них ведут себя в обществе вполне нормально. Никаких отклонений, ничего необычного. А дома они мутируют, превращаются в бешеных, в людей, которые не понимают, что делают. Странно, правда?
– Да. А почему они это делают? Зачем им это?
Психолог на несколько секунд замолчал, оценивающе посмотрел на Мону, как будто взвешивая, насколько она готова услышать то, что он собирался ей сказать. А потом пояснил:
– Мужья бьют своих жен, потому что в большинстве своем любят их и сильнее всего к ним привязаны.
– Да вы же сами в это не верите!
– А как вы объясните, что в случае любовной связи и случайного знакомства дело редко доходит до насилия?
– Это действительно так?
– Это так, милая моя госпожа Зайлер. Женщина уязвимей всего, когда она живет с кем-то уже довольно долго.
Так оно и есть, Мона знала это по собственному опыту. Самое опасное место для женщины – это семья. А вовсе не запущенный парк ночью.
– Почему мужчины такие? Склонные к насилию?
– Склонные к насилию мужчины не могут в разговоре излить свои негативные эмоции. У них нет доступа к собственным чувствам. Они ничего не могут сказать, когда речь заходит о проблемах. Это повышает уровень фрустрации. Видите ли, фрустрация – это не что иное, как негативная энергия. Мы воспринимаем негативную энергию как нечто неприятное и хотим от нее избавиться. Направить ее на кого-то другого, так сказать. Со слабыми это получается лучше всего. На них можно кричать, обижать и бить, при этом нет никаких негативных последствий.
– Все выглядит так, как будто они это планируют. Но ведь они не сидят по комнатам, выдумывая, как избавиться от негативной энергии.
– Нет, напротив. Они вообще не хотят знать, что делают. Тогда ведь им придется принять на себя ответственность за содеянное. Только когда они начинают проходить терапию, они постепенно понимают, что рука, которая поднимается, – это их собственная рука. Что они сами управляют ею. А вовсе не Святой Дух. И не алкоголь, который снимает их с тормоза. И не злая жена, которая их провоцирует. Только они сами позволяют этому случиться. Это их решение.
– Представьте себе мужчину, который на протяжении многих лет избивает свою жену. Логично ли предположить, что однажды он ее убьет?
– Не обязательно, как я уже говорил. Но если никто из них ничего не попытается предпринять, чтобы остановить насилие, то тормозной порог понижается.
– Он будет становиться все более грубым?
– Правильно. Но что касается вашего случая – если я могу, конечно, высказать свое мнение…
– Да, конечно.
– Тут другое. Убийство этой женщины не было совершено в состоянии аффекта, это было подлое убийство. Муж, который бьет свою жену, может причинить ей боль, но не убить ее. Он легко может представить себе ее смерть, но ему это не нужно. Он не хочет этого.
– Почему?
– Потому что тогда бы ее не стало.
– И ему не было бы, на кого…
– Выплескивать свои фрустрации, верно.








