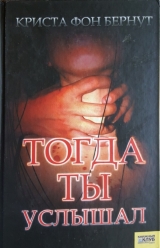
Текст книги "Тогда ты услышал"
Автор книги: Криста фон Бернут
Жанры:
Криминальные детективы
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 20 страниц)
13
Первый раз в этом году пошел снег. С неба, кружась, падали белые хлопья, и ветер уносил их в темноту. В квартире Даннера тепло и уютно. Паркет в зимнем саду блестит, как отполированный, несколько красиво расставленных ламп распространяют теплый свет.
А на улице свежевыпавший снег приглушает все звуки.
– Какой кофе вы пьете? – крикнул Даннер из кухни.
– С молоком, без сахара, – крикнула Мона в ответ.
Она уже узнала о нем довольно много, чтобы не попасться на его удочку. Так что чашку кофе она могла выпить совершенно спокойно. Все равно она начеку.
Даннер вошел в зимний сад с подносом и аккуратно поставил его на чайный столик. Мона хотела встать, но он жестом остановил ее. И она снова откинулась на спинку черного кожаного кресла. Все в этой квартире было черным, белым, серым, бежевым или стеклянным. Только одна картина в гостиной, выдержанная в нежно-розовых, желтых и голубых тонах, привносила разнообразие в цветовую гамму его жилища.
Первое, что пришло в голову – у него хороший вкус, но это не совсем то. «Со вкусом» – звучит как-то натянуто и пошло, а квартира Даннера была абсолютно не такой. Все казалось органичным, каждая вещь – на своем месте.
– Вам здесь нравится? – Даннер налил кофе сначала ей, потом себе, пододвинул к ней кувшинчик с молоком.
– Да, очень, – ответила Мона.
– Это Саския обставила квартиру. Я бы сам никогда так не смог.
Мона промолчала. Этим утром Даннер позвонил ей в отель и пригласил ее «на кофе и рождественское печенье». И вот пяти минут не прошло, как она здесь сидит, а он уже заговорил о своей жене. И теперь ей действительно интересно, как он будет действовать дальше. Соблюдать осторожность она в любом случае не собиралась.
– Печенье? – Он протянул ей мисочку с ванильными булочками и звездочками с корицей.
Они были слишком маленькими и аккуратными для печенья собственного приготовления. Она взяла звездочку, облитую толстым слоем сахарной глазури.
– Их обычно делала ваша жена?
Даннер поставил мисочку обратно на стол, не взяв себе ничего.
– Да, – подтвердил он. – Каждый год в это время мы приглашали членов нашего сообщества. Было печенье и глинтвейн. Под конец мы все напивались допьяна.
Он замолчал, откинулся в кресле и закрыл глаза. Мона промолчала. Она не станет помогать ему, это она себе твердо пообещала. Но оказалось трудно не смотреть на него. Его лицо с прямым носом и губами красивой формы было одновременно беззащитным и загадочным. Она хотела отвести взгляд, но тут он открыл глаза. Слегка улыбнулся, как будто поймал ее на чем-то предосудительном. Мона почувствовала, что внутренне вся напряглась. Наконец, глубоко вздохнув, он выпрямился. Улыбка исчезла, выражение лица стало деловым.
– Вы наверняка удивлены тем, что я вас пригласил.
– Да, – сказала Мона.
– Вы не догадываетесь, зачем?
– Почему же, догадываюсь.
– И?
– Какое вам дело до моих догадок? Просто скажите, что вам нужно.
– Вы стараетесь не тратить время попусту, не так ли?
– По возможности.
У Моны было такое чувство, что он сейчас заговорит о ней, и она решила действовать осторожно.
Наконец Даннер снова вздохнул и запустил пятерню в свои густые волосы.
– Еще кофе?
– У меня пока есть, спасибо. Почему вы просто не скажете то, что хотите сказать? Я имею в виду, мы же оба знаем, что это не визит вежливости.
Будто сдаваясь, Даннер поднял обе руки. Потом сложил их на животе и вытянул длинные ноги. Он сидел к Моне вполоборота, голову слегка склонил к плечу. Взгляд устремлен в окно, где кружит снег.
– Я хочу, чтобы кто-нибудь мне поверил, voila.
Мона расслабилась.
– Это я могу понять.
– Я хочу поговорить с кем-нибудь о Саскии. Можно с вами? Чтобы вы сразу не…
– Я не исповедник, если вы это имеете в виду. Я вас выслушаю, но ничего не могу обещать, абсолютно ничего.
Даннер повернулся к ней, и сразу же снова отвернулся.
– Я любил Саскию. Вы в состоянии понять это?
– Конечно, – ответила Мона. После разговора с полицейским-психологом она усвоила, что это правило, а не исключение.
Даннер продолжал говорить, как будто не слышал ее.
– Мы познакомились примерно четырнадцать лет назад. Она тогда еще училась и подрабатывала официанткой в «Оазисе». Это забегаловка неподалеку от универа, может, вы знаете.
– Нет.
– Я тогда проводил практически все выходные в городе. Отношения с девушкой у меня не складывались, из-за Иссинга. Потому что моя тогдашняя подруга не хотела переезжать в провинцию, а найти работу в другом месте я не мог. Слишком много учителей, понимаете ли.
– М-м.
– Положение мое было критическим. Иссинг – неплохое место работы, но жить здесь… Сходишь с ума. Утром, в половине восьмого, сбор в актовом зале. Педсовет в половине одиннадцатого. Обед в час. Два раза в неделю контроль выполнения домашних заданий в младших классах – с половины третьего до пяти. Ужин в половине седьмого. И постоянно одни и те же люди со своими причудами, и так год за годом. От одного постоянно воняет курительной трубкой, и никто не может находиться с ним рядом, другой разглагольствует о закате западной цивилизации, ссылаясь на то, что ученики после отбоя сидят в Интернете, третьего жена постоянно держит на диете, а он все больше толстеет. И все время слышишь одни и те же вопли по поводу испорченных детей, которых воспитываешь-воспитываешь, и все без толку, а в глазах у возмущающихся читаешь, что они завидуют этим самым детям. Здесь просто задыхаешься.
– Если вернуться к вашей жене…
– Да, Саския. Саския была красивой и живой, милой и веселой. И она была готова переехать сюда. Она получила небольшое наследство, поэтому мы смогли купить этот дом. На него пошли все ее средства, но ей было все равно. Она хотела быть со мной, ей здесь нравилось, и нам было хорошо вдвоем. С Саскией здесь было терпимо.
Может быть, есть много правд. Правда Даннера и правда Берит Шнайдер. И правда гинеколога Саскии Даннер, которая уже дала показания и подтвердила то, что сказала Берит Шнайдер.
Она всегда страшно стеснялась, когда нужно было обнажить верхнюю часть тела для обследования груди. Поначалу я думала, что она просто манерничает. Потом я увидела эти кровоподтеки на плечах, на бедрах. Это невозможно скрывать вечно. Я решила поговорить с госпожой Даннер о своих подозрениях, о том, что ее избивают. Она отрицала это. А у меня уже не было никаких сомнений. Я была уверена на все сто процентов. Я только не знала, что делать, как реагировать. Я уже несколько раз заявляла на мужей, и решила, что больше никогда этого не стану делать, потому что мне уже жизнь стала не мила. Никогда не надейтесь, что вам скажут спасибо. Несколько лет назад одна женщина хотела подать на меня в суд за клевету. Эту женщину муж избил до полусмерти, можете себе представить. Никогда больше этого не сделаю. Женщины должны сами себя защищать, иначе ничего не выйдет. Я не могу сделать это за них. И когда госпожа Даннер стала все отрицать, я решила: о’кей, девочка, это твои проблемы. Если ты не хочешь ничего менять, то пусть тебя и дальше бьют. Теперь я жалею, что не вмешалась. Не сделала это в последний раз.
– Когда это случилось в первый раз?
– Что вы имеете в виду? – Но он знал, что она имела в виду. Это было видно по нему.
Вечером Мона ужинала с Фишером в ресторане отеля. Они уже неплохо сотрудничали. По крайней мере, Моне так казалось.
– Части трупов, – внезапно сказал Фишер, когда официант принес заказ.
– Что?
Он указал на половинку курицы гриль.
– Трупы животных.
Мона растерянно смотрела на него.
– Ты вегетарианец?
– Конечно.
– Ой, нет! И рыбу не ешь, и яйца?
– Яйца ем. Рыбу нет. Я не ем животных.
– Из принципа?
– Именно.
Мона решила не обращать внимания на эту провокацию. Может быть, просто у Фишера такая манера начинать разговор. Она решила, что он открывается, только познакомившись с человеком поближе. Тогда он мог быть даже остроумным. Но с ней он пока еще до этого не дошел.
– Если хочешь, можешь уезжать отсюда. Может быть, это действительно ничего не даст, – я имею в виду твое пребывание в школе.
– С чего это вдруг? – Вот он уже опять завелся, и Мона задалась вопросом, почему.
Она сказала:
– Я думаю, что это не Даннер.
– Ну и что, даже если это так. Кто-то же должен был убить, причем этот кто-то – из школы. Или нет?
– Ну да. Конечно.
Самообман не поможет: они в тупике. В данном случае это означало, что они что-то упустили. Очевидно, упустили.
Факт номер один: между всеми тремя убийствами существует связь. Факт номер два: в ходе расследования они ни на что подозрительное не наткнулись. Почему?
– Как там было, у Даннера? – спросил Фишер.
Это тоже тема не из простых. Об этом она предпочла бы не говорить.
Как там было? Ощущение у нее возникло двоякое. Даннер разоткровенничался с ней, как ни один мужчина прежде. Он отвечал на ее вопросы, причем очень подробно. Например, описал, каково это – приходить домой и впадать в ярость от мелочей, которые Мона считала не стоящими внимания. Почта, которая лежит в кухне, вместо того, чтобы находиться на письменном столе. И то, что жена, когда моет посуду, тратит слишком много воды. Такого рода вещи.
– Нельзя же серьезно заводиться из-за таких вещей.
– Я это делаю, вот что самое страшное. Вот такой я есть. Я завожусь из-за всего, что мне кажется неидеальным. Я знаю, что слишком нагружал этим Саскию, – любая женщина бы не выдержала. Вот такой я есть. Я пробовал по-хорошему десять раз, двадцать раз. На двадцать первый я срывался. Вот такой я – и все тут.
– Довольно жалкое оправдание.
– Да. Я знаю.
– Но тем не менее вы ничего не предприняли.
И тут он заплакал. Никогда еще ни один мужчина не плакал в присутствии Моны. И она ничего не смогла с собой поделать – ей стало его жаль. Но теперь она спрашивала себя, действительно ли он пришел в отчаяние или просто хитрил.
– Я знаю, что виноват, и этому нет оправдания. Мне нужно было пройти терапию…
– Чего вы не сделали…
– У кого? Найдите здесь терапевта, опытного, чтобы свое дело знал!
– А вы пытались?
– Да. Насколько было возможно, чтобы об этом сразу не узнали все вокруг. Я был у пары шарлатанов, которые смотрели на меня во все глаза, так как думали, что тот, кто бьет свою жену, должен быть размером со шкаф и с манерами каменщика.
– Ну и? – не отставал Фишер. – Как было у Даннера? Он пытался тебя околдовать?
Неужели это настолько очевидно? Но Фишер сосредоточился на своей Penne all’arabiata и не обращал на нее никакого внимания. Может быть, он сказал это просто так?
– У тебя с собой случайно нет списка всех опрошенных?
– Что? Ты что, думаешь, я его всюду с собой таскаю?
– Мы кого-то забыли, – сказала Мона.
– Ну конечно, и не одного. Мы даже не всех нашли. Взять только бывших учеников Иссинга. Кто-то вышел замуж и сменил фамилию, кто-то уехал за границу. Амондсен и Штайер даже не одного года выпуска, у них были разные друзья, разные компании. Это сильно расширяет круг поиска.
Они проштудировали списки учащихся с середины семидесятых до начала восьмидесятых годов, и коллеги поговорили со всеми, кого смогли найти. Если Мона не ошибалась, то всего было, по меньшей мере, человек сорок бывших учеников и двадцать преподавателей. Всех допросили, и никто не сказал ничего, что могло бы прояснить, что связывало Саскию Даннер, Константина Штайера и Роберта Амондсена.
– Так что, ты хочешь остаться? – спросила Мона Фишера.
– Конечно. Я буду продолжать следить за учениками. – При этом он избегал ее взгляда, но поскольку он поступал так часто, Моне это не показалось подозрительным.
Зло существует. Зло – это не метафора, и не средство держать мятежных верующих в узде. Зло – это раковая опухоль, которая может развиться в таких слабых организмах, как ее, пока не уничтожит в ней все здоровое, позитивное, здравомыслящее, человеколюбивое и нежное. Однажды зло убьет ее, и она с нетерпением ждет дня, когда оно это сделает, потому что сама она уже давно сдалась. И ей ничуть не жаль, что так случилось.
Она находится в приюте для бездомных, это своего рода чистилище. Сюда ее привела девушка с пирсингом на губе. Они где-то познакомились, и она дала уговорить себя и привести сюда, потому что спать на улице или в метро было слишком холодно. Но здесь было жутко: шумно, вонь, все запущено. Ей указали на одну из двадцати коек в женском зале, на которой лежал обоссанный матрац. Она еще никогда не была в таком месте. Даже психиатрическую клинику ей было легче выдержать, чем это место. Но прийти туда по собственной воле она уже не могла. Она опустила голову и стала смотреть на линолеум.
Зачем она здесь? Что это за место? Каждый раз, когда она задавала себе этот вопрос, в ее бедной голове все путалось. Как будто там был кто-то, кто любой ценой хотел, чтобы в ней остался хаос и она не могла бы опираться на твердую почву фактов. Когда ей было лучше, это становилось ее самым большим желанием: закончить путешествие, которое не хотело заканчиваться. Это уже даже не путешествие, это прогрессирующий психоз, милая моя!
Психоз. Шизофрения. Эндогенная депрессия. Параноидные сдвиги. Кататонические. Снова она заблудилась в лесу терминов. Врачи разговаривали через ее голову, как будто она глухая, или дура, или голова у нее не в порядке не оттого, что ее травят медикаментами. Слова превратились в водоворот и утянули ее на стремнину отчаяния.
Здесь никто об этом не говорил, ни у кого не было желания волноваться по поводу состояния ее психики. Таким людям, как она, которые очутились здесь, уже все равно не помочь. Ей дали более-менее свежую постель и предоставили самой себе и голосам, которые то кричали, то шептались в ней, отдавали приказы и отменяли их, вызывали чувство паники и сумасшедшие надежды, росли и съеживались – вели себя, как им хотелось.
Позднее, вечером, Мона сидела на кровати в своем номере в «Посте». Перед ней лежали семь журналов Иссинга, рядом – список со всеми опрошенными. Она просматривала их один за другим. Двоих одноклассников Штайера и одного одноклассника Амондсена они не смогли допросить. Один наложил на себя руки, другой, по свидетельству родителей, пропал без вести в начале восьмидесятых годов в Непале, а последнего просто не нашли.
Мона взяла один из журналов в руки. Год 1979-й. Здесь фотографии выпускного класса, хоккейной команды, объявления о свадьбах и смертях членов так называемого Союза выпускников. Новые адреса бывших учащихся. Краткое описание профессиональных достижений. И среди всего этого – заметка о спортивном празднике с фотографией шестнадцатилетнего Роберта Амондсена, которого наградили как лучшего прыгуна в высоту на своем потоке. За Амондсеном, едва различимый на черно-белой фотографии, стоял пожилой мужчина с пышными усами. Его правая рука лежала на плече Амондсена.
Мона нахмурилась и пролистала журнал назад. На странице 4 она нашла фотографию того же самого мужчины с усами. Под фотографией было жирно написано: «Ницше уходит!» Еще ниже она увидела заметку:
Более двадцати шести лет Альфонс Корнмюллер работает в интернате Иссинг. Теперь ему 61, и замечательный преподаватель немецкого, любовно прозванный учениками «Ницше», решил посвятить все свое время исключительно своему хобби – выращиванию роз. Мы все сожалеем об этом и желаем Альфонсу Корнмюллеру всего наилучшего.
Мона еще раз просмотрела список. Альфонса Корнмюллера не было среди бывших преподавателей, которых допрашивали. Но почему он стоит за Амондсеном и что означает этот доверительный жест? Был ли он кем-то вроде его ментора? Доверял ли ему Амондсен?
Это даже не след. Это просто предположение. Слабая надежда.
Завтра они попытаются найти адрес Корнмюллера. Если этот человек еще жив.
А теперь нужно позвонить Лукасу. С тех пор как он живет у Антона, она каждый вечер звонит ему в половине восьмого.
Антон много путешествует, но часто работает и дома. Организовывает свои сделки. Очевидно, уже свободно владеет польским. Больше Мона ничего не хочет знать. Когда Лукас ночует у него, по вечерам он всегда дома. Это больше, чем делают для своего ребенка другие отцы. Целый день там есть экономка, которую Антон поселил в отдельной квартирке в том же доме, эта женщина трогательно заботится о Лукасе. Моне не стоит волноваться, но, тем не менее, она волнуется.
Что, если Антон попадет в тюрьму и Лукас об этом узнает?
– Это я, Мона.
– Ах, ты!
– Ага. А ты ждал кого-то из своих миленьких подружек?
– Расслабься, Мона.
– Как дела у Лукаса?
– Хорошо, как и всегда, когда он здесь. Да, Лукас?
Раздается еле слышное «да». Мона невольно улыбнулась.
– Дай ему трубочку.
14
Шаки снится, что идет снег. Хлопья крошечные, едва заметные, но падают так густо, что через короткое время вся местность кажется укутанной белым одеялом. Странно, но это почему-то пугает его – страстного любителя покататься на лыжах. Он падает на колени и начинает рыть землю, как собака. Но снег покрывает землю быстрее, чем работают его замерзшие руки, и в конце концов погребает под собой Шаки, и тут он просыпается с паническим криком.
Он открывает глаза, его крик – который на самом деле был не более чем тихим стоном, по-прежнему звучит у него в ушах.
Ночь так тиха, как будто все, кроме него, умерли. Рядом с ним лежит его жена Сильвия. Шаки выпрямляется и смотрит в темноту, которая просто абсолютна, потому что Сильвия страдает от бессонницы. Каждый вечер примерно в половине двенадцатого Сильвия опускает жалюзи на окнах и вдобавок задергивает тяжелые шторы синего цвета. В теплые летние ночи Шаки хотя бы разрешается открыть окно. Но теперь зима. «Малейший сквозняк или лучик света, – мысленно Шаки передразнивает ее высокий резкий голос, – обязательно разбудят меня, воробушек мой. Поверь мне!»
Вообще-то Шаки зовут Кристиан, он граф фон Шаки-Белендорф, но в начале восьмидесятых он отказался от графского титула. В основном чтобы позлить отца, который тут же лишил его наследства. Но ему, в общем-то, было все равно, потому что мать Шаки еще богаче. Так что Шаки был уверен в своем будущем. Правда, теперь он уже жалеет об этом шаге – графские титулы снова в моде. А с другой стороны, все равно все знают, из какого он на самом деле рода.
В принципе, я странный персонаж.
Шаки, который уже почти что заснул, снова вздрогнул и проснулся. Голос, звучавший в его ушах, был до жути реальным. Как будто в комнате кто-то находился. Как будто этот кто-то был прямо рядом с ним.
– Выпью-ка я чего-нибудь, – пробурчал Шаки и встал.
Сильвия что-то сонно пробормотала, и раздался звук, который бывает, когда кто-то во сне переворачивается с боку на бок и поправляет при этом одеяло. Сильвия всегда прокладывает его между колен, чтобы было мягче, потому что они довольно-таки костлявые.
Шаки на ощупь пробрался к двери, мимо шкафа-купе и жуткой, почти в человеческий рост скульптуры, которую Сильвия непременно захотела купить во время сафари на озере Кариба. Эту штуку пришлось перевозить морем, для самолета она была слишком тяжелая, а когда она оказалась в их доме, Сильвия не знала, куда девать эту жуть, которая ей больше не нравилась. С тех пор она загромождает их спальню, и так, наверное, будет до скончания веков.
Эта история уже давно вошла в арсенал шуток Шаки. «Хотите посмотреть?» – спрашивал он, рассказав эту историю, и они с Сильвией и всеми гостями, уже изрядно подвыпившие, шли, пошатываясь, в спальню, где долго не стихал смех, причиной чего был монстр, которого Шаки и Сильвия окрестили человекослоном.
В прихожей Шаки включил свет и машинально выдохнул. В голове крутилась идея-фикс, что ему обязательно нужно выпить. Пить. Ему самым банальным образом хотелось пить.
Только не воды. Не тот вид жажды привел его в кухню, где стоял огромный холодильник. В нем на льду лежала бутылка водки. Рот Шаки наполнился слюной в предвкушении горькой, холодной, острой, чистой жидкости, призванной изгнать дурные мысли и страхи последних недель из его мозга.
Пока он сидел за кухонным столом, пил и смотрел в окно, в котором нечетко отражались его контуры, в нем созрело решение. Нужно уехать отсюда. Подальше, что в данном случае значило: очень далеко. Например, Шаки подумалось о круизе на «Сильвер Клауд». На одном из кораблей, каких в мире были единицы, с просторными каютами, из которых можно наслаждаться видом самых чудесных на свете закатов. Ужин с капитаном в кают-компании, барбекю у бассейна на восьмой палубе. И стюардесса, обязанности которой состоят лишь в том, чтобы Шаки было хорошо.
Лицо Шаки расплылось в улыбке, благодаря чему он, несмотря на свои неполных сорок лет, стал выглядеть совсем как мальчик. По крайней мере, если верить его нечеткому отражению в окне, а Шаки, видит Бог, пребывал не в том настроении, чтобы видеть правду. Сейчас ему нужны были иллюзии, чем больше и соблазнительнее, тем лучше. Но для начала нужно как-то подать эту идею Сильвии. Не так: «Мы с тобой вдвоем на «Сильвер Клауд», во что бы то ни стало!», а так: «Шаки страшно устал и ему необходим отдых». Не от Сильвии, как ей такое в голову могло прийти? Конечно, он хочет, чтобы она поехала с ним. Но, с другой стороны, в ее галерее дела как раз идут на лад в эти предрождественские дни, поэтому он подумал… Он, правда, думал исключительно о ней…
Нет, с Сильвией этот номер не пройдет. Она обидится, если он попытается уехать без нее. Но сейчас он просто не может взять ее с собой. Нужно подумать. Разобраться во многих вещах. А это получается только хотя бы в относительном одиночестве. Это не сработает, если Сильвия будет заводить дружбу с каждым встречным-поперечным и целый день только то и делать, что изъявлять всевозможные желания, и так многословно и часто, что все, начиная от высших офицеров и заканчивая помощником стюарда, в конце концов перестанут ее выносить.
Не пойдет. Сильвия пусть остается дома. Но как же Шаки сделать, чтобы все это выглядело так, будто она сама захотела остаться дома?
В принципе, это очень просто: завтра утром, когда она будет еще в полудреме, он подкинет ей эту идею с «Серебряным круизом». Не говоря ни слова о том, что хочет ехать один. А вместо этого он скажет: «Мышка, давай-ка снова вытворим что-нибудь этакое, а?»
И снова Шаки улыбнулся. Нет ничего, что Сильвия ненавидела бы больше, чем вытворить что-нибудь этакое. Она утверждает, что, исходя из ее опыта, у Шаки это связано или с бабами, или с пьянками, и в том, и в другом случае ей не хотелось в этом участвовать. Сильвия на десять лет моложе Шаки. Она из хорошей семьи – урожденная графиня Ларвиц фон Майнинген, но денег у нее нет совсем. Единственное ее достояние – это красота, и поэтому ее поддержание стоит того, чтобы отказывать себе во всем. Сильвия мало ест, мало пьет и не курит. Она каждый день ходит в спортзал «Леос Джим», там у нее персональный тренер, и ее вполне можно сравнить с очаровательными юными моделями, актрисами, студентками права и театрального искусства. Пока что она имеет головокружительный успех, в этом Шаки мог убедиться во время своих немногочисленных визитов в спортзал. Кто там не смотрелся, так это сам Шаки, но это было неважно. Об этом он мог задуматься потом, когда в его голове освободится место для милых, неважных мелочей жизни.
Это можно будет сделать, если вырваться отсюда. И, возможно, никогда больше не возвращаться.
Нет. Он вернется. Без этого города, без своих друзей он не сможет жить. Он побывал в самых прекрасных уголках земного шара, но нигде, кроме как здесь, не смог бы жить. Здесь его знает и любит каждый, он чего-то стоит в этом городе. Ему нравилось жить недалеко от дворца принца-регента, откуда было рукой подать до любой части города, и летом даже не нужна машина – разве только чтобы выхваляться на Леопольдштрассе.
Он и не заметил, как это произошло, но бутылка водки, которая только что была наполовину полной, теперь оказалась практически пустой.
Он посмотрел на настенные часы над белоснежной раковиной. Половина пятого. Только что была половина третьего. Этого он не мог понять.
И в тот же миг – по крайней мере, так ему показалось, – зазвонил телефон, стоящий рядом с ним. Шаки вздрогнул – этот звук жутко отдавался в ушах.
Никто в такое время не мог звонить. Никто, кроме…
Шаки не стал снимать трубку. Звонит по всему дому, кроме спальни, по крайней мере, исключена вероятность, что Сильвия проснется от этого звона. Он даже не хочет знать, кто звонит. Пять звонков, потом включился автоответчик, стоящий в кабинете Шаки. Дверь в кабинет закрыта, но автоответчик включен так громко, что он все равно слышит голос. Непонятно, что он говорит, но это именно тот голос, которого он уже научился бояться.
Когда раздалось «пиип-пиип-пиип», Шаки встал и вытряхнул пепельницу в мусорное ведро под раковиной (в пепельнице скопилось восемь окурков, с ума сойти можно, сколько он курит, совершенно не замечая этого). Потом со стаканом в руке на ватных ногах медленно пошел в кабинет и стер запись. Он пьян, но теперь ему это неприятно. Отвратительно. Настроение, как у побитой собаки. Ему нужен кто-нибудь, с кем можно было бы поговорить о своих проблемах.
Но никого нет. Не то что у него нет знакомых, напротив, у него множество знакомых. С этим множеством знакомых он практически каждый вечер встречается в «Кефере» или в «Трейдерс Вик», прежде чем пойти в «П1» или домой, но в этом узком кругу не затрагивают такие темы, как вина и грех. Просто не та ситуация – так сказали бы его друзья. Здесь говорят об инвестициях и о том, как платить поменьше налогов. Советуют друг другу, где найти горячих кисок (говорят, самые красивые попадаются в «Цсаре»). Рассказывают о последнем отпуске на Санкт Барт и жалуются на невыгодный курс доллара, из-за которого, к сожалению, подорожала поездка на Карибы.
Нет, здесь не говорят о грехах, совершенных почти два десятилетия тому назад, которые при всем желании не могут попасть в рубрику «Поступок кавалера».
Короче говоря, нет никого, кому Шаки мог бы довериться. Никто бы не понял его. Придется справляться самому. А он знает, что не способен на это. Шаки – такой человек, который умеет наслаждаться радостями жизни. Когда начинаются трудности, ему лучше куда-нибудь исчезнуть.
Он знает, что практически сорок лет ему везло до неприличия.
Теперь везение закончилось.
Но думать об этом слишком больно. Шаки прилег на белый диван и уснул.
Два часа спустя он проснулся от того, что кто-то трезвонил в дверь как сумасшедший. Во рту сухо, череп раскалывается, уголки губ потрескались, потому что изо рта у него текла слюна. На диване осталось мокрое пятно. На улице светло. Шаки выглянул в окно. Снег валил так же густо, как и во сне.
Смена кадра: вот он уже перед входной дверью. Снова позвонили, и Шаки открыл дверь, как будто кто-то ему приказал. Тот, кто очень хорошо разбирается, что такое вина и грех, теперь решил, что для Шаки настало время заняться этой темой вплотную. Хочет он того или нет.
Перед Шаки возникло лицо – знакомое и в то же время незнакомое. Фата-моргана. Оно должно сразу же исчезнуть. Головная боль вызывает у Шаки мысли об апокалипсисе, он по-прежнему ничего не понимает. Жуткая боль в правом боку заставила его застонать. Все еще не веря, он схватился рукой за то место. Прямо как в фильме! Бежевый халат окрасился в красный цвет, так быстро… А сколько крови! Он засунул руку под халат, и кровь тепло потекла по его ладони. Колени Шаки подкосились, и он прислонился к дверному косяку. Глаза расширились, приняли невинное детское выражение, что выглядело очень странно, потому что у него было лицо человека, злоупотреблявшего водкой, кокаином, никотином и проводившего долгие ночи без сна.
Второй удар пришелся прямо в сердце. Шаки упал и ударился затылком. Снова боль. Умирать так больно! Он с трудом поднялся. Новый удар – на этот раз в правую ногу. Прошли длинные томительные секунды, потом Шаки почувствовал на шее что-то холодное, тонкое, похожее на коварную змею. Он закашлялся, стал задыхаться, хотел что-то сказать, но вместо этого услышал только собственный хрип. Жуткий звук. Ужасное чувство: знать, что больше ничего не будет. Что именно теперь его жизнь закончилась. Никогда больше не придется пить, курить, заниматься любовью, никогда…
Шаки даже не знал, что его ждет: пустота или ад. В глубине своей отчаявшейся, испорченной души он верил в последнее, и это превратило борьбу со смертью в ужасное мучение.
Три часа спустя Мона, Фишер, Бергхаммер и люди из отдела фиксации следов стояли перед трупом Кристиана Шаки. Мраморный пол перед дверью в квартиру на четвертом этаже был весь в крови, точно так же, как и паркет в квартире. Убитый лежал на спине на пороге открытой двери. Наполовину в квартире, наполовину на лестнице. Его конечности образовали что-то вроде свастики, так причудливо они были вывернуты. Глаза – как и у Амондсена, и у Штайера, были, вероятно, закрыты позже.
Кристиан Шаки учился в том же классе, что и Роберт Амондсен. Константин Штайер учился на класс старше. Иссинг – и никуда от этого не деться.
Но на этот раз на Михаэля Даннера подозрение не падало. Его по требованию Бергхаммера круглые сутки охраняли двое полицейских из Мисбахского округа, и они подтвердили, что во время совершения убийства он был в своей квартире.
– Мы же допрашивали его две недели назад, черт побери! – голос у Фишера срывался.
Он казался очень подавленным, Моне еще не приходилось видеть его таким. Совершенно разбит. Все-таки чувствуешь себя немного иначе, когда знаешь убитого. Не нужно любить его, достаточно знать, каким он был при жизни. Как он двигался, как говорил, жестикулировал, улыбался. Тогда, даже наедине с собой, невозможно рассматривать его просто как труп.
– Черт побери, – снова сказал Фишер.
Он покачал головой, нервно провел рукой по коротким волосам. Бергхаммер начал к нему присматриваться.
– С тобой все в порядке, Ганс?
– Да, конечно.
Но это было не так, и все это понимали. Наконец Фишера прорвало.
– Я говорил с ним. Спрашивал о самом важном. Он вообще ничего не знал. Он действительно ничего не знал. Клянусь, он ничего не знал.
– Хорошо, хорошо, – обеспокоенно сказал Бергхаммер.
Он неловко обхватил Ганса за плечи, и тот сразу же напрягся. Бергхаммер отнял руку.
– Ты не хочешь выйти на свежий воздух?
– Нет, – сказал Фишер с интонацией капризного ребенка.
– Точно нет?
– Нет! Со мной все в порядке. Кроме того, там, у входа, эти типы из прессы. Я не знаю, что им говорить.
– Ну, хорошо, – согласился Бергхаммер.
Журналистами занимался пресс-секретарь, но если они увидят Фишера, они, конечно же, попытаются получить информацию из первых рук, а Фишер сейчас не в том состоянии, чтобы давать интервью.
Сотрудница полиции, которая была с госпожой Шаки, вышла к ним и объявила, что теперь Сильвию Шаки можно допрашивать.








