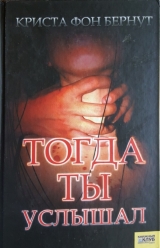
Текст книги "Тогда ты услышал"
Автор книги: Криста фон Бернут
Жанры:
Криминальные детективы
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 20 страниц)
– Забыть себя. Чтобы все, что делает меня собой, проросло в другом человеке. Отдать себя.
– Вот что вы понимаете под словом «любовь»!
– Конечно. А ты разве нет?
Берит не знала, что ответить на это. Если честно, она никогда особо не задумывалась о любви. В Иссинге можно было наблюдать скорее ее практический вариант. Были несколько пар, которые уже больше года вместе, но они не считаются. Они находились в своем обособленном мире, мире для двоих. Иногда можно было наблюдать, как они стоят, прижавшись друг к другу, на лестнице главного корпуса, и на вечеринках они танцевали только друг с другом. И они быстро становились никому не интересными. Если любовь – такая скука, то Берит она не интересует.
С другой стороны, есть Стробо, которого ей иногда так не хватает по ночам, что она не может заснуть.
– Ну? И что ты думаешь о любви? – спросил Даннер настойчиво.
– Не знаю, – нерешительно ответила Берит. Она часто считала себя обязанной сказать что-то интересное, оригинальное, умное, что-то, что было бы достойно похвалы Даннера. – Я не знаю, – повторила она. И тут же, не задумываясь, спросила: – А что вы, собственно, хотите услышать?
Даннер не ответил. Берит разочаровала его. Она, как и все остальные, – милый, симпатичный, неопытный подросток. Ничего особенного, ничего необычного. Она – как все. Ей казалось, что именно это кроется в молчании Даннера, и внезапно в ней поднялся утихший гнев: она снова позволила собой манипулировать, снова перестала быть самой собой.
– Может быть, – услышала она свой голос, – вы слишком много думаете о любви. Может быть, вам следовало просто принимать Саскию такой, какая она есть, и любить ее такой. Может быть, вы слишком многого от нее ждали. Какой она должна быть, и какими должны быть ваши с ней отношения.
Да, так оно и есть. Он слишком многого ждал. Он думал, что любовь – это заданная величина, а не дитя фантазии, интерпретация чувства.
Даннер повернулся к ней, спрятав руки в карманы, и снова впился в нее взглядом. Вдруг Берит поняла, что он не слышал ни слова из того, что она сказала. Его взгляд изменился. Теперь в нем появилось что-то неприятное, неподвижное, казалось, что он вообще не видит ее. Страх волной накатил на нее, и на этот раз она испугалась сильнее, чем раньше. Мысли Берит смешались. Она убеждала себя, что Даннер ничего ей не сделает, по крайней мере не сейчас, не здесь, не среди бела дня, не в той ситуации, в какую он попал. И все же Берит хотелось вскочить и убежать, но пошевелиться она не могла.
– Настоящая любовь беспощадна, Берит. В этом ее божественность. Она не довольствуется тем, чтобы просто быть, чтобы ею наслаждались. Она и просит, и требует.
– Я считаю, что любовь должна прощать, – урок религиоведения, девятый класс, доктор Шильд: «Любовь терпелива и приветлива».
– Христианские бредни.
– Что?!
Так он еще никогда не разговаривал. Вообще Даннер редко использовал подобные выражения. Берит заерзала на скамейке. Оцепенение спало, теперь ей просто захотелось уйти. Но Даннер вскочил и забегал перед ней туда-сюда. Она еще никогда не видела его таким, настолько взбешенным.
– Саския была моей женой, а я – ее мужем. Мы притерлись друг к другу, но никогда не забывали о своей цели.
Это прозвучало не терпящим возражения тоном, как проповедь. Подул ветер, не такой сильный, как дул до этого, начал моросить дождь. Берит вздрогнула, но промолчала. Она поняла, что Даннер ее не отпустит. Он должен был выговориться – во что бы то ни стало.
– Каждому человеку определено его существование. Поэтому все встречи предопределены. Люди реагируют друг на друга как химические препараты – в зависимости от характера всегда одинаково. Эту неизбежность называют любовью. Или ненавистью. Или равнодушием. Когда как. Мы с Саскией испытали все возможные химические реакции.
Берит подумала о химии – предмете, по которому у нее, как и у большинства девушек, были плохие оценки. Вспомнила преподавателя – маленького толстенького человечка, и то, как он наливал жидкости в реторты, добиваясь при этом самых неожиданных эффектов.
Иногда появлялась пена, иногда происходило окрашивание содержимого в разные цвета, иногда выпадал осадок, иногда ничего не происходило. Это развлекало, но не более того. Ей никогда не удавалось установить взаимосвязь между этими феноменами и формулами на доске. Когда они вместе со Стробо, что происходит с химической точки зрения? Что-то вроде электрического разряда: все энергии сливаются и получается мегаэнергия. Белый свет, идущий наружу. Но это, скорее, физика. Растерянная, Берит молчала. Но Даннер говорил дальше, как будто ему было безразлично ее мнение.
– У нас была фаза страсти, фаза отрезвления, фаза борьбы, фаза разочарования. Наши отношения становились пресными.
– И вы не выдержали этого.
– Верно, – согласился Даннер. Он снова сел рядом с Берит, подняв лицо с закрытыми глазами к небу, как будто загорал. – Никто не может этого выдержать, тебе это тоже предстоит.
– И поэтому вы ее… – она не смогла закончить фразу.
– Говорят, никто не может быть для другого всем. Но я этого требую, понимаешь, Берит? Тот, кто со мной, должен быть со мной весь, без остатка. Я был целиком с Саскией. Ни разу не ходил налево за все годы. А она постоянно отдалялась.
– Но оставалась с вами, – возразила Берит.
– Она внутренне ушла далеко-далеко. Она никогда не рассказывала мне о том, что творилось в ее душе.
– Может быть, она боялась.
Даннер быстро покачал головой.
– Чего она должна была бояться, скажи на милость?
И вдруг Берит показалось, что она поняла. Все очень просто. У Даннера было свое представление о ней: свободолюбивая, понимающая, толерантная. Он верил в это. А Саския знала другого мужа, который приходил в ярость, когда она позволяла себе проявление свободы, который, несмотря на свои красивые теории, не мог держать себя в руках.
– Почему вы били Саскию?
– Я не бил ее. Иногда у меня поднималась на нее рука.
Берит ничего не сказала. Она знала, что это неправда, и Даннер знал, что она знала. Она же видела: его лицо без всякого выражения, глаза, глядящие в никуда, его яростные удары. Даннер повернулся и молниеносно схватил ее за оба запястья. Берит хотела вырваться, но он был намного сильнее.
– У нас с Саскией были особенные отношения. И не наша вина, что под конец они стали пресными. Мы прошли все стадии реакции. Все закончилось.
Берит стала ощущать что-то странное, возможно, к ней пришло понимание, но ей не хотелось ничего говорить. Она начала безудержно дрожать. Сколько они сидят здесь? Десять минут? Два часа?
– Мы оба чувствовали это, но не говорили об этом. Дело было исключительно в том, как это произойдет.
Берит попыталась посмотреть на часы, но циферблат оказался под пальцами Даннера, костяшки пальцев побелели – так крепко он схватил ее. Он впился в нее взглядом, и она, как зачарованная, смотрела в его глаза. У него длинные ресницы, немного веснушек, чуть заметный прыщик на левом виске. Зрачки маленькие, как дробинки.
– Мы должны были развестись. Об этом мы договорились.
Ей было уже все равно, который час, – она поняла, что не уйдет отсюда. Даннер выскажет ей все, и этого она не переживет. Ему теперь, в общем-то, нечего было терять. Его жена умерла, работы нет. У него нет будущего, нет друзей, никого нет. Ему, скорее всего, все равно, что случится потом. Он свободен, в определенном смысле. И все же он пленник, так или иначе.
– Таков ход вещей. Умирай и рождайся, умирай и рождайся. Это всеобщий закон, и в первую очередь он действителен для отношений между людьми.
Умереть. Впервые в жизни Берит задумалась о смерти как о чем-то реальном, без всякого романтического ореола. Однажды она видела мертвеца, после автокатастрофы, из машины родителей – они медленно проезжали мимо места происшествия. Это был молодой человек, он лежал рядом с совершенно разбитым красным «гольфом», наполовину укрытый брезентом. Как будто о нем забыли суетящиеся вокруг полицейские, санитары, пожарные. С тех пор она знает, как на самом деле выглядит смерть. Не как в фильме, когда кадры сопровождает драматическая, грустная музыка. Реальность жесткая и банальная. Только что был человек со своими воспоминаниями, страстями, планами. И вот уже это просто телесная оболочка со стертым жестким диском вместо мозга. Ни на что больше не годный. Даже как мусор.
Берит увидела себя, лежащую лицом вниз в каком-то лесу, наполовину изъеденную червями, не вызывающую сочувствия, а только тошноту и ужас.
– Иногда легче сразу отрезать, чем долго прощаться.
Берит поняла: она умрет, не успев еще толком пожить, это точно. Даже не ощутив, что такое любовь.
И в этот момент она услышала за собой шорох чьих-то шагов.
Она испытала настолько сильное облегчение, что сердце на секунду остановилось и чуть было не потекли слезы. Она рванулась, и пальцы Даннера бессильно соскользнули с ее запястий.
– Оставь ее в покое, ты, свинья!
Это Стробо, его лицо искажено от ненависти. Никогда, никогда Берит даже мечтать не смела, что кто-то будет так разговаривать с Даннером.
– Ты, свинья, ты…
Даннер вскочил. Его лицо стало белым, словно это была маска. Он сделал рукой извиняющийся жест, но Стробо больше не обращал на него внимания. Он мягко коснулся плеча Берит.
– Вставай, мы уходим.
Стробо взял Берит за руку и потянул к себе, заставляя подняться. Его вязаные перчатки казались теплыми, живыми, приятными на ощупь. Ноги занемели и замерзли, и она вдруг испугалась, что не сможет пойти за ним. Но оказалось, что смогла. Даже побежала. За Стробо, через заросли, прочь отсюда. Забыть все. Забыть.
22
В квартире Фелицитас Гербер пахло несвежей постелью, испортившимися продуктами, холодным дымом и еще чем-то неуловимым. «Одиночеством», – подумал Фишер и невольно покачал при этом головой – как будто удивляясь себе и своим странным ощущениям.
Квартира находилась в пристройке к серой многоэтажке, возведенной в шестидесятых годах. Справа от маленького коридора были расположены две крошечные комнатки, а слева – кухня и ванная. Одна из комнат была наполовину выкрашена в желтый цвет, ведерко с засохшей краской стояло открытым под окном. Мебели было очень мало, и выглядела она так, будто ее сделали из отходов. В первой комнате – стол и три пластиковых стула, а еще – выкрашенный в зеленый цвет буфет, во второй – узкая старая кровать из «Икеа»[23]23
Европейская фирма, занимающаяся продажей дешевой мебели.
[Закрыть], платяной шкаф оттуда же.
Постельное белье валяется на полу, простыня грязная. Серый дешевый ковер весь в пятнах и дырках, прожженных сигаретами.
Фишер открыл окно, хотя на улице было очень холодно. Действие чисто рефлекторное, он даже не совсем осознал, что сделал. Он был во многих квартирах, состояние которых было куда хуже, но они не производили на него такого гнетущего впечатления, как эта. В последнее время на него многие вещи стали производить сильное впечатление. То, что он не сумел уберечь Шаки, потому что на допросе не заметил, что он что-то скрывает. Потом эти неприятности с желудком. У него по-прежнему не было аппетита, он похудел на пять килограммов. Джинсы висели на нем, и вообще он чувствовал страшную слабость.
– Ганс, что там?
Фишер оперся на подоконник и издал странный звук. Ну, ему нужен свежий воздух, и что? Наконец он повернулся. Зайлер стояла прямо перед ним.
– Тебе нехорошо?
– Нет, все в порядке.
– Тогда закрой-ка окно. Жутко холодно.
Но Фишер не чувствовал холода, ему, наоборот, было жарко и душно. И это еще больше выбило его из колеи, ему и так уже казалось, что все проходит мимо него. Все у него не как у всех.
Он послушно закрыл окно, чувствуя спиной вопросительно-критичный взгляд Зайлер.
Но когда он снова обернулся, ее уже не было в комнате. Секунду он постоял в нерешительности, а потом в углу комнаты увидел что-то небольшое, накрытое пластиковой пленкой. Он осторожно снял пленку и увидел гончарный круг, а на нем – недоделанный глиняный сосуд.
– Мона! – крикнул он, сам еще не зная, зачем.
– Да?
– Иди сюда.
– Сейчас.
Фишер смотрел на круг, на сосуд на нем, и внезапно начал понимать. Он, не глядя, отбросил клеенку, которую все еще держал в руке, и сел на пол. За кругом, между двумя завернутыми в пленку кусочками дерева со следами свежей влажной глины, лежал кусок проволоки с двумя примитивными рукоятками на концах.
– Что случилось? – спросила Зайлер у него из-за спины. – Ты нашел что-то интересное?
Он, все еще сидя на полу, посмотрел на нее снизу вверх и улыбнулся.
– Ты помнишь тот фильм про гончара, который угробил всю свою семью проволокой?
– Что?
– Фильм ужасов. Я видел его, когда мне было двадцать лет или что-то около того.
– Ну и что?
Фишер протянул ей проволоку с рукоятками. Зайлер взяла ее в руки, все еще не понимая.
– Черт, Ганс, это же наше орудие убийства!
– Ага, – отозвался Фишер.
Он уже забыл о последних неудачных днях. Насчет орудия убийства он оказался прав.
– Она вся в…
– Это следы глины, – довольный, перебил ее Фишер. – Видишь сосуд? Он прилепливается на круг так прочно, будто он на клею, иначе над ним нельзя работать. А без этой проволоки его не снимешь. Поддеваешь его и тянешь на себя.
Зайлер улыбнулась.
– Это ты все видел в том фильме ужасов?
– Фильм был о гончаре, совершенно мирном типе, он переехал вместе со своей семьей в дом с привидениями. Ну и потом полтергейст свел его с ума, примерно как в «Сиянии». А потом ему явился его предок, которого обезглавили…
– Гарротой, – подсказала Зайлер.
Фишер улыбнулся.
– Да, именно. И однажды этот гончар совсем умом тронулся. Сначала убил жену, потом обоих детей. Убивал так, как был убит его предок.
– Проволокой.
– Да. Своеобразная замена гарроты. Жуткое зрелище. Головы отделял до плеч.
– Ну и фильмы ты смотрел, когда тебе было двадцать! Неудивительно, что ты такой хмурый.
Фишер решил ей этот выпад великодушно простить.
– Так что Гербер мы поймали.
– Это было бы замечательно, – сказала Мона. – Только она в бегах. И пока это лишь наши предположения.
Берит подставила стул под дверную ручку и положила сверху штук двадцать книг. Теперь дверь не откроет никто.
И повернулась к Стробо, лежавшему на ее постели и смотревшему на нее. Его взгляд был так чист и ясен, так любопытен и бесстрашен, что она на секунду почувствовала растерянность. Но потом что-то в ней решило: теперь все будет хорошо, что бы ни случилось. И у нее, чтобы насладиться осознанием этого, было достаточно времени.
Берит сделает то, чего так боится: предстанет перед Стробо, отдаст себя на его суд. Потому что сегодня вечером она должна узнать, как он относится к ней на самом деле. Теперь она настолько внимательна, что уловит любой нюанс, каждую фальшивую нотку, каждое критическое замечание. Ему не обмануть ее. Она медленно сняла свитер – черный, кашемировый, мягкий, как вторая кожа. Под ним ничего не было.
– Иди сюда, – сказал Стробо.
Он попытался улыбнуться, но смотрел на нее пристально и серьезно. Берит ласково улыбнулась и сняла юбку, сапоги, колготки. По всей комнате горели свечи – на столике между кроватями, на шкафу, на книжной полке, на письменном столе. Магическое освещение, оно делало ее красивее и одновременно неувереннее, потому что в этом мерцающем свете, в этих пляшущих тенях исчезали все границы.
– Иди же, – повторил Стробо, его голос прозвучал хрипло и глухо.
И она решилась.
– Раздевайся, – мягко сказала Берит и едва не засмеялась из-за поспешности, с какой Стробо стал выполнять ее просьбу.
Но она не позволила себе этого сделать, потому что чувствовала – секс со Стробо не может быть смешным. Пока еще нет. Снаружи кто-то стучал в дверь, кричал:
– Идиот, смотри в оба!
Но Берит не слышала ничего, кроме биения своего сердца.
Они стали на колени и медленно протянули друг другу руки. Оба знали, что это будет самый сладкий и самый сумасшедший миг – когда они впервые коснутся друг друга. Хотели растянуть этот момент. Наконец Берит коснулась Стробо, и в следующий миг они как сумасшедшие прижались друг к другу.
– О Боже мой, Берит! – тихо сказал Стробо, а потом, как во сне: – Я в тебе.
Из него полился поток слов, когда они с Берит нашли общий ритм: любимая, сладкая, самая красивая, я хочу иметь тебя часами, ты такая сексуальная, такая мягкая, такая красивая, у тебя все красивое, все…
Они хотели растянуть удовольствие, но не получилось. В последний миг черная река унесла Берит в никуда, и она испуганно ахнула от переполнявших ее чувств, которые были сильнее ее, и о существовании которых она не догадывалась.
Потом они вместе наелись бутербродов с «Нутеллой». Потом покурили. Потом снова переспали, на простыне, полной крошек, хихикая и безумно желая друг друга.
Потом разговаривали. Свечи гасли одна за другой. Скоро отбой, Стробо давно должен был уйти, но они все никак не могли расстаться.
– Ты счастлив?
– Глупый вопрос.
Больше ничто не стояло между ними. Ничто не могло разлучить их.
Полтора часа спустя Мона припарковала машину примерно в полукилометре от дома. Моросил дождь, снег таял, капало с крыш. Мона взяла портфель, сегодня он был в два раза тяжелее, чем обычно, потому что в нем лежали двадцать толстых тетрадей в черном переплете. Дневники Фелицитас Гербер, которые нашли Мона и Фишер в самом низу буфета, были хорошо спрятаны за чашками с отбитыми ручками, бутылочками из-под лекарств, тюбиками из-под моментального клея и высохшими фломастерами. Записи, насколько можно было судить, все не датированные, но написаны чистым, четким почерком.
Половина двенадцатого, и, возможно, Моне предстояла еще долгая ночь. Зависит от того, насколько правдивыми окажутся записи. Может быть, Фелицитас Гербер записывала только свои галлюцинации, тогда эта находка не имела никакой ценности, но она могла описывать свои предполагаемые поступки – тогда у Моны в руках самая важная улика, которой пока располагает КРУ 1.
Мона взяла портфель в правую руку, зонт – в левую, и при этом маневре ключ выпал из ее руки на мокрый асфальт. Ругаясь, она положила портфель на мокрую крышу машины и нагнулась за ключом. Ее руки слегка дрожали, когда она выудила ключ из сточной канавы. Вдруг ей показалось, что она услышала шорох, как будто кто-то был рядом с ней. Но это, скорее всего, шалили нервы. Она страшно устала, что совершенно было нормальным на данном этапе расследования. Такие нагрузки кого хочешь с ума сведут. Просто перестаешь думать, достаточно ли ты спишь и ешь. Это все мелочи – когда видишь первые плоды своих усилий и понимаешь, что конец близок.
«Ты просто слишком наивна, совершенно не видишь, что эти ребята тебя используют». Она стояла перед матерью, которая снова ухитрилась улучить момент, когда она чувствовала себя отвратительно. Никто, она просто никто. Все были бы счастливее, если бы ее не было. По крайней мере, если бы она была не такой, какой есть. Пухленькой, с плохой кожей и характером, который отпугивает людей.
Она – это, должно быть, Фелицитас Гербер. Или все же нет? Это ненормально – писать о себе в третьем лице, как будто речь идет о ком-то другом? На секунду Моне пришла в голову страшная мысль, что с ней сыграли злую шутку. Что, если имя Фелицитас Гербер так и не появится в этих записях? Что, если речь идет действительно не о ней? Что, если это просто проба пера Гербер? Что, если она купила эти тетрадки на барахолке?
О любви она знала из книг и фильмов. Она была счастлива, когда Ретт Батлер и Скарлетт О’Хара сошлись той ночью, когда Ретт не смог больше сдерживаться и взял Скарлетт так, как уже давно хотел: страстно, силой, не думая ни о чем. Она плакала, когда во время тяжелой болезни Скарлетт Ретт сидел у ее постели. И она едва сумела пережить боль, когда из-за этого жуткого недоразумения он ее все же бросил. Потому что ему надоело страдать. Потому что Скарлетт слишком поздно поняла, что он и есть тот самый, единственный.
Она искала такой любви в собственной жизни, но ее не было. В ее жизни любовь выглядела так: она добивалась человека, а человек в лучшем случае терпел ее. Никто не искал ее дружбы, ее расположения. Почему так было? Она не знала этого. Она рассматривала себя в большом зеркале в спальне родителей и видела девушку, ничем не отличающуюся от других девушек ее возраста. То есть то, что отдаляло ее, делало чужой, было невидимым. Может быть, нужно научиться рассматривать это не как недостаток, а как достоинство? Но, утешая себя этим, она уже поняла, что ничего не сможет сделать. Она ощущала любовь только в постели, на заднем сиденье машины, в потаенных местах в лесу. Стонущая и пьяная. Тогда, когда ребята теряли в ней себя, забывали себя, когда их лица на несколько минут становились мягкими, удивленными и беззаветно преданными.
* * *
Ее детские воспоминания были во многом отрывочны. Она помнила соседскую девочку, которая была на пару лет старше ее, она ею восхищалась. Они ходили в школу одной и той же дорогой, и каждый раз, когда они встречались, она с надеждой улыбалась этой девочке. Но та ни разу не ответила на ее улыбку.
* * *
Когда ей было восемь лет, у нее было две подруги. При возникновении каких-либо недоразумений они заключали против нее союз. Лица у них при этом были ехидные – они знали, что причиняют ей боль. Им нравилось причинять ей боль.
Если что-то было не так, она всегда оставалась одна.
И так страница за страницей, бесконечный поток безрадостных человеческих переживаний. Разобраться было трудно, Мона не могла понять, когда что было написано. Пока она не обнаружила ни единого слова об Иссинге, Португалии, Симоне, Шаки или Даннере. Между тем уже было три часа утра. Мона сидела на полу, вокруг нее были разбросаны тетради, глаза буквально слипались. Завтра равно утром все придется начинать сначала.
Завтра? Сегодня!
Зевнув, она схватила какую-то тетрадь – последнюю на сегодня, решила она – и стала продираться сквозь строчки на пожелтевших, густо исписанных страницах. По почерку хотя бы понятно, что речь шла об одном и том же человеке.
…Черные дыры в белых скалах. Песок настолько горячий, что печет даже сквозь кожаные подошвы сандалий. Теперь она была у цели, но ее опять охватил страх, ее постоянный спутник. Может быть, ее здесь вовсе не ждали. Может быть, Симон приглашал ее не всерьез. Но зачем тогда он так точно описал ей дорогу, почему несколько раз взял с нее обещание, что она точно приедет?
Она улыбнулась от этой мысли и пошла быстрее. Она чувствовала, что предстоящие несколько недель изменят ее жизнь. Она была готова к этому приключению.
Все началось с небольшого разочарования. Когда она, наконец, обнаружила пещеру, в которой жили Симон, Шаки и другие, все крепко спали. С нежностью смотрела она на их умиротворенные, уже сильно загоревшие лица, их стройные крепкие тела. Она с облегчением опустила на землю рюкзак. Вдалеке звало море, поэтому она надела купальник, бросила на друзей еще один взгляд и, взяв полотенце, побежала к морю. Прикосновения прохладной воды напоминали объятия, и она с наслаждением им отдалась. Она ныряла в волны, чувствовала, как распустились ее пропотевшие волосы, как вода смывала с нее грязь последних дней. Она немного поплавала, потом позволила волнам отнести себя на берег и, как была, мокрая, улеглась на полотенце.
Минут через десять она вскочила: она уснула под палящим солнцем. К счастью, она не обгорела. Она еще раз окунулась и пошла к пещере.
Тем временем они проснулись. Встретили ее приветливо, хотя и не слишком восторженно. Но это она могла понять, потому что она ведь даже не могла сообщить, приедет ли. Может быть, они уже и не ждали ее. И всем теперь нужно было привыкнуть к новой ситуации. Они предложили ей выпить и закурить, потом все вместе пошли в бар на пляже чего-нибудь перекусить. Хозяйка подала специально для нее фирменное вино, и под конец она действительно развеселилась. Вечером она заползла в спальник с сознанием того, что поступила правильно. Даже несмотря на то что именно Симон вел себя так, как будто внезапно пожалел, что пригласил ее.
Второй день начался поздно, уже около одиннадцати. Она чувствовала, что мышцы побаливают, остальным, казалось, было не лучше. Стояла такая жара, что было трудно дышать. Ветер совершенно стих, море блестело как зеркало, солнце сияло на мглистом небе. Они со стонами выползли из спальников и выкурили по первой сигарете. Миха поставил воду на горелку, Симон положил в пять грязных чашек «Нескафе» и сухое молоко: это был их завтрак. Она улыбнулась, хотя Симон совершенно забыл о ней. Но из таких чашек она все равно не стала бы ничего пить. Она решила, что будет заботиться о чистоте. Пещера была похожа на лагерь беженцев. Повсюду валялись грязные вещи, пластиковый пакет для мусора страшно вонял, песок смешался с хлебными крошками и табаком. Потом она обязательно займется уборкой.
– Ты купаться пойдешь? – спросил Симон, уже надевший плавки.
– Да, с удовольствием, – ответила она. – Я сейчас быстренько переоденусь.
– О’кей, мы пойдем вперед.
И пещера внезапно опустела. Она не торопясь надела купальник. Узкий. Слишком узкий. Она расстроенно посмотрела на свои ноги, казавшиеся чересчур белыми и жирными, в отличие от загорелых тел остальных. Нужно сделать все, чтобы как можно быстрее загореть. И похудеть.
Наконец она взяла себя в руки и побежала к ребятам, которые уже резвились в воде, без нее. Потом она увидела, что Миха стоит на берегу и приветливо улыбается ей. Он бросил ей фризби (и она его, к собственному удивлению, поймала), и вдруг все стало просто. Она бросила фризби Симону и с воплем ликования прыгнула в воду. Остальные засмеялись. И вот она уже с ними.
Вечером они сидели у костра, ели хлеб, сыр, салями и оливки. Бутылка вина ходила по кругу, а на десерт была трубка, набитая тайской травой. Первоначальная расслабленность уступила место задумчивости. Началась дискуссия на тему «быть собой».
Симон: «Самое абсурдное состоит в том, что общество требует, чтобы ты носил маску. А потом делает все, чтобы ты ее сбросил. Чтобы ты стал беззащитным».
Шаки: «Надел маску – значит, ты в состоянии функционировать в этом мире. Но всегда есть люди, которым совершенно не нужно, чтобы ты функционировал».
Миха: «Ты можешь это делать, пока пытаешься доказать миру, что функционируешь по его законам. Но кто тебе сказал, что ты должен это делать?»
Роберт: «Все так говорят. Словом или делом, все равно».
Миха: «А даже если так, Роберт. Не нужно следовать любому приказу, кто бы его ни отдавал. Ты можешь быть собой в любой ситуации. Нужно только на это решиться. Решиться сказать: вот он я, я не притворяюсь, меня можно обидеть, я агрессивен – это я. Принимайте меня таким или оставьте в покое».
Симон: «И получишь по голове. Мы знаем, как это происходит».
Миха: «В этом-то и дело. Ты-то сам уже пробовал, Симон? Совершенно сознательно встать и сказать: или вы принимаете человека, которого видите и чувствуете, или можете продолжать и дальше мечтать о фантоме? Ты уже так делал? Пытался хотя бы?»
Симон: «Нет. Я часто хотел так поступить, но каждый раз вмешивался рассудок».
Миха: «Рассудок! Да выключи ты его, твой драгоценный рассудок. Слушайся тела. Тело знает, что для тебя хорошо. Для меня, например, хорошо сейчас положить голову на мягкие коленки. Это мое тело знает совершенно точно».
Миха положил голову ей на колени и улыбнулся ей снизу вверх. Она чувствовала себя замечательно. Казалось, все придвинулись к ней, как зябкие маленькие птицы, ищущие укрытия. Воцарилась тишина, нарушаемая только плеском волн вдалеке.
Потом она услышала голос Симона, хриплый и сонный:
– Давайте еще сходим к морю.
Они медленно поднялись на негнущихся ногах, у них слегка кружились головы. Ей ее голова казалась легкой, как воздушный шарик, готовый улететь. Миха взял ее за руку, когда они босиком шли по прохладному песку к воде. Он шел медленнее, чем остальные, и в какой-то момент обнял ее. Прошептал: «Пойдем, я знаю одно чудесное местечко для нас двоих. Там мы сможем купаться в лунном свете».
Она обрадовалась этому предложению, хотя ей не очень хотелось отделяться от группы. Ей так было хорошо вместе со всеми. Но Миха легонько укусил ее за ухо, она вздрогнула от прилива страсти, и пошла вслед за ним к скалам, на которые набегали волны. Миха вел ее за руку, поддерживал, когда она спотыкалась, и наконец они пришли на небольшое плато, которое, как он и обещал, было залито лунным светом.
Когда они вернулись, остальные уже залезли в спальники. Миха легонько поцеловал ее в губы и погладил по щеке. «Было чудесно», – прошептал он. Она не смогла ничего сказать в ответ. Она была счастлива и одновременно… Она не знала. Еще долго записывала в тетрадку, при свете фонарика, а остальные уже спали. Эта потребность – записывать переживания и опыт – появилась у нее лет с двенадцати или тринадцати, как будто это могло ей как-то помочь. Может быть, так оно и было.
* * *
На третий день она чувствовала себя растерянной, потому что Миха, хоть и был с ней приветлив, едва замечал ее. Зато Шаки был с ней особенно нежен, принес утром кофе в почти чистой чашке, когда она еще была в спальнике, держался к ней поближе, при каждой возможности обнимал… Вечером они поехали ужинать в «Фаро», большой, шумный, освещенный неоновыми лампами ресторан, где им подали устриц в чесночном соусе… Ночью Шаки пришел к ней, забрался в спальник, и они делали это тихонько, чтобы другие не слышали… Поцелуи Михи были грубыми и требовательными, поцелуи Шаки – мягкими и влажными. Она не знала, что ей нравилось больше, возможно, и то и то было одинаково… хорошо. Вечером они говорили о том, как важно набираться опыта. Миха сказал, что ощущение неудовлетворенности и боли зависит от оценки. Как только перестаешь оценивать, тут же перестанешь быть несчастным.
– Но и счастливым быть тоже не сможешь, – сказала она.
– Почему же нет? Ты можешь быть счастливой благодаря всему, что дает тебе новый опыт. Это исключительно твое решение – принимать жизнь с распростертыми объятиями, такой, как она есть, всеми чувствами, или нет.
– Хорошо, но один опыт более приятен, другой менее. Это так, и ничего тут не поделаешь.
– Вот именно, что нет! Это фундаментальная ошибка западного человека, обусловленная христианскими догматами. Мы оцениваем и осуждаем, потому что рождаемся в религии, которая возвела это в максиму. Оцениваем и осуждаем, вместо того чтобы жить и принимать все, что приходит.
Когда она задумалась над этим, то вынуждена была признать, что он прав, даже в том случае, когда речь шла о ней. Откуда берутся душевные страдания? Из-за того, что она принимает суждения и оценки других людей за свои. Другие представляли ее вполне определенным образом. Они считали, что ее бытие, как выразился Миха, не совсем в порядке. И она начала видеть себя глазами других. Но то, что видят другие, просто ничего не значит, ведь речь идет о ее жизни. Что-то значит лишь ее собственное мнение. А она может считать, что все в порядке, даже если другим это не нравится.








