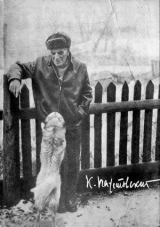
Текст книги "Наедине с осенью (сборник)"
Автор книги: Константин Паустовский
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 28 страниц)
Я застал жизнь такой же, какой она была при Куприне, и потому могу с некоторым правом свидетельствовать о необыкновенной свежести его характеристик людей и событий, всего его художественного письма.
Куприн был на Юзовском заводе в 1896 году. Мне привелось работать там в 1916 году-ровно через двадцать лет, но я застал еще в Донбассе всю обстановку купринского «Молоха». Я помню те же рабочие поселки. Нахаловки и Шанхай, из землянок и лачуг, беспросветную работу и нужду шахтеров, воскресные побоища с казаками, уныние, гарь, брезгливых и высокомерных инженеров и «молохов» – владельцев акционерных компаний, промышленных сатрапов, перед которыми заискивали министры.
Ни в одной своей вещи Куприн не выразил с такой силой, как в «Молохе», свою ненависть к капитализму и его разнузданным представителям, свое осуждение прекраснодушных и мягкотелых интеллигентов, в решительную минуту впадающих в истерию, и свое сочувствие рабочим, обреченным на голод и нищету.
Очень резко, густо выписан в повести делец и промышленник Квашнин – «молох», «мешок, набитый золотом». Временами Куприн придает Квашнину даже несколько гротескные черты.
Часть современных Куприну критиков, так называемых «литературных чистоплюев», обвиняла писателя, особенно в связи с «Молохом», в том, что он не окончил «литературную консерваторию» и допускает в своих вещах языковые и стилистические небрежности.
Обвинение это объясняется тем, что Куприн стремится сказать все, что он хотел, «по свежему следу», не откладывая работу и не вынашивая ее годами. Ему было важно заразить людей своим состоянием, своими мыслями, гневом или радостью, своей заветной мечтой, и для этого он не искал особых слов и особых эпитетов.
Куприн любил и превосходно знал русский язык, но никогда не делал из него раз навсегда установленного литературного канона.
Временами его язык приближается к разговорному, к языку устного рассказчика, и в этом отношении он несколько родствен языку Толстого. Вместе с тем Куприн всегда восхищался языком Чехова – «благоуханным, тонким и солнечным». Эта солнечность языка, его свет, его сила, его свежие краски были присущи и купринскому языку.
Куприн с удивительным чувством меры и умением пользовался родственными русскому языками (в частности, украинским) и местными диалектами. Особенно хороши его полесские рассказы, где диалект полещуков придает локальную прелесть всему произведению.
Помимо этого, Куприн хорошо знал жаргоны русского языка, вплоть до «блатного» языка и жаргона проституток, до речи обывателя и полуинтеллигента. Это качество придает его рассказам острую типичность. Куприн свободно владел способностью характеристики не только отдельных людей, но и больших прослоек русского общества при помощи их языковых особенностей, при помощи диалога.
Примеров можно привести много, но достаточно хотя бы двух – манеры говорить инженера Боброва из «Молоха» и студента из рассказа «Река жизни».
Ничто так не разоблачает внутреннюю несостоятельность этих «интеллигентов», как их язык – приподнятый, временами даже ходульный, книжный, многословный, «прекраснодушный», но лишенный твердости и силы.
По размаху своего таланта, по своему живому языку Куприн окончил не только «литературную консерваторию», но и несколько литературных академий.
Еще будучи офицером, Куприн ездил в Петербург держать экзамен в Академию генерального штаба. Экзамена он не выдержал, но поездка помогла ему установить связь с журналом «Русское богатство» и несколькими писателями.
С тех пор, несмотря на беспрерывные скитания иногда по самым забытым и глухим углам страны, Куприн не прерывал эти связи. Он познакомился с Чеховым, часто бывал у него в Ялте на Аутке и сдружился там с Буниным, Горьким, Федоровым, писателем-доктором Елпатьевским и со всем чеховским окружением.
Среди писателей он выделялся своей непосредственностью, простотой и образом жизни, далеким от обычного писательского существования. Дружа с писателями, Куприн никогда не изменял своим старым друзьям из рабочих, рыбаков, крестьян и матросов, из простонародья и ради общения с ними легко мог поступиться обществом литераторов.
В нем не было тщеславия. Он никогда не говорил о себе как о писателе, – возможно, что он просто забывал об этом. Но он никогда не упускал случая помочь начинающему писателю, особенно если он происходил из милой его сердцу простонародной среды.
Писатель Н. Никандров рассказывал мне, как Куприн упорно тащил и жестоко заставлял его, Никандрова, работать, чтобы «сколотить из него настоящего писателя».
История эта вообще интересна для характеристики того времени.
В 1905 году Никандров – бывший черноморский рыбак – сидел в севастопольской тюрьме за принадлежность к организации эсеров.
Севастопольская тюрьма была расположена вблизи Базарной площади, в месте довольно оживленном. Было лето. Стояла жара, и потому окна в камерах были открыты.
Никандрову – человеку необыкновенно жизнерадостному и большому говоруну – было скучно сидеть без дела, и он придумывал себе развлечения. Стоя у окна, он следил за пешеходами, шедшими на базар, главным образом за крикливыми южными хозяйками. Как только хозяйки, встретившись, останавливались и заводили разговор, Никандров начинал вслух сочинять этот разговор – смехотворный и необыкновенно сочный. Никандров хорошо знал быт и нравы южан.
Вся тюрьма слушала Никандрова у открытых окон и награждала его рассказы хохотом и аплодисментами.
Однажды Никандров получил через уголовного, прибиравшего камеры, записку. В ней было сказано, что если Никандров набросает на бумаге свои устные рассказы и передаст их автору этой записки, то рассказы можно будет напечатать в севастопольской газете и даже получить за них гонорар. Под запиской стояла незнакомая Никандрову подпись – Гриневский. Это был А. С. Грин.
Никандров набросал свои озорные рассказы, переслал их Грину, и вскоре рассказы действительно были напечатаны.
После освобождения из тюрьмы Никандров зашел в редакцию севастопольской газеты. Там на его имя лежало письмо из Балаклавы от Куприна. Куприн с восхищением отзывался о рассказах Никандрова и приглашал неизвестного автора к себе.
Никандров поехал к Куприну в Балаклаву, они быстро сдружились, и Куприн просто заставлял Никандрова писать и долго и терпеливо учил его основам писательского мастерства.
В Балаклаве Куприн написал один из самых обаятельных своих рассказов «Листригоны».
Я уже говорил о том, что почти все вещи Куприна автобиографичны. Все мечтатели и все влюбленные в жизнь в его рассказах – это он сам, Куприн, цельный и непосредственный человек, не знающий ни рисовки, ни позы, ни резонерства. Поэтому его неудержимо тянуло к таким же простым и ярким людям, каким он был сам.
Таковы были балаклавские греки – «листригоны».
Вообще «Листригоны» занимают по своей поэтичности, свободе повествования и вместе с тем по живописной конкретности людей, обстановки и пейзажа особое место в творчестве Куприна.
«Листригоны» – удивительная по простоте и прелести поэма русской прозы. Каждая черта, каждая деталь вызывают улыбку, – настолько все ощутимо верно и просто.
Двумя-тремя лаконичными фразами Куприн дает тонкое, эмоциональное, если можно так выразиться, представление о Балаклаве.
Вот, например, одна из таких фраз:
«Нигде во всей России – а я порядочно ее изъездил по всем направлениям, – нигде я не слушал такой глубокой, полной, совершенной тишины, как в Балаклаве. Выходишь на балкон – и весь поглощаешься мраком и молчанием. Черное небо, черная вода в заливе, черные горы. Вода так густа, так тяжела и так спокойна, что звезды отражаются в ней, не рябясь и не мигая».
Куприн недаром жил в Балаклаве. Нет, по-моему, лучшего места (конечно, зимой, когда Балаклава пустеет) для писательской работы.
Что-то гриновское есть в этом городке, в его греческих домах с пустыми нишами для статуй, в тончайших голубых сетях, разостланных прямо на набережной, в его уютных лесенках, в закоулках и переходах, в его тишине, в близости открытого моря Гул шторма слышен рядом, за мысом, тогда как в Балаклавской бухте вода, налитая вровень со старыми набережными, стоит неподвижно и ветер даже не шелестит в сухой листве акаций.
Но самыми поразительными, действительно магическими и необыкновенными являются балаклавские ночи, когда свет единственного в городе фонаря тонет во мраке и так хорошо думать, сидя на балконе, в кромешной темноте и чувствовать беспредельный покой и какую-то, я бы сказал, тишину сердца В этой тишине должны рождаться удивительные мысли и такие удивительные книги, как «Листригоны».
У Куприна есть цикл рассказов «Лесная глушь», «Болото», «На глухарей». Их объединяет место действия – леса, но по своему содержанию они очень различны.
Благоговейная и спокойная любовь Куприна к природе очень заразительна, и в этом тоже чувствуется сила его таланта.
О природе, о лесах, о какой-нибудь хибарке смолокуров Полесья Куприн рассказывает так, что тоска начинает грызть сердце, – тоска от того, что ты сейчас не там, не в этих местах, тоска от страстного желания немедленно увидеть их во всей девственной суровости и красоте.
Одно время Куприн жил в Мещерских лесах у мужа сестры, лесничего в Криушах. Действие рассказа «Болото» происходит в Мещере.
Память о зяте Куприна и о нем самом еще жива среди старых мещерских лесников и объездчиков. Они даже показывают место, где стояла сторожка лесника Степана, описанного Куприным в «Болоте», – безответного, тихого человека, умершего, как и вся его семья, от малярии.
Сторожка стояла на Боровом Мху, на обширном болоте. Такие болота в Рязанской области зовут мшарами. Сейчас Боровой Мох почти осушен и лесники на нем уже не живут. Лесные сторожки-кордоны вынесены из болот на так называемые «острова», на песчаные бугры среди сосновых лесов.
На буграх сухо и тепло, но жить там летом – тоже адовая мука. Комара столько, что семьи лесников по неделям не выходят из избы и сидят в едком дыму от дымокуров. Спят только под марлевыми пологами. К осени комар исчезает, и потому осень – самое благословенное время для лесных жителей. Воздух свеж и чист, и последняя легкая теплота еще прогревает сосновые чащи.
О великой силе комаров можно судить хотя бы по тому, что листва ольхи по берегам озер и на болотах днем кажется серой, а не зеленой, от плотного слоя комаров, сидящих на деревьях. А по вечерам все болота зудят тонким и, кажется, всемирным комариным писком.
Мне случилось ночевать на мшарах. Ни костер, ни толстая подстилка из сосновых веток не спасали от резкого водянистого холода, что сочился снизу, из самых недр земли. А туманы были такие, что никак не могли разгореться костры.
Все сказанное выше – только внешняя обстановка рассказа «Болото». Рассказ этот с потрясающей силой обличает идиотизм деревенской жизни и тупую, поистине рабскую покорность человека перед недоброй силой тогдашнего общественного строя. Вся беспомощность лесника Степана, вся его безответная философия сводится к словам: «Не мы, так другие».
Есть у Куприна одна заветная тема. Он прикасается к ней целомудренно, благоговейно и нервно. Да иначе к ней и нельзя прикасаться. Это – тема любви.
Иногда кажется, что о любви в мировой литературе сказано все. Что можно сказать о любви после «Тристана и Изольды», после сонетов Петрарки и история Манон Леско, после пушкинского «Для берегов отчизны дальней», лермонтовского – «Не смейся над моей пророческой тоскою», после «Анны Карениной» и чеховской «Дамы с собачкой».
Но у любви тысячи аспектов, и в каждом из них – свой свет, своя печаль, свое счастье и свое благоухание.
Один из самых благоуханных и томительных рассказов о любви – и самых печальных – это купринский «Гранатовый браслет».
Куприн плакал над рукописью «Гранатового браслета», плакал скупыми и облегчающими слезами. К сожалению, писатели не так часто плачут и хохочут над своими рукописями. Я говорю к сожалению, потому, что и эти слезы и этот смех говорят о глубокой жизненности того, что писатель создал, иной раз сам не понимая до конца силы своего перевоплощения и своего таланта.
Куприн говорил о «Гранатовом браслете», что ничего более целомудренного он еще не писал.
Это верно. У Куприна есть много тонких и превосходных рассказов о любви, об ожидании любви, о трагических ее исходах, об ее поэзии, тоске и вечной юности. Куприн всегда и всюду благословлял любовь. Он посылал «великое благословение всему: земле, водам, деревьям, цветам, небесам, запахам, людям, зверям и вечной благости и вечной красоте, заключенной в женщине».
Характерно, что великая любовь поражает самого обыкновенного человека – гнущего спину за канцелярским столом чиновника контрольной палаты Желткова.
Невозможно без тяжелого душевного волнения читать конец рассказа с его изумительно найденным рефреном: «Да святится имя твое!»
Особую силу «Гранатовому браслету» придает то, что в нем любовь существует как нежданный подарок – поэтический и озаряющий жизнь – среди обыденщины, среди трезвой реальности и устоявшегося быта.
Все персонажи «Гранатового браслета» действительно существовали. Куприн сам писал об этом в одном из своих писем: «Это – помнишь? – печальная история маленького телеграфного чиновника П. П. Жолтикова, который был так безнадежно, трогательно и самоотверженно влюблен в жену Любимова».
Я упоминаю об этом исключительно для того, чтобы подчеркнуть безусловную подлинность многих вещей Куприна. Куприн не извлекал свои рассказы из мира вымысла и поэзии. Наоборот, он открывал в реальности поэтические пласты настолько глубокие и чистые, что они производили впечатление свободного вымысла.
У меня нет возможности рассказать обо всех достоинствах «Гранатового браслета», но об одном нельзя не сказать, – о безошибочном вкусе Куприна, включившего рассказ о трагической и единственной любви в обстановку южной приморской осени.
Трудно сказать почему, но блистательный и прощальный ущерб природы, прозрачные дни, безмолвное море, сухие стебли кукурузы, пустота оставленных на зиму дач, травянистый запах последних цветов – все это сообщает особую горечь и силу повествованию.
Куприн с восторгом принял февральскую революцию, но по отношению к Октябрьской революции он занял противоречивую позицию. Он гневно восставал против врагов Октябрьской революции и вместе с тем сомневался в ее успехе и в ее подлинно народной сущности.
В этом состоянии растерянности Куприн эмигрировал в 1919 году во Францию.
Поступок этот был не органичен для него, был случаен. За границей он тяжело тосковал по России, почти бросил писать и, наконец, весной 1937 года вернулся в родную Москву.
Он был уже тяжко болен – и умер 25 августа 1938 года.
«Даже цветы на родине пахнут по-иному», – написал он перед самой смертью, и в этих словах выразилась вся его глубочайшая любовь к своей стране.
Мы должны быть благодарны Куприну за все – за его глубокую человечность, за его тончайший талант, за любовь к своей стране, за непоколебимую веру в счастье своего народа и, наконец, за никогда не умиравшую в нем способность загораться от самого незначительного соприкосновения с поэзией и свободно и легко писать об этом.
1957
Иван Бунин
Как ни грустно в этом непонятном мире, он все же прекрасен…
И. Бунин
Еще в гимназии я начал зачитываться Буниным. В то время я мало знал о нем. Кое-что я узнал из автобиографической заметки, написанной самим Буниным для «Словаря писателей» Венгерова.
Там было сказано, что Бунин провел свое детство в деревне, где-то между Ельцом и городком Ефремовом (в тогдашней Тульской губернии), а потом учился в Елецкой гимназии.
В холодном апреле 1916 года я впервые приехал в Ефремов к родственнице – одинокой старушке. Она звала меня погостить у нее и отдохнуть после моих скитаний по югу.
Старушка учительствовала в Ефремовской городской школе. Как все учительницы, она часто болела ангиной. Лечилась она всякими способами, даже по «знахарскому методу Бунина».
– Какого Бунина? – спросил я удивленно.
– Евгения Алексеевича. Брата писателя. Он служит у нас в Ефремове в акцизе. Открыл способ лечить ангину. Натирает шею сухой беличьей шкуркой, и ангина тотчас проходит. Только мне не помогла эта шкурка. А Евгений Бунин – деловой и довольно суховатый господин. Вот брат его Иван, писатель, говорят, человек прелестный, замечательный. Он иногда сюда приезжает.
С той минуты, как я узнал, что здесь бывает Бунин, Ефремов сразу преобразился для меня, хотя вообще-то был городком достаточно унылым. Теперь же он представлялся мне воплощением российского провинциального уюта.
Почти все наши захолустные города были схожи друг с другом. Все они, по словам Чехова, были «типичными Ефремовыми» – с запущенными монастырскими подворьями, с землистыми лицами угодников над каменными вратами церквей, с заливистыми колокольцами на тройке исправника, с острогом на выгоне, земским собранием – единственным домом, где у подъезда горел калильный фонарь, с крикливыми галками на кладбищенских липах и глубокими оврагами. Летом в них стенами стояла глухая крапива, а зимой на сером от золы снегу сизо чадили головешки, выброшенные из печей и самоваров.
Тогда, в Ефремове, вошла в меня бунинская Россия и завладела мною надолго.
Елец был рядом. Я решил съездить туда, чтобы посмотреть этот бунинский город.
С ранней юности у меня была неистребимая страсть посещать места, связанные с жизнью любимых писателей и поэтов. Лучшим местом на земле я считал (и считаю до сих пор) холм под стеной Святогорского монастыря на Псковщине, где похоронен Пушкин. Таких далеких и чистых далей, какие открываются с этого холма, нет больше нигде в России.
Из Ефремова до Ельца ходил рабочий поезд, так называемый «Максим Горький». Я поехал на нем в Елец.
Холодный рассвет застал меня в дребезжащем, старом вагоне. Я сидел под мигающей свечой и читал в растрепанной книжке журнала «Современный мир» бунинский рассказ «Илья Пророк».
По своей пронзительной горечи рассказ этот – один из лучших в русской литературе. Каждая подробность, каждая черта этого рассказа (даже «бледные, как саван, овсы») щемила сердце предчувствием неизбежной беды, нищенством, сиростью, тяжким уделом тогдашней России. От этой России временами хотелось бежать без оглядки. Но редко кто на это решался. Ведь нищенку мать любят и в горьком ее унижении.
Бунин тоже ушел от своей единственно любимой страны. Но ушел только внешне. Человек необыкновенно гордый и строгий, он до конца своих дней тяжело страдал по России и пролил по ней много скупых и скрытых слез в чужих ночах Парижа и Граса – слез человека, добровольно изгнавшего себя из отечества.
Я ехал в Елец. Тощие зеленя тянулись за окнами вагона. Ветер насвистывал в жестяных вентиляторах, гнал низкие тучи. Я перечитывал «Илью Пророка», перечитывал скорбную историю Ивана Новикова, крестьянина Елецкого уезда, Пред-теченской волости. И старался понять – как, какими словами, каким волшебством достигнуто это подлинное чудо? Чудо создания короткого и сильного, горестного и великолепного рассказа?
В Ельце я не остановился в гостинице. Для этого я был тогда слишком беден. До вечера, когда отходил обратный поезд в Ефремов, я бродил по городу и очень, конечно, устал.
Был серый высокий день. Пошел неожиданный, запоздалый снежок. Ветер сдувал его с мостовых, обнажая каменные, избитые подковами белые плиты.
Город был весь каменный. Чудилось в этом его каменном обличии что-то крепостное. Оно чувствовалось и в пустынности улиц и в их тишине. Я слышал, что Елец всегда был торговым шумным городом, и удивлялся этому городскому покою, пока не понял, что тишина и малолюдие – следствие войны.
Город был действительно крепостью. Бунин в «Жизни Арсеньева» говорил о нем:
«…город гордился своей древностью и имел на это право: он и впрямь был одним из самых древних русских городов, лежал среди великих черноземных полей Подстепья, на той роковой черте, за которой некогда простирались „земли дикие, незнаемые“, а во времена княжеств Владимирского – Рязанского принадлежал к тем важнейшим оплотам Руси, что, по слову летописцев, первые вдыхали бурю, пыль и хлад из-под грозных азиатских туч».
Почти каждое слово в этом отрывке доставляет наслаждение своей простотой, точностью, образностью. Чего стоят только одни слова о том, что эти древние города вдыхали бурю и хлад азиатских набегов: эти слова воскрешают тревожный свист караульных, грохот колотушек по чугунным доскам, призыв всех на городские валы.
Я долго простоял около здания мужской гимназии с каменным двором. В этой гимназии учился Бунин. Внутри было тихо, – за окнами шли уроки. Потом я прошел через базарную площадь, удивляясь обилию запахов. Пахло укропом, конским навозом, старыми сельдяными бочками, кожей, ладаном из открытых дверей церкви, где кого-то отпевали, пахло палым, уже перебродившим листом из садов за высокими серыми заборами.
Я напился чаю в трактире. Там было пусто и холодно. Из трактира я пошел на окраину города. До поезда оставалось еще много времени. На окраине – уходящем в низину длинном и голом выгоне – чадили и звенели от ударов по наковальням кузницы. Над выгоном белело небо. Рядом тянулась кладбищенская стена.
Я зашел на кладбище. Чуть позванивали и скрипели от ветра побитые фарфоровые розы и жестяные заржавленные листья на погребальных венках. Кое-где на железных, с витиеватыми завитушками крестах с облупившейся масляной краской виднелись коричневые, почти смытые дождем фотографии в металлических медальонах.
К вечеру я пришел на вокзал и долго сидел в тускло освещенном зале третьего класса, где воняло керосином и дуло холодом по ногам.
У каждого в жизни бывают странные – порой приятные, порой печальные – совпадения. Были они и у меня. Но самое удивительное совпадение случилось в этот вечер на Елецком вокзале.
Я купил в газетном киоске сырой номер «Русского слова». В зале третьего класса из-за темноты читать было трудно. Я пересчитал свои деньги. Их хватало на то, чтобы напиться чаю в ярко освещенном вокзальном буфете и даже дать подвыпившему официанту на чай.
Я сел в буфете за стол около пустого мельхиорового ведра для шампанского и развернул газету…
Опомнился я только через час, когда вокзальный швейцар, мотая колокольчиком, прокричал нарочито гнусавым голосом: «Второй звонок на Ефремов, Волово, Тулу!»
Я вскочил, бросился в вагон и просидел, забившись в угол около темного окна, до самого Ефремова.
Все внутри меня дрожало от печали и любви. К кому?
К дивной девушке, к убитой вот на этом вокзале гимназистке Оле Мещерской. В газете был напечатан рассказ об этом – Бунина «Легкое дыхание».
Я не знаю, можно ли назвать эту вещь рассказом? Это не рассказ, а озарение, самая жизнь с ее трепетом и любовью, печальное и спокойное размышление писателя, эпитафия девичьей красоте.
Я был теперь уверен, что проходил на кладбище мимо могилы Оли Мещерской, а ветер робко позванивал в старом венке, как бы призывая меня остановиться.
Но я прошел, ничего не зная. О, если бы я знал! И если бы мог! Я бы усыпал эту могилу всеми цветами, какие только цветут на земле. Я уже любил эту девушку. Я содрогался от непоправимости ее судьбы.
За окнами дрожали, погасая, редкие и жалкие огни деревень. Я смотрел на них и наивно успокаивал себя тем, что Оля Мещерская – это бунинский вымысел, что только склонность к романтическому приятию мира заставляет меня страдать из-за внезапной любви к этой погибшей девушке.
Пожалуй, в эту ночь, в холодном вагоне, среди черных и серых полей России, среди шумящих от ночного ветра, еще не распустившихся березовых рощ, я впервые до конца, до последней прожилки, понял, что такое искусство и какова его возвышающая и вечная сила.
Я несколько раз разворачивал газету и перечитывал при умирающем огне свечи, а потом при водянистом свете бездомной зари все одни и те же слова о легком дыхании Оли Мещерской, о том, что теперь это легкое дыхание «снова рассеялось в мире, в этом облачном небе, в этом холодном весеннем ветре».
Второй съезд советских писателей встретил овацией слова о том, что Бунин должен быть возвращен русской литературе.
И он был возвращен. Были возвращены на родину драгоценнейшие бунинские вещи, и в их числе повесть «Жизнь Арсеньева».
Об этой повести писать трудно, почти невозможно. Так же, как и о самом Бунине. Он так богат, так щедр, так многообразен, так беспощадно и точно видит любого человека, от господина из Сан-Франциско до плотника Аверкия, видит каждый жест и каждое душевное движение, так удивительно ясно, одновременно строго и нежно говорит о природе, неотделимой от течения человеческих дней, что писать об этом, как говорится, «из вторых рук» бесполезно и почти бессмысленно.
Бунина надо читать, читать самому и навсегда отказаться от жалких попыток рассказывать не бунинскими, обыденными словами о том, что написано им с классической силой и четкостью.
Нельзя рассказать своими словами «Ненастный день потух» Пушкина, «Над вечным покоем» Левитана или «По синим волнам океана» Лермонтова. Это так же бесполезно, как поверять сухой алгеброй гармонии Моцарта и всех великих композиторов от XIV века до Стравинского.
Поэтому я не буду делать попыток, заранее обреченных на неудачу, пересказывать Бунина и толковать его вещи применительно к «злобе дня». «Злоба дня» не может существовать без тесной связи со всем, что предшествовало нашему времени и что в какой-то мере его определило.
Книги Бунина замечательны тем, что они – все – в своем времени и вместе с тем связаны живой своей плотью с прошлым народа.
В прозе и поэзии Бунина явственно присутствует ощущение жизни как длительного и в основе своей прекрасного пути от рождения человека до смерти. Особенно сильно это ощущение выражено в «Жизни Арсеньева».
Эта повесть – не только славословие России, не только итог жизни Бунина, не только выражение глубочайшей и поэтической его любви к своей стране, выражение печали и восторга перед ней – восторга, изредка блещущего со страниц книги скупыми слезами, похожими на редкие ранние звезды на небосклоне. Это еще нечто другое.
Это не только вереница русских людей – крестьян, детей, нищих, разорившихся помещиков, прасолов, студентов, юродивых, прелестных женщин, – многих людей, присутствовавших на всех путях и перепутьях писателя и написанных с резкой, почти ошеломляющей силой.
«Жизнь Арсеньева» в некоторых своих частях напоминает картину художника Нестерова «Святая Русь». Эта картина – наилучшее выражение своего народа и своей страны в понимании художника.
По широкой дороге среди перелесков и взгорий, мимо чистых речек и почернелых бревенчатых церквей, мерно роняющих в тишину осеннего дня колокольные звоны, мимо позабытых погостов и деревенек идет под светлым северным небом большая толпа.
Кого только нет в этой толпе! Идет вся Русь! Идет древний царь в тяжелой парче и литом золоте, идут, жидко звеня цепями, колодники, робкие сермяжные мужички, подпаски с длинными кнутами, странники в скуфейках, девушки с на-сурмленными ресницами, что бросают нежную тень на их лица, озаренные каким-то целомудренным внутренним светом. Идут юроды, побирушки, истовые старухи, плотники, косцы, грозные старцы с посохами, подмастерья, идут притихшие белоголовые дети, глядя вверх на проблески солнца и на тянущих на юг журавлей.
В толпе идет Лев Толстой и невдалеке от него – Достоевский. Они идут в дорожной пыли со своим ищущим правды народом, идут вместе с ним в ясные, но пока еще далекие дали, о которых они не уставали говорить всю жизнь.
Что-то общее у этой картины с книгами Бунина, С тем только, однако, отличием, что люди у Бунина совершенно реальные, всем знакомые, а бунинская страна гораздо скромнее и беднее, чем у Нестерова.
Срединная наша Россия предстает у Бунина в прелести серых деньков, покое полей, легких туманах, а порой – в бледной лучезарности, в тлеющих широких закатах.
Здесь уместно будет сказать, что у Бунина было редкое и безошибочное ощущение красок и освещения.
Мир состоит из великого множества соединений красок и света. И тот, кто легко и точно улавливает эти соединения, – счастливейший человек, особенно если он художник или писатель.
В этом смысле Бунин был очень счастливым писателем. С одинаковой зоркостью он видел все: и среднерусское лето, и пасмурную зиму, и «скудные, свинцовые, спокойные дни поздней осени», и море, «которое из-за диких лесистых холмов вдруг глянуло на меня всей своей темной громадной пустыней».
В записках Бунина есть одна короткая фраза. Она относится к началу лета 1906 года. «Начинается пора прелестных облаков», – записал Бунин и этим как бы открыл нам одну из тайн своей писательской жизни. Эти слова – о приближении неизбежного и милого труда, связанного у Бунина с летней порой, «порой облаков», «порой дождей», «порой цветения».
Этими четырьмя словами Бунин отмечает начало своей работы по наблюдению за небом, по изучению облаков – всегда таинственных и притягательных. Недаром все лучшие наши поэты так точно писали об облаках. Возьмем хотя бы наших современников. У Юрия Олеши над Москвой висит легкое облако с очертаниями Южной Америки. Особенно много облаков у Заболоцкого. «В нежном небе серебристым комом облака невиданной красы. По бокам туманно-лиловато, посредине – грозно и светло, – медленно плывущее куда-то раненого лебедя крыло».
Каждый раз, когда читаешь бунинские строки о лете, вспоминаешь эту его запись. Слова о лете у него всегда томительны, даже если и занимают всего две строки:
«Отцвел и оделся сад, целый день пел соловей, целый день были подняты нижние рамы окон».
Бунин очень тонко видел все, что привелось ему увидеть в жизни. А видел он очень много, с юных лет заболев скитальчеством, непокоем, жаждой непременно увидеть все, до той поры не виденное.
Он признавался, что никогда не чувствовал себя так прекрасно, как в те минуты, когда ему предстояла большая дорога.
Есть некая крепкая связь между такими явлениями, как свет, запах, звук и цвет.
В чем эта связь? Хотя бы в том, что, глядя на неизвестные цветы, похожие на огромные крокусы, с картин Ван-Гога, глядя на плотный свет, напоминающий прозрачный сок каких-то заморских плодов, неожиданно вдыхаешь сладковатый дразнящий запах этих плодов и свежее дыхание сырого морского песка. Этот запах как бы доносит до картинного зала равномерный ветер с чужих островов.
Читая Бунина, часто ловишь себя на ощущениях такого рода. Краска дает запах, свет дает краску, а запах восстанавливает ряд удивительных картин. Все это вместе рождает особое душевное состояние сосредоточенности, светлой грусти, легкости жизни с ее теплыми ветрами, шумом деревьев, беспредельным гулом океана, милым смехом детей и женщин. О своем чувстве красок, отношении к цвету Бунин говорит в «Жизни Арсеньева»:








