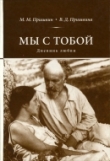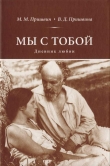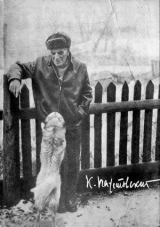
Текст книги "Наедине с осенью (сборник)"
Автор книги: Константин Паустовский
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 28 страниц)
О детской литературе
По вопросам детской литературы мне трудно говорить.
Я себя ощущаю в положении раздражающего всех свидетеля, который говорит на суде, что по этому делу он показать ничего не может.
Поэтому я очень коротко выскажу несколько элементарных мыслей, лишенных обязательного в нашей среде остроумия.
Одна из основных задач – выяснить, почему в последнее время писатели мало пишут, а иные и совсем не пишут, несмотря на то что жажда к книге у читателей огромна.
Есть несколько причин. Прежде всего, писатель не пишет, когда ему нечего сказать. Эта мысль кажется нелепой. Неужели в наше время может случиться так, что писателю совершенно нечего сказать, что у него в руках нет богатейшего материала для книг? А на деле это так. Объясняется это прежде всего тем «собственным соком», в котором варятся писатели. Необходимо разобраться в качествах этого сока – полон ли он той остроты и крепости, какая в нем должна быть, или это сок водянистый и липкий.
Когда после долгого отсутствия из Москвы вновь возвращаешься в писательскую среду, то видишь, что причины писательской усталости, причины «неписания» лежат отчасти в недостатках этой среды. В Москве среди части писателей жизнь идет как в самом глухом захолустье. Я не хочу обижать нашу советскую провинцию. Я говорю о захолустье старого строя. Множество чрезвычайно мелких, но между тем как будто «важных» дел, масса суетни, шума, возни, желания делать литературную политику, и притом политику копеечного размаха, – все это создает нетворческое, нерабочее настроение, тогда как нужно писать хорошо и много.
Последнее время я жил в Севастополе. Я встречался с краснофлотцами. Мне приходилось выступать среди них. Должен сказать, что иные из писателей при встрече с моряками были бы поставлены в тяжелое положение, потому что наши молодые моряки – народ чрезвычайно начитанный и культурный. Они прекрасно знают и делают свое морское дело. С такой же серьезностью и любовью, как и к морскому делу, они относятся к литературе – и нашей и западноевропейской. У них свежий, крепкий, здоровый вкус.
И вот не случайно при встречах они всегда задавали мне два вопроса – о роли биографии в жизни писателя и о качестве нашей литературной среды. Если на первый вопрос – о важности биографии для писателя – я мог ответить, то на второй, признаюсь, я по этическим соображениям отвечать не хотел.
После общения с людьми, которые так высоко и по-настоящему ценят литературу, особенно ясна нелепость мышиной окололитературной возни. Вот пример: отношения между писателями Москвы и Ленинграда.
Ведь это ссора из-за гоголевского «гусака», имеющего совершенно неуловимые очертания.
Что нужно сделать? Проветрить людей. Дать им возможность увидеть новые места, горизонты, простых и прекрасных людей, которые живут на пространствах нашего Союза, увидеть небо нашей страны, ощутить ее великие протяжения и свежие ветры.
Вне Москвы каждый человек виден, каждый человек на учете. Там вы особенно ясно почувствуете, как страна относится к писателю. Нигде и никогда еще во всем мире не было такого отношения к писателю, как у нас. Особенно резко это заметно там, где писатели бывают редко. Когда вы туда попадете, вы узнаете подлинную высоту своего звания и крепко задумаетесь над тем, чтобы нести звание высоко.
Там действительно верят, что писатели – это «инженеры человеческих душ», люди, от которых можно многому научиться, не только из книг, но и из общения с ними, из их поведения, их слов. На вас смотрят как на человека прекрасного будущего. Это очень обязывает. Когда вы побываете в такой обстановке, вы крепнете, выветривается весь угар литературной суеты, и у вас из головы навсегда исчезают хотя бы эти ничтожные и недостойные мысли о том, кто лучше – писатели Москвы или Ленинграда.
Иные писатели не пишут из трусости. Человек написал хорошую книгу. Его подняли на щит. После этого развивается прогрессирующий страх, что каждая новая книга может быть встречена хуже первой. Не лучше ли безопасно и спокойно стричь от первой книги купоны славы и признания? Развивается чрезвычайно опасное «желание полной безошибочности» и боязнь риска. Здесь во многом виновата критика. Наша критика имеет обыкновение все гипертрофировать – и хорошее и дурное – и этим губить людей. Внимательной критике нужно считаться с индивидуальными особенностями каждого писателя. Этого у нас нет.
Очень мешает работе навязывание тем. Между навязанной темой и социальным заказом есть громадная разница. Совершенно ясно, что каждый искренний, органически советский писатель, берясь за любую тему, тем самым выполняет социальный заказ. Но все же упорное навязывание тем широко практикуется в журналах, газетах и издательствах. Это плодит высокопробную и низкопробную халтуру и дисквалифицирует писателя.
Я не останавливаюсь на материальных и бытовых условиях, они чрезвычайно тяжело сказываются на работе. Из-за материальных причин, будем говорить открыто, некоторая часть писателей уходит в кино. Кино – не искусство кино, а организация кино – действует на писателей разлагающе. Ничто так не обеспложивает, не изматывает и в конце концов не дает такого ничтожного творческого результата, как работа в кино при настоящей его организации.
Я не могу не сказать и о той некультурности, которой страдает наша писательская среда. Примеров можно привести сотни. Тяжесть обстановки усугубляется тем, что вокруг писателей до сих пор существует армия окололитературных людей, паразитирующих на своей мнимой близости к литературе.
Остались еще писатели, которые считают, что «нутром», талантом можно взять все. Это нелепо. Когда-нибудь эта «нутряная сила» наткнется на глухую стену собственной некультурности, и тогда писатель пропал.
До сих пор остались следы богемщины, причем богемщины не французского типа, которая все-таки создавала людей, а богемщины сивушной, «расейской», безнравственной, плодящей неуважение друг к другу.
Все объективные условия, чтобы создать настоящую, большую литературу для детей, есть. Есть умное и энергичное руководство в лице ЦК ВЛКСМ, есть хорошее издательство. Совершенно необоснованны разговоры о том, что я, мол, не могу писать потому, что в издательстве сидит плохой редактор. Немногого стоит писатель, бросающий работу из-за существования в издательстве сомнительных редакторов.
Есть хорошая издательская обстановка, есть культурные и прекрасные редакторы.
Средства отпускаются большие, настолько большие, что можно осуществить одну из необходимейших вещей – дать возможность писателю работать сосредоточенно и спокойно, не думая о ежедневном заработке, дать возможность того неторопливого созерцания, которое для каждого из нас так необходимо.
Все условия для настоящей работы есть. Могут быть те или иные ошибки, вполне поправимые, но главные условия есть. Поэтому я и остановился на недостатках нашей собственной среды.
В заключение я хотел бы сказать несколько слов в связи со своей работой. Мне приходится много ездить и работать над многими темами. Но всегда случается так, что, какую бы тему я ни брал, хотя бы очень современную и как будто никакими корнями не уходящую в прошлое, всякий раз я наталкиваюсь на одно имя – имя Пушкина. Это говорит о том, что Пушкин был выше своего времени по богатству знаний, эрудиции и просвещенности. Его слова о том, что необходимо «в просвещении стать с веком наравне», – закон для каждого из нас.
Каждому из нас нужно проверить себя, чтобы не очутиться в положении голого короля, чтобы мы были достойны великой эпохи и литературы, представителями которой нам выпало счастье быть.
1936
Радость творчества
Почти каждому человеку, очевидно, знакомо ощущение неизбежного счастья. Оно как будто ждет за порогом. Стоит только распахнуть дверь, чтобы счастье ворвалось, вместе с ветром и шумом листвы, в вашу комнату.
Это ощущение всегда застает нас врасплох. Чаще бьется сердце, мысли, перебивая друг друга, теснятся в сознании, человек улыбается, сам не зная чему.
Так иногда бывает, – идет обыкновенный дождь, вы открываете окно, и вдруг вам кажется, что золотые обильные ливни льются над всей страной, и шум дождевых капель в лесах, в траве, в чащах садов говорит о богатстве, о блеске, о прекрасном будущем этой земли.
Радуги стоят торжественными триумфальными арками, входом в сказочные, затянутые дымом стихающих дождей, беззаботные страны.
Или внезапно в памяти выплывают где-то давно прочитанные строки: «Из царства льдов, из царства вьюг и снега как чист и свеж твой вылетает май», – и по-новому, почти по-детски раскрывается облик недалекой весны.
Когда в сознании писателя рождается книга, он испытывает такое же чувство приближающегося неизбежного счастья.
Еще все неясно. Еще все смешалось вокруг в дождевой пыли, в разноголосых криках птиц и людей, в шуме деревьев, в громыхании грома. Еще сознание заполнено перекличкой отдельных слов, мыслей, образов, сравнений, но сквозь все это уже возникает даль свободного повествования.
В каждую книгу писатель уходит надолго, как уходят в просторы неизведанной страны исследователи и завоеватели. Он часто не знает, что его ждет, какие реки, леса и горные кряжи он нанесет на карты, каких неожиданных людей он встретит, свидетелем каких событий ему посчастливится быть.
Волнение писателя, начинающего книгу, сродни волнению человека, уходящего в глубину еще не открытых и не рассказанных стран.
Тревога и радость – два самых сильных чувства, сопровождающих писателя на его пути. Тревога – обычный спутник его мучительной и упорной работы. Найдутся ли ясные и веские слова, чтобы рассказать обо всем увиденном и продуманном, рассказать об этом своему народу, – а его наш советский писатель всегда ощущает как друга. Хватит ли воли, свежести чувств, остроты мысли для того, чтобы взволновать книгой этого взыскательного друга?
Радость работы над книгой – это радость победы над временем, над пространством. Мне кажется, что у настоящих писателей в чувстве радости от законченной работы всегда есть частица чего-то сказочного. Как будто писатель крепко взял за руку друга и повел его за собой в жизнь, в страну, полную событий и света. «Смотри!» – говорит он, и перед другом открываются двери домов, и он видит трогательные и печальные, смешные и героические истории, случившиеся около простых семейных очагов. «Смотри!» – снова говорит писатель, и жестокие бури проносятся над успокоенной землей. «Еще смотри», – и синие дни поднимаются вереницами над берегами морей.
Радость подлинного писателя – это радость проводника по прекрасному, знающего дорогу туда, в то будущее, куда стремится народ всей силой своих надежд.
Это – сложное чувство. Писатель испытывает радость от созерцания жизни, от размышлений, от той особой внутренней напряженности и тишины, которая предшествует рождению книги, от множества как будто бы случайных вещей, дающих толчок для работы.
Год назад я ехал в Севастополь. Где-то за Синельниковом поезд внезапно остановился в степи. После гула и грохота в вагоны вошла мягкая тишина. Пассажиры сразу притихли. Только ветер шелестел газетами, забытыми на столиках.
Я вышел. Стоял туманный мартовский день. Весенний разлив голубел вдали, в степях над ним голубело неяркое и просторное небо. Тишина хлынула на нас. Она шла со всех сторон, из степей, из безмолвной деревни на косогоре. Она обступила и сжала остановившийся поезд.
Я пошел по полотну. Около переезда стоял старик в соломенной шляпе. Он опирался на посох и смотрел на меня ласково и спокойно. Косматый застенчивый пес стоял рядом со стариком и тоже смотрел на меня желтыми ласковыми глазами.
– Вот и вам незабаром (случайно) привелось побывать в степу, – сказал старик. Пес тихо махнул хвостом. – Место наше широкое, чистое, – тем местом шли большевики на Чонгар. Великая была битва на Чонгаре. Дуже великая!
Пес снова робко махнул хвостом.
Через несколько минут поезд снова гремел на стрелках, рвал, звенел, грохотал, и старик с застенчивым псом остались далеко позади, в иной, более сосредоточенной и уже неповторимой жизни.
Мне показалось, что вот такая же встреча была, должно быть, у Малышкина и после нее он написал «Падение Даира». Очень хотелось писать.
Так вот бродишь в жизни и то тут, то там наталкиваешься на встречи, на какие-то часы тишины и сосредоточенности, на «закономерные случайности», и в это-то время и возникает обычно замысел книг. В этом есть особая радость – очень ощутимая, но трудно поддающаяся рассказу. Очевидно, это и есть то состояние, какое мы называем «радостью творчества».
Все отдают своей стране, своему народу знания, опыт, навыки, наконец, самую жизнь, если этого требует существование страны. Но у писателей есть одно невольное преимущество – они отдают своему народу еще и великолепное чувство счастья. Поэтому так радостен писательский труд – тяжелый и многолетний.
10 марта 1939
Живое и мертвое слово
Еще в юности я вычитал у какого-то древнего мудреца изречение: «От одного слова может померкнуть солнце».
Я тотчас забыл это изречение и никогда не вспоминал о нем. Но однажды случилось незначительное на первый взгляд событие.
Действительно, после этого события мне показалось, что солнце померкло и скучный сумрак затянул все, что перед этим сверкало вокруг разнообразными красками, светом и теплотой.
Случилось это на Оке, вблизи Рязани, около наплавного моста.
Я перешел по мосту на луговой берег, на пески. От нагретой лозы пахло вялой сладостью. По Оке нехотя проплывало отраженное небо, все в летних белых облаках.
На песчаном пляже сидел человек с сизым затылком, в черном френче и сапогах. Рядом с ним лежал портфель, раздувшийся от бумаг, как откормленный кот.
Посреди реки купались, рыча и повизгивая, два человека.
Неожиданно сидевший на берегу человек сердито закричал:
– Эй, товарищи! Закругляйте купаться!
– Мгновенно, товарищ начальник! – бодро крикнул в ответ молодой человек.
– Лимит времени прошу соблюдать! – снова прокричал человек в черном френче.
Солнце в моих глазах померкло от этих слов. Я как-то сразу ослеп и оглох. Я уже не видел блеска воды, воздуха, не слышал запаха клевера, смеха белобрысых мальчишек, удивших рыбу с моста.
Мне стало даже страшно. Что это? – спрашивал я себя. Шутит ли этот человек или говорит всерьез? Если всерьез, то это отвратительно, а если шутит, то это еще отвратительнее.
Я подумал: до какого же холодного безразличия к своей стране, к своему народу, до какого невежества и наплевательского отношения к истории России, к ее настоящему и будущему нужно дойти, чтобы заменить живой и светлый русский язык речевым мусором.
В сотый раз пришла в голову мысль, что мы – нерадивые потомки своих отцов. Для чего Пушкин, Языков, Лермонтов, Герцен, Толстой, Чехов, Лесков, Салтыков-Щедрин создавали величайший в мире по красоте и зримой образности русский язык? Для чего в тысячах деревень этот язык приобретал меткость, силу, задушевность, блеск и певучесть?
Для чего в этом языке существует неизмеримое количество великолепнейших слов, способных передать все богатство духовного мира нашего человека? И не только духовное богатство, но и все богатства природной жизни страны – ее шумов, ее очарований – от соловьиного боя до гула сосновых вершин и от мгновенной зарницы до жгучей росы на траве.
Для чего был вызван к жизни этот волшебный, свободный, крылатый и живой язык, живой потому, что он всегда выражал живую душу народа? Неужели для того, чтобы свести его к косноязычию, к словарной нищете, к фонетическому безобразию, иными словами – к языку мертвому?
Мне в тот день вообще не везло. В двух километрах от реки на обочине дороги я увидел фанерный щит, рябой от дождя, с лозунгом:
«Доярки! Выполняйте среднефермские обязательства надоя!»
Солнце вторично погасло в тихом и, казалось, обиженном небе.
Удары в тот день сыпались на меня один за другим. Я свернул с большака к безлюдному парому на Старице.
Шалаш перевозчика зарос по крышу анисом и болиголовом. На лавочке около шалаша сидел его угрюмый и косматый хозяин.
Я присел рядом. Перевозчик угостил меня махоркой. Он оторвал кусок газеты и дал его мне скрутить козью ножку. Я посмотрел на обрывок газеты:
«В ночь на 15 июня гражданин Кузин А. И. совершил из ларька райпотребсоюза хищение государственных материальных ценностей на 167 рублей».
И тут же, рядом, я увидел заголовок другой заметки:
«В честь памяти Льва Толстого».
– Чего он украл? – спросил я.
– «Матри-альны-е ценности», – прочел, запинаясь, паромщик. – Надо думать, материю. Сукно на пальто. Или на полупальто? – повторил он вопросительно. – Разве эту газету поймешь! Районного значения газета.
Чтобы прийти в себя и избежать дальнейших возможных огорчений, я ушел на Старицу и заночевал там на берегу, в старом шалаше под непроглядной сенью ив.
Я лежал на старом сене и почти всю ночь напролет вспоминал стихи разных наших поэтов. Это вернуло мне веру в могущество русского языка, в то, что ничто не сможет убить его, как нельзя убить звезды, воздух, поэзию, великую душу народа.
Там в полях, за синей гущей лога,
В зелени озер,
Пролегла песчаная дорога
До сибирских гор…
Появилось у нас довольно много людей, владеющих двумя языками – языком ведомственным и языком живым.
Они применяют тот или иной язык, смотря по надобности. Шаблонный и неуклюжий язык протоколов и отчетов считается у этих людей как бы эталоном современности – языком, единственно годным для служебной и общественной жизни. Живая и образная речь отодвигается на второе место – в область семьи, личных привязанностей и увлечений, в область всего, что не связано со службой.
В одном из среднерусских сел, где мне пришлось жить, председателем сельсовета был некий Петин – маленький, милый, всегда чем-то взволнованный человек. С величайшим благоговением он относился к наукам, особенно к истории. Много лет он «составлял» (по его словам) историю своего села и вписывал ее в толстую тетрадь.
Я видел эту тетрадь. История села начиналась словами: «От седых волос древности возвышается наше село, как державная крепость, на крутояре Оки, охраняя еще со времен татарских набегов широкие речные пути-дороги к Матушке Москве».
Разговор Петина в обыденной жизни был полон метких слов, сравнений, прибауток, юмора. Но стоило ему подняться на трибуну для очередного доклада и выпить при этом, по примеру больших ораторов, стакан желтоватой кипяченой воды, как он преображался и, держась за несвойственный ему галстук, как за якорь спасения, начинал речь примерно так:
– Что мы имеем на сегодняшний день в смысле дальнейшего развития товарной линии производства молочной продукции и ликвидирования ее отставания по плану надоев молока?
И вот умный и веселый человек, вытянувшись и держа руки по швам, нес два часа убийственную околесину на неизвестном варварском языке. Именно на неизвестном и варварском, потому что назвать этот язык русским мог бы только жесточайший наш враг.
Русский язык принес нам из далеких времен редкий подарок – «Слово о полку Игореве», его степную ширь и горечь, трепет синих зарниц, звоны мечей.
Этот язык украшал сказками и песнями тяжелую долю простого русского человека. Он был гневным и праздничным, ласковым и разящим. Он гремел непоколебимым гневом в речах и книгах наших вольнодумцев, томительно звучал в стихах Пушкина, гудел, как колокол на башне вечевой, у Лермонтова, рисовал огромные полотна русской жизни у Толстого, Герцена, Тургенева, Достоевского, Чехова, был громоподобен в устах Маяковского, прост и строг в раздумьях Горького, колдовскими напевами звенел в строфах Блока.
Нужны, конечно, целые книги, чтобы рассказать о всем великолепии, красоте, неслыханной щедрости нашего действительно волшебного языка – точного, как алмазный резец, и кружащего голову, как вино.
А как звонко и строго слышался его ритм в стихах о самом блистательном городе мира!
Люблю тебя, Петра творенье,
Люблю твой строгий, стройный вид,
Невы державное теченье,
Береговой ее гранит…
Этот город потребовал новых слов для описания своих торжественных пространств и величественного соединения зданий. И они появились, эти слова, – «проспекты-перспективы», «туманные линии», «державное теченье».
Певучесть и звонкость этого языка доходят порой до предела, до совершенства, тревожа любое, даже самое холодное, сердце:
Печаль ресниц, сияющих и черных,
Алмазы слез, обильных, непокорных,
И вновь огонь небесных глаз,
Счастливых, радостных, смиренных, –
Все помню я… Но нет уж в мире вас…
Богатства русского языка неизмеримы. Они просто ошеломляют. Для всего, что существует в мире, в нашем языке есть точные слова и выражения.
Подобно тому как каждое слово неотделимо от понятия, которое оно передает, так и русский язык неотделим от духовной сущности русского народа и от его истории.
Среди великолепных качеств нашего языка есть одно совершенно удивительное и малозаметное. Оно состоит в том, что по своему звучанию он настолько разнообразен, что заключает в себе звучания почти всех языков мира.
Но за последние годы язык начал быстро портиться, терять образность, силу, начал тускнеть и жухнуть. Это вызвало широкое движение за чистоту языка. Газета «Известия» стала во главе этого благородного дела.
О борьбе за чистоту языка веско и страстно говорил Ленин.
Об этом пишут и говорят сотни людей – подлинных патриотов: ученых и писателей, рабочих и учителей. Но пока что сила сопротивления со стороны невежд, людей с холодной, рыбьей кровью очень велика и упорна.
Для успешной борьбы за язык необходимо знать все, что его засоряет и умертвляет, знать все, с чем нужно бороться.
Нужно добиваться полного уничтожения тех нескольких скудных и паразитических языков, которые крепко въелись в жизнь, существуют рядом с подлинным русским языком и пытаются вытеснить его и заменить собой.
Какие же это языки?
Прежде всего, язык бюрократический, казенный. Он враждебен живому языку, как бюрократ враждебен всякому живому делу.
Огромную и печальную роль в распространении этого языка играют газеты (особенно районные), радиопередачи и передачи по телевидению. Этот язык вторгся в школьные учебники, в научные труды, даже в литературу.
Он характерен жалкими потугами на научность («предельный норматив», «пищеблок», «торговая точка», – очевидно, в скором времени можно ожидать появления новых слов – «торговое двоеточие» или «торговая запятая», – «закаливающий фактор», «санузел» и тому подобное). Кроме того, этот язык напыщен («вручил» вместо «передал», «преподнес» вместо «подарил», «завершил» вместо «окончил», «проживает» вместо «живет», «дворец бракосочетаний» вместо «свадебный дворец»), страдает громоздким построением фраз, путаницей понятий, удивительной скудостью.
В этом ужасающем казенном языке все многообразие русских глаголов, все глагольные богатства языка сводятся, по существу, к двум глаголам – «иметь» и «являться». Глагол «иметь» получил свое пышное распространение в связи с засилием плохих переводов с немецкого языка.
И вот начинается жвачка: «Имеются ли у вас учебники?», «Имеются определенные недостатки», «Что мы имеем в области животноводства в Исландии?», «Имеется ли в совхозе база на зимне-стойловый период?»
Но бюрократический язык не одинок. Его поддерживает и подкрепляет обыватель. Он тоже создал (главным образом заимствовал от прошлых поколений) свой язык – язык пошляков.
Что скрывать, пошлости еще много – пошлых идей, вкусов, песенок, поступков, пошлой морали и пошлого мировоззрения. Язык пошляков – плоский, бесцветный, хихикающий. Кроме выражений обывателей прошлого века в него вошло много новых слов – «блат», «левак», «порядочек» и тому подобное.
Существование этих двух языков, вернее, жаргонов рядом с животворным и полным разума русским языком – чудовищная нелепость (или, как сказал бы чиновник, «является нелепостью»).
В небольшой статье невозможно сказать обо всем, что связано с борьбой за чистоту и ясность языка. Можно наметить только некоторые меры.
Дурной язык – следствие невежества, потери чувства родной страны, отсутствия вкуса к жизни. Поэтому борьба за язык должна начаться со всеобщей борьбы за подлинное повышение культуры, за власть разума, за истинное разностороннее образование.
Широко известно, что в школах русский язык преподается большей частью скучно, равнодушно, а иной раз и без достаточного его знания самими преподавателями.
Нужно все это резко изменить. Нужно пересмотреть ряды авторов всех учебников и допускать к этому важнейшему делу только людей живых, знающих язык и умеющих писать точно, увлекательно.
Каждый доклад, независимо от темы, должен быть живым, живописным, а не набором шаблонных фраз и цифр.
Особенно резко и немедленно надо улучшить язык наших газет. Это – дело чести всех советских журналистов. И язык книг. Потому что язва сухого и тощего языка начинает уже постепенно проникать даже в литературу.
Необходимо издавать журнал «Русский язык» – боевой и высококвалифицированный.
Очевидно, эта гигантская работа должна быть объединена в каком-то полномочном комитете из представителей всех организаций, связанных с работой над языком.
Русский язык, по существу, дан не одному, а многим народам, и было бы настоящим преступлением перед потомками, человечеством, перед культурой позволить кому бы то ни было искажать его и калечить.
Я верю вместе с миллионами советских людей, что начнется широкое народное движение за его чистоту, свежесть, выразительность, за умножение языковых богатств в соответствии с эпохой, наконец, за полное соответствие языка мышлению и характеру народа.
Наш язык – наш меч, наш свет, наша любовь, наша гордость! Глубоко прав Тургенев, сказавший, что такой великий язык мог быть дан только великому народу.
30 декабря 1960