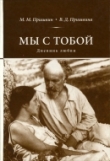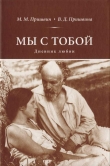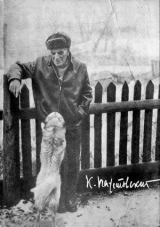
Текст книги "Наедине с осенью (сборник)"
Автор книги: Константин Паустовский
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 27 (всего у книги 28 страниц)
Содружество муз
(Заметки о литературе)[4]4
Статья печатается с сокращениями.
[Закрыть]
В этой статье я пытаюсь собрать воедино свои мысли о литературе. До сих пор я высказывал их только урывками и предпочитал писать прозу, я глубоко убежден, что проза выражает мировоззрение автора с большей силой и наглядностью, чем десятки статей.
Для полного разворота, для полного расцвета нашей литературы нужно прежде всего точно определить те явления в нашей жизни, какие мешают писать, тревожат, не дают того светлого и прочного состояния сосредоточенности, которое должно сопутствовать писателю в его работе. Того состояния, какое мы называем по-разному, но чаще всего – вдохновением.
Мысли о литературе бывают разные – и горькие (о них я только что упомянул) и полные уверенности в расцвете нашей поэзии и прозы, уверенности в непременном и скором появлении великолепных и разнообразных книг. Они откроют в нашей повседневности глубину, а нам сообщат ощущение нравственной силы и счастья.
Итак, надо начинать разговор с наших писательских бед, чтобы, покончив с ними, расчистить путь для мощного и ничем не замутненного развития литературы.
Самое тяжелое явление, с каким приходится нам сталкиваться, – это процесс обрастания литературной жизни вредными побочными вещами – ошибочными тенденциями, предрассудками, путаницей понятий, самоуверенностью оценок, кружковщиной и просто невежеством.
В этом обрастании, конечно, легче всего винить чрезвычайно настойчивых и даже агрессивных окололитературных людей и частично критиков, но главная вина ложится на самих писателей.
Литература должна быть очищена от всего чужеродного. К слову сказать, нет более прекрасного и обнадеживающего зрелища, чем освобождение любого явления от того, что коверкает его и искажает.
Примеров этому множество. Беру самый близкий по времени пример из неожиданной области – археологии. Может быть, он не очень удачен, но другого сейчас я подобрать не могу.
Прошлой осенью мне случилось быть на крайнем юге Болгарии, в маленьком трогательно живописном рыбачьем порту Созополе.
Там на въезде в городок стояла уцелевшая византийская базилика. В этой базилике один поэт, один художник и несколько рыбаков – энтузиастов Созополя – решили открыть небольшой местный музей. Но пока что в музее ничего еще не было, кроме нескольких десятков эллинских и римских амфор. Каждая из них насчитывала по две-три тысячи лет.
Эти амфоры рыбаки вытаскивали со дна Черного моря во время осеннего траления рыбы. Только что поднятые амфоры напоминали бесформенные глыбы, слепленные из раковин мидий.
На суше мидии быстро умирали, отваливались, и под их наслоениями открывалась наконец амфора – стройная, совершенная по форме, звонкая и как бы тронутая розовым светом зари.
Мидии присасываются ко всем подводным предметам – камням, сваям, в особенности к днищам кораблей. Случается, что корабли даже теряют способность двигаться из-за этих наростов. Сотни тонн раковин висят на корабле и парализуют его.
Все сказанное выше имеет, конечно, касательство ко многим явлениям жизни. И к литературе в том числе. И к тому обрастанию, о каком говорилось выше.
В своих высказываниях о писательском мастерстве Чехов утверждал, что истинный писатель должен безжалостно очищать свою прозу от таких вот «мидий» – от всего лишнего: словесного мусора, груза неверных психологических представлений, сюжетной путаницы и всех остальных небрежностей и ошибок.
Это суждение Чехова относится к области писательского мастерства. Но есть еще область литературной жизни, самой по себе, с ее плохими нравами и суетой, с ее пристрастиями, несправедливостью и бесконечными выяснениями отношений. К этой области тоже следует применить процесс очищения.
У нас были примеры, когда литературная среда, основанная на дружбе, на взаимном доверии и уважении, на творческом соревновании и (как это ни покажется неожиданным) на беспечности и веселье (вспомните пушкинское определение содружества писателей, куда как одно из основных условий входит беспечность), представляла не только пленительное зрелище и пример для окружающих, но была и великолепной творческой средой.
Хотя бы в Ялтинском доме писателей (где я пишу сейчас эти строки) лет двадцать назад кипела блестящая, захватывающая интеллектуальная жизнь с жаркими спорами, строгим трудом, взрывами остроумия, розыгрышами, взаимной помощью и товариществом.
Сейчас перед писателями поставлена задача объединения, идеологической консолидации. Совершенно ясно, что без содружества подлинных писателей невозможно решить величайшую задачу дальнейшего развития революционной, новаторской, действенной и глубокой литературы.
Эта задача не может быть выполнена без усилий, приложенных каждым писателем к самому себе. Каждому нужно уничтожить в себе (если он на это способен) те черты, которые привели к подозрительности по отношению друг к другу.
Необходимо избавить нашу литературу от ничем не оправданной грубости и от натурализма. Отталкивающая грубость положений и языка всегда связана с примитивностью внутреннего мира героев.
В этом проявляется тенденция заменять социалистический реализм вульгарным натурализмом.
Писатель не имеет права быть невежественным, особенно в узких рамках того материала, каким он пользуется для своих книг.
Дело с русским языком, несмотря на множество предупреждений, приобретает все более тяжелый характер. Язык на глазах теряет простоту, ясность, точность, образность. Здоровые качества языка постепенно исчезают, и взамен появляется нечто громоздкое и серое, но вместе с тем – крикливое.
Поэтому очистка литературы, языка, литературного быта является важной и немедленной задачей писателей. Нельзя усыплять себя самовлюбленным пением и дифирамбами. Мы многого достигли, но впереди – еще более крупные задачи.
Всем известны слова Чехова о разных писателях. Есть большие собаки, говорил Чехов, и есть маленькие. Но маленькие собаки должны лаять по-своему, не смущаясь громким лаем больших.
Это – вопрос неравенства. Есть талантливые писатели и есть не столь одаренные, но и те и другие должны работать и служить своему народу. Нельзя только допускать возникновения войны между ними, войны «алой и серой» розы. […]
Если бы уж на то пошло, то я предпочел бы монополию талантов. Потому что талант, за немногими исключениями, великодушен, смел, выжигает из жизни налет обыденности, ведет нас, читателей, как поводырь, к золотящейся на востоке полосе неба – к утренней заре, к новым временам, к весне человечества, к ощущению полноты жизни и к борьбе за эту полноценную жизнь.
Это состояние любви к жизни получило много превосходных выражений в нашей литературе.
Нужно только протянуть руку, взять лежащую на столе книгу, открыть ее наугад, и почти всегда между строк блеснет любовь к человеку и земле.
Как раз у меня на столе лежит только что полученная книга стихов. Я открываю ее и читаю:
Летучая звезда и моря ропот,
Вся в пене, розовая, как заря,
Горячая, как сгусток янтаря,
Среди олив и дикого укропа,
Вся в пепле, роза поздняя раскопок,
Моя любовь, моя Европа!
Может быть, книга открылась на этом месте потому, что я уже много раз читал эти стихи.
И вот мне трудно после самого легкого дыхания поэзии, скользнувшей сейчас по этим строкам, снова браться за перечисление наших бед, чтобы выяснить их в конце концов и выжечь без следа.
Мысль о бедах вытесняется подлинной ценностью могущественной прозы и поэзии. Это закономерно. Не надо забывать о бедах и мириться с ними, но нельзя останавливать естественного движения прозы и поэзии по широкому руслу кашей жизни.
Я снова протягиваю руку к одной из книг на столе, открываю ее наугад (всё попадаются стихи) и читаю, замирая от пока еще непонятного мне самому волнения, чьи-то строфы о творчестве:
Содрогаясь от мук, пробежала над миром зарница,
Тень от тучи легла, и слилась, и смешалась с травой.
Все труднее дышать, в небе облачный вал шевелится,
Низко стелется птица, пролетев над моей головой.
Я люблю этот сумрак восторга, эту краткую ночь вдохновенья,
Человеческий шорох травы, вещий холод на темной руке.
Эту молнию мысли и медлительное появленье
Первых дальних громов – первых слов на родном языке…
«Как еще лучше можно выразить вдохновение?» – спрашиваю я себя, и вдруг необычайная радость, почти восторг подымаются из глубины сердца, – восторг от сознания, что в нашей жизни среди людей, среди медленных гроз и внезапного шума лесов под порывистым ветром, среди неясного сияния речных ночей и воздуха отцветающих липовых рощ – среди всего этого мира живут они – наша поэзия и проза – и что мы идем к той вершине творчества, когда поэзия сливается воедино с прозой.
В это время я забываю о всех бедах, я не хочу засорять живые ключи поэзии горечью. Я сетую на наши литературные беды, как на нелепую и назойливую помеху. Она заслоняет от нас то солнце, о котором бессмертно сказал Пушкин:
Ты, солнце святое, гори!..
Как эта лампада бледнеет
Пред ясным восходом зари,
Так ложная мудрость мерцает и тлеет
Пред солнцем бессмертным ума.
Да здравствует солнце, да скроется тьма!
Эти слова примет всей душой каждый живой и разумный писатель. В этом – основа содружества. К нему следует настойчиво призывать всех. К содружеству, к уничтожению ложной мудрости и к напряженной работе. Тогда «все приложится» нам, пишущим, и будут сметены подозрения, пустые споры и борьба за монополию в искусстве, тем более нелепая, что эта монополия принадлежит народу, – только ему, и никому больше.
Ялта, декабрь 1959
Юным зрителям «Стального колечка»
Напечатано в журнале «Новый мир», 1970, № 4.
Я очень рад, что чехословацкие зрители, главным образом дети, увидят на сцене мою пьесу «Стальное колечко».
Прежде чем рассказать вам очень коротко об этой пьесе и о том, как я писал ее, я хочу сказать несколько слов о Чехословакии.
Я был в вашей прекрасной стране всего только раз, зимой, в дни Нового года, но никогда не забуду волшебную Прагу, мохнатые от снега Богемские горы и маленькие городки, сиявшие среди зимних вечеров, как ярко освещенные елочные украшения.
В одном из таких маленьких городов я увидел толпу детей около игрушечного магазина. В его витрине за зеркальным стеклом стояла нарядная елка.
Дети смотрели на нее, как зачарованные, и по привычке всех маленьких детей во всех странах мира прижимались при этом носами к холодному стеклу.
Как только кто-нибудь из детей прижимался носом к стеклу, елка вспыхивала десятками электрических свечей и вся сверкала от золотого и серебряного дождя. Но стоило оторвать нос от стекла, как елка гасла. Должно быть, в витрине на уровне детских носов было устроено какое-то хитрое приспособление, которое от теплоты детских носов, проникавшей сквозь стекло, рождало электрический контакт с елочными свечами.
Потом и мы, взрослые, тоже начали прижимать носы к стеклу, и елка каждый раз охотно загоралась. Но нам, взрослым, приходилось для этого становиться перед витриной на корточки, и это вызывало шумное веселье среди детей.
И вот тогда, в этом маленьком чешском городе, я подумал о том, что чехословацкие дети – очень счастливые, если взрослые придумывают для них такие веселые штуки.
Будьте же всегда счастливы! Я желаю вам этого от всего сердца. И не забывайте, что счастливый человек почти всегда добр, смел и великодушен и никогда не откажет в помощи каждому, кто в ней нуждается.
Что я могу сказать вам о своей пьесе? Она написана для того, чтобы прибавить людям хоть немного счастья и любви к своей родной земле. Я считаю, что это – одна из задач каждого писателя.
«Стальное колечко» – это сказка, но вместе с тем в ней много настоящей жизни и она происходит в наши дни.
Я писал эту пьесу-сказку в огромных дремучих лесах, сохранившихся еще невдалеке от Москвы. Эти леса называются Мещорскими. В них много озер, обширных болот, и до сих пор старые медведи бродят по чащам, выворачивают гнилые сосновые пни, где живут муравьи, и слизывают этих муравьев тысячами. Очевидно, это очень вкусная пища, потому что медведи рычат от удовольствия.
В этих лесах множество птиц и на полянах цветут колокольчики высотой в человеческий рост.
Все люди, все действующие лица в этой пьесе не выдуманы и живут в Мещорских лесах до сих пор – и Варюша, и дед, и бабка Анисья, и продавец Леденцов, и сержант Кутыркин, и даже медведь Страходеров. Только он не медведь, а человек, лесник, один из моих закадычных приятелей, но зовут его действительно Страходеров. Характер у него такой же, как у медведя в пьесе, – добрый и справедливый.
Сказочной кажется только девушка Весна. Но разве каждый из вас не встречал в своей жизни (а если не встречал, то еще встретит) таких прекрасных, сияющих красотой и сердечностью девушек? Конечно, встречал.
Их много в Чехословакии, так же как и в наших русских селениях. И каждая из них украшает нашу жизнь, как весна.
Я не хочу отымать у вас время на разговоры, когда вы ждете начала спектакля. Поэтому больше я ничего не скажу и только пожелаю вам, чтобы с вами самими случилось в жизни много всяких интересных историй, чтоб вы много путешествовали, читали, работали во славу своей страны, много веселились и никогда не забывали, что человек, как говорил наш писатель Владимир Короленко, «создан для счастья, как птица для полета».
1950
Моим читателям в Америке
Предисловие к американскому изданию «Повести о жизни». Напечатано в журнале «Новый мир», 1970, № 4.
Я искренне рад, что мои книги будут читать в Америке. Я люблю и глубоко уважаю американский народ за многие его великолепные качества.
Кроме того, меня не покидает надежда, что писатели Америки, узнав нас, новых русских писателей, окажутся товарищами многих из нас по тем мыслям, какие одинаково вдохновляют, угнетают или радуют нас.
Мне кажется, что у нас не может быть разных взглядов на литературу, если мы относимся к ней как к величайшему проявлению правды и красоты, проявлению духовной щедрости и расположения к человеку.
Я готов обнажить голову перед каждым простым человеком земного шара, кем бы он ни был, во внимание к тем неизбежным страданиям, какие он наверняка пережил, и тем скудным радостям, какие так редко скрашивали его жизнь.
Но есть единственное племя людей, перед которыми мы никогда не обнажим головы. Это те, кто исповедует насилие и диктатуру, кто жаден, кто тупо готовит войну и воспевает превосходство своей расы. От этих людей – все беды на земле. От них – тот яд, что отравляет нашу прекрасную, нашу любимую землю волнами атомных взрывов и грозит ее существованию.
Я люблю современных американцев и люблю их отцов и дедов, замечательных людей и пионеров Америки, – тех, кого воспели Купер и Брет Гарт, Марк Твен и Джек Лондон, О. Генри и Эдгар По, Лонгфелло и Уитмен.
С раннего детства я завидовал жизни Тома Сойера и Гекльберри Финна. Эти провинциальные американские мальчики стали всечеловеческими и вечными образами такой же силы, как Дон-Кихот.
Я пишу эти строки в Крыму, в городе Ялте как раз в те дни, когда исполнилось сто лет со дня рождения одного из самых гуманных людей на земле – писателя Чехова.
Чехов долго жил в Ялте. Здесь остался его тихий дом и сад, выращенный его руками.
Чехов был щедр к людям во всем, что он делал, но щедрее всего – в своих рассказах и повестях. Этого люди никогда не забывают. Только тот писатель заслуживает любовь народа, который легко раздает свои богатства и никогда не ждет, не требует благодарности.
Здесь, в Ялте, я часто думаю о Чехове и о трудном пути писателей. Помимо всего, они должны показать людям все великолепие, блеск и неожиданность подлинной жизни, не искалеченной людским безобразием. Этими свойствами – неожиданностью, блеском, красотой – жизнь пропитана до сердцевины, как пропитаны соками стволы деревьев и стебли цветов. Надо показать эти свойства жизни всем людям, надо напоить их этими волшебными соками – и в этом призвание каждого большого писателя и человека.
Я пишу и поглядываю за окно. Черное море налито в каменные берега, как расплавленное, нестерпимо блестящее олово. С севера, с гор, ветер несет сухой снег и желтые дубовые листья. Но вместе со снегом летят и первые лепестки миндаля, как крошечные вестницы недалекой весны.
По ночам слышно, как бесконечно шумит море. Этот величественный шум всегда вызывает мысль, что человек должен прекратить мучительное существование последних лет, полное страха и войн, будь они архигорячие или архихолодные, прекратить власть недостойных над достойными. Человек должен наконец стать, как ему и следует быть, доверчивым, добрым и спокойным. Недаром Чехов – я вижу его дом на склоне горы, – оказал пророческие слова, что люди увидят небо в алмазах и отдохнут до глубокого и свободного счастливого вздоха, до глубины души после мучительных и кровавых десятилетий.
Ниже я сделаю всего несколько замечаний о своей жизни.
Эта книга «Повесть о жизни» – моя автобиография, но доведенная только до 1922 года, то есть до того времени, когда мне было тридцать лет.
Описать свою жизнь хотя бы до 1960 года, я вряд ли успею. Слишком много событий произошло в моей жизни – то случайных, то неслучайных, и слишком много я видел людей – тоже случайных и неслучайных. Поэтому обо всем, что было до 1922 года, я упоминать не буду, а только коротко перечислю события моей дальнейшей жизни.
В 1922 году я жил на Кавказе – в Сухуме, Батуме и Тифлисе, где познакомился с забытым великим грузинским художником-примитивистом Нико Пиросманишвили. Он создал на своих картинах весь многокрасочный и многошумный Кавказ. Он не умел жить, но сумел в день рождения любимой женщины засыпать цветами до второго этажа домов весь переулок, где она жила в Тифлисе. Но об этом я еще напишу. В те годы я путешествовал по Азербайджану, Грузии и Ирану.
В 1924 году я вернулся в Москву. Работал во всяких газетах и в Телеграфном агентстве Советского Союза – ТАСС. Напечатал свой первый роман – «Блистающие облака». После этого перестал служить и стал писателем – «человеком свободной профессии».
Я много ездил по России, по Советскому Союзу и езжу до сих пор. Невозможно перечислить здесь все места, где я жил. Назову лишь те, которые отразились в книгах. Это – Полярный Урал, сожженные жестоким солнцем берега Каспийского моря, Волга, Украина, необозримые Полесские болота, Карелия с ее озерами, дыханием сырой хвои и белыми ночами, воспетыми тремя гениальными русскими поэтами и писателями: Пушкиным, Достоевским и Блоком.
Во время этих поездок я открыл для себя вторую свою родину (вырос я в Киеве, на Украине) – так называемые Мещорские леса невдалеке от Москвы. Это был край чистейшей и скромной поэзии, край лесной тишины, заросших озер, забытых рек, осенних ночей, пахнущих крепким вином, бесконечного цветения трав и лесных людей, сохранивших в своих сторожках всю прелесть, весь музыкальный звон и точность русского языка.
Но что говорить о поездках по своей стране! Она стала гораздо милее для меня и гораздо поучительнее с тех пор, как я начал посещать заграницу – Чехию, Францию, Италию, Турцию, Болгарию, Голландию и другие страны.
Я был на нескольких войнах – на первой мировой, на гражданской и второй мировой (будем верить – последней).
Я написал за свою жизнь много книг – свыше сорока, не считая рассказов (около двухсот), пьес и статей.
Мне около семидесяти лет, но жизнь предстает перед моими глазами, как перед человеком тридцатилетним.
Если бы это зависело от меня, то я жил бы еще долго, чтобы объехать всю землю и успеть написать все то, что я задумал. Во всяком случае, попробую поступить так, если люди по своей преступной глупости не разнесут нашу землю в клочки.
Ялта, 1960
Георге Топырчану
Предисловие к изданию на русском языке сборника «Стихи» румынского поэта Георге Топырчану. Гослитиздат, 1961.
Не знаю, есть ли у румынского народа поэт более тонкий и глубокий, чем Георге Топырчану.
Грусть, рожденная постоянной болью, несправедливостями жизни и тяжкой страдой терпеливого своего народа, не всегда явно, но постоянно присутствует среди быстро скользящих строчек его стихов. Так прячется в густой траве осколок стекла. Мы не видим его даже рядом, но внезапное солнце осветит его, он вспыхнет жгучим огнем и заставит нас зажмурить глаза.
Недаром румынский критик Михай Гафица писал о Топырчану, что его грусть всегда окутана дымкой тревожного веселья. Можно оказать и наоборот, что его веселье окутано дымкой трагической грусти. Но это не меняет дела.
Недаром сам Топырчану сравнивал свои стихи с мыльным пузырем, рожденным из слезы. Стоит ему лопнуть, и игра красок превращается в каплю соленой влаги.
В дальнейшем я окажу несколько слов о стихах Топырчану. Сейчас же мне хочется, хотя бы очень коротко, восстановить облик этого прелестного человека, румына до мозга костей, быстрого, блесткого и разнообразного в своей душевной жизни.
При мысли о Топырчану я вспоминаю его страну. Я видел ее мельком, осенью, когда рощи и сады, пажити и даже дальний край неба отливали коричнево-красным цветом высохших на солнце початков кукурузы.
Они сушились всюду, куда ни кинешь взгляд, – на крышах домов, полянах, во дворах, на оградах станционных зданий. Они висели тяжелыми связками вдоль стен, и казалось, что на деревенские дома надета ржавая средневековая кольчуга.
Река Прут проносилась зелеными водоворотами и размывала древние терракотовые берега. Ветер качал тополя. Шумные города сменялись тишиной виноградников, овинов, холмистых полей и крохотных церквушек.
Дунай катил свою мутную воду. Она, казалось, не могла поместиться в русле реки и вспухала, грозя затопить прибрежные городки.
Такой мелькнула передо мной Румыния из окна вагона, скрывая в своих далях уют деревень и песни своих поэтов.
Наш экспресс несся насквозь через Румынию с утра до ночи. Этот грохочущий перелет точно выражен в удивительных по ритму стихах Топырчану:
Вдруг
Из глубин равнины сонной
Возникает странный звук,
Отдаленный, монотонный,
Будто плеск реки студеной,
Грозный ропот вешних вод.
Приближается – и вот
Вырастает и ревет,
Наполняет небосвод…
Идет!
Это идет С тысячетонным грузом экспресс, и маленький зяблик кричит всем испуганным птицам – обитателям леса:
– Пустяки, прошел экспресс…
Эти стихи Топырчану (равно как и все его стихи) великолепны по ритму, несущемуся, не отставая от экспресса.
Румыны горячо любят Топырчану, да и как не любить поэта, который владеет всеми жанрами (если в данном случае приемлем этот термин) поэзии. Топырчану – лирик и едкий пародист, мастер стихотворных хроник, баллад и романсов, сатирик и полемист, песенник, не уступающий лучшим песенникам России и Франции, баснописец и визионер.
Он, кроме того, и прозаик – этот низенький человек, трогательно страдавший от своего малого роста, человек отважный, участник войн, быстро влюблявшийся и вряд ли испытавший полноту простого человеческого счастья. Для этого он был слишком мудр и застенчив, этот вечный странник:
За месяцем следует новый,
Недели бегут и года…
Сударыня, будьте здоровы!
Беру чемодан и – айда!
Бог весть, где прибьюсь я случайно
С цыганским моим багажом,
Какая влечет меня тайна
Бродяжничать в мире чужом?
Но душно мне в комнатках малых,
И в роли скитальца-жильца
Люблю я на кратких привалах
Кулисы менять без конца.
Таков он был, этот поэт, проживший на земле только пятьдесят лет (Топырчану родился 20 марта 1886 года и умер 7 мая 1937 года). На вид он был слаб, хрупок, но, несмотря на это, обошел пешком почти всю Румынию.
Зачастую авторы предисловий к работам какого-нибудь поэта занимаются пересказом его стихов. Критики назидательно объясняют читателям их содержание в том виде, в каком оно представляется им самим.
Занятие беспомощное и неблагодарное, вроде попытки рассказать своими словами «Соловьиный сад» Блока. Если человек собирается пойти в Эрмитаж и посмотреть «Мадонну Литта» Леонардо да Винчи, то совершенно незачем рассказывать ему содержание этой картины. Это всегда выглядит несколько наивно, не говоря о том, что такие «рассказы картин» просто скучны.
Да и понимание стихов – явление сложное и порой противоречивое. Стихи мы гораздо больше чувствуем, чем понимаем разумом, чувствуем как единое целое, как чувствуем, а не понимаем сырую и тихую осеннюю ночь, ту ночь, когда –
…одинокой блесткой
Повиснет, как всегда,
Над плоской
Равниною звезда…
Каждые хорошие стихи прибавляют маленькую драгоценную гирю на весы нашего познания мира, на весы, где взвешивается мертвая и живая вода. Но это светлая и легкая тяжесть.
Пусть читателей не пугают якобы взаимно уничтожающие друг друга слова «легкая тяжесть». Очевидно, наш язык еще недостаточно совершенен, чтобы выразить то единое состояние, какое зачастую возникает и в жизни и в поэзии. Вспомните пушкинское «печаль моя светла».
Поэтому я не буду «разбирать» (есть такое школьное выражение) отдельные летучие, крылатые и цельные куски поэзии, родившиеся под пером Топырчану. О них нужно только напомнить.
Когда я узнал Топырчану, я невольно подумал о нем как о «румынском Гейне». А кто из писателей и поэтов не мечтал о стремительно и божественно свободной прозе и поэзии этого саркастического и нежного человека?
Но вот я читаю строки:
Под их листвою, в роще, –
Привал мой травяной,
И тощий
Репей грустит со мной.
В этих строчках я слышу голос Роберта Бернса. Между этими двумя поэтами – Гейне и Бернсом – живет румын Топырчану.
С Топырчану не так легко сжиться, как с Бернсом. Тот прост, как колос ржи, ясен, как родник. А Топырчану сложен. Его обаяния не сразу действует на окружающих.
Бернс, если можно так выразиться, человек единой любви, единого страдания, его нетрудно просмотреть до дна, а Топырчану многообразен, изменчив, глубок, – то мимолетен и заразительно весел, то грустен. Классическая точность уживается в нем с артистической небрежностью, а серьезность – с юношеским легкомыслием.
Все эти черты существуют рядом и придают особую привлекательность облику этого человека.
Он не прошел по жизни легкой стопой. Он знал ненависть и любовь, но меньше всего он знал, что такое спокойствие, отдых, созерцание.
Он ненавидел мнимую цивилизацию буржуазного румынского общества – фальшивую, дешевую, показную, – одним словом, как говорят румыны, сплошную «шмекерию» – сплошной обман.
Из всего сказанного выше совершенно ясно, с кем был Топырчану. Конечно, с бедняками, с ремесленниками, с крестьянами, с рабочими, – с теми, кто страдал и трудился, а не с теми, для кого терпеливо страдали и работали бедняки.
В своей «Майской ночи», в стихах о сапожнике-чеботаре, он высказал эту мысль с полной ясностью:
Эх, чеботарь!
Каким проклятым колдовством
Ты осужден сидеть, как встарь,
На табуретишке твоем?..
Чеботарь жаждет только одного:
Швырнуть колодкой в государство
И в пух и прах разбить его!
Сила сочувствия поэта к своему обездоленному народу была так велика, что простые люди, еще не понимая многого в его поэзии, глубочайшим образом любили его и справедливо называли своим.
У Топырчану много законченных обликов поэта. Один из них – это облик великолепного и тонкого пейзажиста.
К природе Топырчану прикасался осторожно, как прикасаются к кусту, покрытому инеем, чтобы не осыпать его, или к крыльям бабочки, чтобы не стереть с них нежнейшую пыльцу.
Так осторожно он прикасался к ней потому, что любил ее всем сердцем. Вот весна:
Рытый бархат свежей пашни
Оставляешь за собой,
Расплавляешь снег вчерашний
В лужи влаги голубой…
И сменяют столь же точные слова об осени:
Раззвенелся листопад,
Стали дни короче,
И в лучах луны скользят
Траурные ночи.
Топырчану не стоит цитировать. Его нужно читать. Читать спокойно и свободно, открывая в течении его стихов все новые и новые богатства.
Да, румыны недаром так горячо, так искренне любят своего поэта, своего честного, талантливого, правдивого и блестящего соотечественника.
Я не знаю румынского языка, но, как многие, чувствую его – чувствую его особый ритм, его особый мир образов, его звучание, его некоторую необычность среди окружающих Румынию соседних языков.
Все это мы находим и в русских переводах стихов замечательного мастера Георге Топырчану.
Ялта, 1960